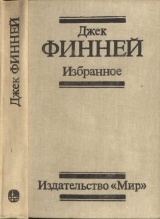
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Джек Финней
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
На улицу Грэмерси-парк я вернулся надземкой Тетя Ада услышала, как открылась входная дверь, и вышла из кухни с руками, по локоть выпачканными мукой. Я спросил, вернулась ли Джулия, она ответила, что нет, но, вероятно, вот-вот вернется, и я, поблагодарив ее, поднялся к себе в комнату.
День я провел насыщенный, а уж пешком находился, как давно не случалось, и я с удовольствием растянулся на кровати во весь рост. По временам ко мне долетали крики играющих в парке детей и уже хорошо знакомые цокот лошадиных копыт и позвякивание упряжи. Мне не хотелось уходить из этого Нью-Йорка: сколько еще интересного я мог бы увидеть в этом странном – и все-таки не чужом городе…
Конечно же, я заснул и проснулся только тогда, когда пришла Джулия, – до меня донеслись голоса ее и тети Ады из передней. Я быстро встал и вытащил часы: было чуть больше половины пятого. Надев ботинки и пиджак, я вприпрыжку спустился вниз – они стояли в передней, и Джулия, еще в пальто, демонстрировала тетушке свои покупки.
Мы все вместе прошли в гостиную Джулия на ходу развязывала ленты капора, а я поведал им историю, которую только что сочинил, – и поразился чувству вины, возникшему от того, что вынужден лгать двум этим доверчивым женщинам в глаза. Я сообщил, что зашел на почтамт с целью отказаться от личного номерного ящика, который снял, когда не имел постоянного адреса, и обнаружил в ящике срочное письмо. Оказывается, заболел мой брат, и, пока он не выздоровеет, меня просят приехать помочь отцу на ферме, так что придется сегодня же – прямо сейчас – отправиться в путь. Я вдруг испугался, что мне начнут задавать какие-нибудь сельскохозяйственные вопросы, но, конечно, ничего такого не случилось. Добрые женщины от души посочувствовали мне. И даже добавили, что сожалеют о моем отъезде; думается, это тоже было сказано искренне. Тетя Ада предложила мне подождать до ужина, но я ответил – нет, нужно ехать сразу, предстоит дальняя дорога поездом, тогда она попыталась вернуть мне часть уплаченных вперед за неделю, но не использованных денег – я отказался. И тут Джулия, внезапно вспомнив, воскликнула:
– А мой портрет?..
Я совсем уже забыл о нем и, глядел на нее, искал повода, чтобы отказаться. Но неожиданно для себя понял, что не хочу никакого повода. Наоборот, я хочу сделать портрет, это будет отличный прощальный подарок. Я кивнул и сказал, что если она сможет позировать прямо сейчас – мне не хотелось встречаться с Джейком, – то я нарисую ее, а потом уеду. Джулия поспешила наверх, привести себя в порядок – я попросил ее остаться в этом же платье, – а я последовал за ней, чтобы взять блокнот для эскизов из кармана пальто.
Поднявшись к себе, я уложил саквояж, обвел комнату взглядом – пусть это смешно, но я понимал, что буду скучать по ней, – и вышел с саквояжем в одной руке и блокнотом в другой. На площадке я откинул обложку, решив просмотреть сделанные за день наброски. И только я повернулся, чтобы спуститься вниз, как с лесенки, ведущей на третий этаж, сбежала Джулия и чуть не столкнулась со мной; волосы она сейчас подняла и уложила на затылке.
– Ой, дайте посмотреть!..
Она протянула руку за блокнотом. Конечно, я мог бы как-нибудь отвертеться, но мне было любопытно, что она скажет, и я отдал ей свои эскизы.
Думаю, что ее реакцию я мог бы и предугадать; ведь она жила в век абсолютной, почти молитвенной веры в прогресс, веры в технику и ее неограниченные возможности. Мы уже спустились вниз, и она остановилась посреди гостиной с вопросом:
– А это что такое, мистер Морли?
Ноготь ее коснулся лимузинов и грузовиков, которые я пририсовал на проезжей части Сентр-стрит.
– Автомобили.
Медленно, раздельно, будто это два слова, она повторила:
– Автомобили. – Поразмыслила и кивнула, довольная: – Ну, конечно, «самохода»! Хорошее словечко. Вы его сами придумали?
Я ответил, что нет, где-то слышал, а она опять кивнула:
– У Жюля Верна, скорее всего. В любом случае я совершенно уверена, что со временем у нас действительно появятся автомобили. И очень хорошо: по крайней мере они будут чище, чем лошади…
Перевернув еще страницу, она посмотрела на мой набросок церкви Троицы и Бродвея. Прежде чем она успела сказать хоть слово, я взял у нее блокнот и быстро пририсовал огромные здания, которые в будущем совсем задавят маленькую церковь. Потом я вернул рисунок Джулии, и, рассмотрев его, она кивнула опять:
– Замечательно. В высшей степени символично Придет время, и самую высокую на всем Манхэттене постройку окружат другие, гораздо более высокие Несомненно так. Но вы, мистер Морли, художник все-таки лучший, чем архитектор. Да чтобы удержать дома такой высоты, кладка у основания стен должна быть в полкилометра толщиной!.. – Она улыбнулась и вернула мне блокнот. – Куда прикажете сесть?
Я посадил ее у окна, повернул в три четверти и попросил распустить волосы; работал я остро отточенным твердым карандашом, чтобы выписывать каждую линию как можно тщательнее, не скрывая недостатки рисунка за грубым штрихом. Кроме того, твердый карандаш позволял гораздо тоньше наносить тени.
Выходило неплохо. Я правильно уловил овал лица, очертания глаз и бровей – обычно это для меня самое трудное – и принялся старательно выводить волосы: мне хотелось передать их точно такими, как они есть. Но времени я тратил много; вот уже и Феликс Грир вернулся домой. Я вытащил из кармана часы – почти пять. Феликс молча постоял рядом и, когда я поднял на него взгляд, одобрил мою работу быстрым вежливым кивком, но глаза у него были встревоженные, и я понимал, почему. Я и сам ощущал тревогу – с минуты на минуту явится Джейк Пикеринг и опять устроит скандал, а причинять людям постоянные неприятности в мое задание никак не входило. Я прибавил скорость, но старался де ржать себя в руках: я по-прежнему хотел, чтобы Джейк добрался домой из муниципалитета раньше шести или в крайнем случае половины шестого, а мне на то, чтобы закончить и уйти хватит теперь буквально пяти минут…
Конечно, я совершил непростительную ошибку, упустив из виду обстоятельство, разумевшееся само собой: что такой человек, как Джейк Пикеринг, ненавидящий свою работу и свое положение клерка, после свидания с Кармоди немедля вернется в муниципалитет и возьмет расчет. И вот – на сей раз я не видел, как он подошел к дому, – входная дверь открылась, закрылась, и он, как вчера, стоял на пороге гостиной. Но сегодня он слегка покачивался, и галстук у него съехал вниз. Пальто по обыкновению было расстегнуто, руки засунуты в карманы брюк, а шляпа сдвинута на затылок, но при этом еще и выпачкана в грязи.
Если он и потерял контроль над собой, то лишь отчасти: он был пьян, но вполне способен соображать, что происходит. И Джулия и я безмолвно уставились на него, а он переводил взгляд с ее лица на рисунок, с рисунка на ее лицо и обратно. Жили на земле некогда племена, которые не позволяли придавать изображению сходство с собой – они опасались, что оно отберет себе часть их души. Может статься, что и Джейк, не понимая этого и не догадываясь об этом, испытывал подобное же подсознательное чувство. Потому что его выводил из равновесия сам факт, что я рисовал Джулию, словно, по его мнению, мои глаза на ее лице и движения карандаша, воспроизводящего ее портрет, составляли предел интимности. Впрочем, пожалуй, эта гипербола не лишена оснований. Так или иначе, ситуация создалась для него невыносимая; его обуревала даже не злость, а нечто за пределами мышления – неистовая, всепоглощающая ярость. Он вытянул руку и, по-звериному оскалив зубы, показал на меня пальцем; вероятно, просто не существовало слов, чтобы выразить то, что он чувствовал. Потом рука его описала небольшую дугу, и палец переместился на Джулию. Шея у него, казалось, вспухла от напряжения, а голос, когда он наконец заговорил, звучал так хрипло, что с трудом различались слова.
– Погодите. Оставайтесь здесь. Погодите. Я вам покажу…
Потом, почти проворно и не качаясь, он круто повернулся и ушел обратно на улицу, хлопнув наружной дверью.
Я закончил портрет; в самом деле, теперь-то мне терять было нечего. Когда за Джейком захлопнулась дверь, я посмотрел на Джулию и даже рот приоткрыл, чтобы сказать что-нибудь, но потом просто пожал плечами. Да и что я мог сказать – разве только «Ну и ну» или другую какую-нибудь бессмыслицу. А Джулия выжала из себя улыбку и тоже передернула плечами, но лицо ее побелело как полотно – и оставалось белым. Что послужило причиной тому – неожиданность, возмущение, страх, – не знаю. Но она была еще и своевольна, и оставшиеся десять минут позировала, упрямо приподняв подбородок.
Как бы там и что бы там ни случилось, а портрет удался. Пришли остальные жильцы: Байрон Доувермен, за ним Мод Торренс; оба задержались на секунду, чтоб взглянуть на мою работу и похвалить ее. Из кухни появилась тетя Ада с сообщением, что кушать будет подано через пять минут. Она тоже полюбовалась рисунком и, раз уж я все равно задержался, настояла, чтобы я поужинал. Пришлось согласиться, чтобы не подумали, будто я убегаю от Джейка, оставляя Джулию объясняться с ним один на один; все, что мог, я уже натворил. Я готов признать, что немного трусил – бог весть, чего еще ждать от этого типа, – но трусил не без одновременного любопытства. Джулии портрет тоже понравился – она подняла на меня глаза и попросила надписать ей его на память. Доставая карандаш из кармана, я ломал голову над текстом: не мог же я просто расписаться и точка. «А, – решил я в конце концов, – семь бед – один ответ». И написал: «Джулии, с искренней симпатией и восхищением», – а про себя добавил: «И пропади ты, Джейк, пропадом». И поставил подпись.
За два дня, что я провел здесь, я почти не вспоминал ни о Рюбе Пайене, ни о докторе Данцигере, ни об Оскаре Россофе, ни о полковнике Эстергази, ни даже о проекте как таковом; они застыли где-то в глубине моего сознания далекими неподвижными точками, словно я смотрел на них в перевернутый телескоп. Однако за ужином они постепенно вновь обрели реальность: что они все подумают, выслушав мой рассказ? Что я нарушал естественный ход событий, вмешивался в них с недопустимой бестактностью? Вероятно, да; и, возможно, они даже будут правы, но я все равно не представлял себе, как можно было чего-нибудь избежать. За ужином говорили в основном о Гито и чуть-чуть о погоде, но меня это уже не интересовало. Для меня Гито вновь становился не более чем именем в старой книге – осужденный, казненный, давно забытый, кому он нужен в том мире, куда я готовился вернуться? Я механически ел, старался казаться заинтересованным, отвечал, когда ко мне обращались. Но по мере того как проект и связанные с ним люди вновь занимали в моих мыслях свои законные места, я все более и более отдалялся от этой эпохи и от этого дома.
Меня рывком вернули назад. Мы доедали ужин и не слышали, как открылась дверь на улицу – только по ногам вдруг пахнуло холодом. Я увидел, как Джулия, ее тетушка и Феликс, сидевшие напротив меня, уставились в гостиную не мигая, и обернулся одновременно с Байроном и Мод.
Он стоял посреди комнаты, под самой люстрой, вытаращившись на нас, словно вставший в рост медведь. Видно было, что он попал в какую-то историю: галстука не осталось, верхних пуговиц на рубашке – тоже, воротник был расстегнут и надорван, а на груди сквозь грязноватую ткань проступали капельки крови. И пока мы сидели, застыв в молчании, капельки проступали все сильнее, расползались по рубашке, соединяясь в кровавые пятна. Потом Джулия вскрикнула: «Джейк!..» – и резко встала, оттолкнув стул. Мы все тоже вскочили на ноги, но Джейк выкинул руки вперед и вверх, разжав пальцы как когти, и остановил нас. Руки его согнулись, он схватил себя за ворот и, рванув окровавленную рубашку, обнажил грудь. Нет, он не был ранен, вернее, не сильно и не в результате несчастного случая. На груди красовалась свежая татуировка – большие сине-черные буквы.
Я испытал желание рассмеяться от нелепости происходящего, или выразить протест, или крепко зажмуриться и сделать вид, что не случилось ровным счетом ничего, сам не знаю, что я хотел сделать, что я чувствовал, – на груди у него было выколото «Джулия».
– Теперь это останется со мной на всю жизнь.
– Он постучал себя пальцем по груди. – Ничто и никогда не сотрет этих букв. Пока я жив, ты будешь принадлежать мне, и этого тоже никто и никогда не изменит…
Он осмотрел нас всех, медленно переводя взгляд с одного на другого, повернулся и, преисполненный достоинства, отправился в переднюю, а потом наверх к себе в комнату – и мне уже не хотелось смеяться. Это был до крайности нелепый жест, почти немыслимый в том веке, к которому я привык. Но не в этом. Здесь, в эту эпоху, ничего абсурдного в поступке Джейка не было. И быть не могло: он действовал совершенно серьезно.
Джулия быстро прошла через столовую, побледнев, казалось, еще больше; через гостиную она почти пробежала, и мы услышали, что по лестнице она просто бежит. Саквояж свой я оставил в передней, пальто и шапка висели на большой вешалке с зеркалом посередине. Я не стал больше задерживаться – теперь я был здесь лишний.
У Лексингтон-авеню я взял извозчика и просидел всю дорогу, откинувшись назад и закрыв глаза. Что бы там ни происходило на улицах, меня оно сейчас не интересовало. Рассчитался я на углу Пятьдесят девятой и Пятой авеню, там же, где мы с Кейт вышли тогда из Сентрал-парка. Потом я углубился в парк и двинулся по аллеям, под редкими фонарями к северо-западу – и вскоре увидел впереди островерхий куб «Дакоты».
16
На следующий день я устроил себе выходной. Право же, я его заслужил; в конце концов он был мне просто необходим необходим какой-то переход между двумя эпохами, между двумя мирами. Спал я в своей квартире в «Дакоте» и, хотя в этом вряд ли была прямая нужда, слегка загипнотизировал себя перед сном. Я лежал в темноте в большой резной деревянной кровати, надев ту же ночную рубашку, которую надевал в доме № 19 по улице Грэмерси-парк, и знал, что где-то в центре города стоит старый почтамт с залом, освещенным круглыми газовыми фонарями; что во мраке нижнего Бродвея, перед аптекой, висит в своей узкой деревянной будке огромный градусник, показывающий сейчас, должно быть, градусов восемнадцать ниже нуля; что над ночными булыжными улицами Нью-Йорка, по эстакадам надземки, пыхтят игрушечные паровозики, освещая себе путь керосиновыми «прожекторами». Но утром, сказал я себе, я проснусь уже в своем времени. Я начал даже размышлять, как буду чувствовать себя в двадцатом веке на этот раз, но под влиянием самогипноза настолько расслабился, что почти спал, и, не успев ни до чего додуматься, заснул окончательно.
Утром, едва раскрыв глаза и еще не встав с постели, я уже понял, где я и в каком времени нахожусь, а буквально несколько секунд спустя получил тому прямое доказательство. До меня донесся звук, хорошо мне знакомый, хоть я и не сразу определил, откуда он идет: далекий, высокий, слегка зловещий гул. Я произнес вслух: «Реактивный самолет», – но в общем-то мне не требовалось никаких доказательств, я понимал, что вернулся, я ощущал это.
Через полчаса я вышел из «Дакоты» на Семьдесят вторую улицу и направился было в сторону склада, где размещался наш проект. И вдруг, без всякого заранее обдуманного намерения и не спрашивая себя зачем, вернулся обратно, дошел до ближайшего угла и двинулся на юг.
Квартал за кварталом я шагал по современному Манхэттену в круглой меховой шапке и длинном пальто, бородатый, усатый, длинноволосый, мало чем отличаясь, впрочем, от многих других прохожих. Я сознавал, что надо хотя бы позвонить начальству и еще Кейт, но, подчиняясь внутреннему побуждению, шел и шел пешком в сторону центра, останавливался на перекрестках по красному сигналу «Стойте», дожидался зеленого «Идите» и глядел, глядел вокруг на улицы, здания и людей сегодняшнего дня.
Удивительно, как много сохранилось в Нью-Йорке от прежних времен. Горожане не думают об этом, но, как только минуешь среднюю часть Манхэттена, это становится заметно. А ниже Сорок второй улицы я начал узнавать здания и целые группы зданий, сохранившиеся с восьмидесятых и даже еще более ранних годов. Однако не такое внешнее сходство я сегодня выискивал, – я искал сходство в лицах людей и должен прямо сказать, что не находил его.
Уверен, дело тут не в одежде, не в косметике и не в стиле причесок. Сегодняшние лица – просто другие, они какие-то более одинаковые и менее живые. Да, на улицах восьмидесятых годов я видел человеческую нищету, как видим мы ее сегодня, видел порочность, безнадежность и алчность, а на лицах мальчишек – ту же преждевременную серьезность, как в наше время на лицах мальчишек в Гарлеме. Но на улицах Нью-Йорка 1882 года чувствовалось еще и какое-то общее настроение, начисто исчезнувшее сегодня.
Это настроение читалось на лицах женщин, дефилирующих вдоль «Женской мили», по нарядным, давно исчезнувшим магазинам. Люди были оживлены, люди радовались тому, что находятся именно здесь и именно сегодня, сию минуту. Это настроение чувствовалось в тех, кого я видел в Мэдисон-сквере. Вы могли заглянуть им в глаза и увидеть там радость – радость от того, что они на свежем воздухе, на морозе, в любимом городе. А мужчины в деловых кварталах Бродвея, торопливые, привыкшие ценить свое время и деньги и замирающие в полдень, чтобы сверить свои большие карманные часы с красным шаром на здании «Вестер юнион», – ну что ж, их лица зачастую бывали сосредоточенны, а то и озабоченны, или жадны и нервозны, или самодовольны до предела. Лица несли на себе всевозможные выражения, как и сегодня, но на всех на них сохранился интерес к окружающему, и самые занятые люди останавливались взглянуть, какую температуру показывает гигантский градусник у аптеки. Но главное – никто из них не растерял целеустремленности. Сразу было видно, что им не скучно, черт возьми! И, глядя на них, я убеждался: они идут по жизни в стопроцентной уверенности, что она имеет цель. А это очень нужная штука – чувство цели, и потерять его – значит потерять нечто весьма существенное.
Сегодня лица совсем не те: когда человек один, лицо его просто ничего не выражает, замкнуто всецело в самом себе. Разумеется, мне попадались люди парами и группами, они разговаривали между собой, иногда смеялись, бывали даже более или менее оживлены – но лишь как отдельная группа. Они были отделены от окружающей их улицы, обособлены и отчуждены от города, в котором живут и к которому относятся с подозрением; в Нью-Йорке восьмидесятых годов я такого не замечал.
Я решил проверить это свое впечатление. На углу Двадцать третьей улицы я повернул и прошел полквартала до Мэдисон-сквер, встал у края тротуара, в стороне от потока пешеходов, и бросил взгляд вперед. Внешне сквер отсюда выглядел точно таким же. И люди двигались сквозь него и вокруг него. Но никто – уверен, что вы и сами знаете это, – не получал от этого сквера никакого особого удовольствия, Нью-Йорк стал другим, совершенно другим городом, и притом во многих отношениях.
За исключением северной своей стороны, застроенной теперь сплошь многоквартирными домами, Грэмерси-парк ничуть не изменился, так же как и дом номер девятнадцать. И вот я опять стоял и глядел на него. Единственным нововведением были жалюзи на окнах первого этажа, и казалось невероятным, что там внутри нет ни Джулии, ни тети Ады, занятых домашними делами. Я позволил себе поддаться искушению, пока оно не ослабло: взбежал по ступенькам и – еще одно нововведение, но я не придал ему значения – нажал кнопку электрического звонка. Секунд через пятнадцать, когда я уже начинал раскаиваться в своем порыве, дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина лет сорока с лишним в оранжевых брючках, обтягивающем свитерке под цвет и жилетке из какого-то серебристого материала.
– Извините, пожалуйста, – сказал я, – но… тут когда-то жили мои знакомые. Несколько лет назад. Мисс Джулия Шарбонно со своей теткой. Однако, по-видимому, они здесь больше не живут…
– Нет, – ответила она вполне благожелательно.
Мы здесь живет уже девять лет, а до нас люди жили четыре года, и их фамилия была не Шарбонно.
Я кивнул, словно услышал то, чего ждал. А, собственно, чего еще я мог ждать? Но все не уходил: мне хотелось заглянуть в переднюю, и женщина вежливо отступила на шаг, предоставляя мне такую возможность. Стены оказались оклеены обоями с хрупким голубым узором по белому, а с потолка свисала роскошная хрустальная люстра. Передняя выглядела гораздо богаче и была совершенно другой, за исключением черно-белой плитки на полу – пол оставался тем же.
Она, конечно, не предложила мне посмотреть другие комнаты; где-где, а в Нью-Йорке это не принято. Я улыбнулся, поблагодарил и ушел восвояси. Сам не знаю, зачем я приходил сюда, – просто захотелось взглянуть. Я вернулся на Двадцать третью улицу, взял такси и поехал «на склад».
На этот раз обстановка тут совершенно не походила на прежнюю. Мужчину в маленькой конторке на первом этаже звали Гарри, во всяком случае так было вышито красными нитками над нагрудным кармашком белой спецовки фирмы «Бийки». Он сообщил, что ему приказано передать мне, если я появлюсь, чтобы я поднялся в кабинет доктора Россофа, и я поднялся. Но там меня встретила только медсестра, та самая крупная привлекательная женщина с проседью в волосах. Она поздоровалась со мной, задала обычные вопросы, однако, как мне померещилось, без особого интереса; возможно, того и следовало ожидать. Мне придется немного подождать, сказала она: сейчас она позвонит д-ру Россофу, и он через минуту придет.
Через четыре-пять минут он действительно пришел, протянул руку, приветствуя меня как всегда, поздравляя, нетерпеливо расспрашивая, но и он, несомненно, переменился. Буквально через минуту я почувствовал, что он какой-то рассеянный, слушает меня вполслуха, иной раз даже поддакивает невпопад. А вскоре в меня вселилась уверенность, что он хочет от меня избавиться и вернуться к прежним своим занятиям, к тем, которые прервал ради меня. Потому что он отослал меня в «отдел перепроверки», не предложив даже кофе, хотя на плитке рядом с нами стоял далеко не опорожненный кофейник, – уж это на Оскара было вовсе не похоже.
Но если бы дело сводилось только к кофе! Никто из других не пришел к Оскару в кабинет повидать меня, и сам он покинул меня у двери «отдела перепроверки», хлопнул по плечу и побежал прочь. В комнате оказался один только техник, возившийся с магнитофоном, да через секунду вошла девушка-машинистка. Я сел и начал говорить: изложил все, что случилось со мной за эти два дня, очень кратко, но стараясь ничего не выпустить, потом принялся называть произвольные имена и факты, все подряд, что приходило в голову и поддавалось проверке.
Минут через двадцать я задал вопрос, где остальные, и техник ответил, что они на большом совещании, которое началось еще вчера и продолжается до сих пор. Это было объяснение и не объяснение, и я вдруг понял, что обижен невниманием к своей особе, совсем как дитя. Да и техник продержал меня вдвое дольше, чем в предыдущий раз, когда я заявил, что иссяк, он сказал, что ему велено продолжать процедуру не меньше двух, в крайнем случае полутора часов. На полтора часа меня кое-как хватило, правда паузы к концу становились все длиннее и длиннее. Каждые двадцать минут являлся тот же высокий лысоватый человек, что и раньше, и забирал у машинистки отпечатанный материал.
Наконец Оскар Россоф вернулся. Девушка напечатала мои последние слова и вытащила листок из машинки. Техник остановил магнитофон. Оскар жестом показал мне на стул рядом с собой.
– У нас совещание, Сай, очень ответственное совещание. Похоже, что мы должны вообще прикрыть весь проект; впрочем, тут я еще не уверен. Мы приглашаем вас на совещание, но сначала я должен вам кое-что рассказать – не прерывать же его ради объяснений. Все довольно просто. Мы вам не говорили, но и до вас и одновременно с вами мы ставили и другие эксперименты. Попытка у Вими провалилась. Там есть участок поля боя, который не трогали с первой мировой войны. И вот Франклин Миллер выскочил из блиндажа, где вместе с пехотным взводом и со вшами – настоящими вшами – пересидел в грязи четырехдневный, хоть и поддельный, артиллерийский обстрел. Но выскочил он на пустое поле с обвалившимися окопами и проржавевшей колючей проволокой полвека спустя после заключения перемирия. Сегодня он уже дома, у себя в Калифорнии.
К нашему общему удивлению и даже недоумению, попытка у Собора Парижской богоматери, возможно, и удалась. Удалась в течение одной неполной минуты, пока наш «француз» не утратил мысленной связи с обстановкой и не перенесся мгновенно обратно в двадцатый век. Однако мы всерьез полагаем – я вам как-нибудь расскажу об этом подробнее – что десяток-другой взволнованных вздохов он сделал на берегах Сены в три часа ночи зимой 1451 года. Более пятисот лет назад, подумать только! А попытка в Денвере увенчалась полным успехом. Тэд Брител очутился в крошечной бакалейной лавчонке на углу, купил и выпил бутылочку содовой, поболтал с хозяином. А потом вышел на улицу и попал в Денвер 1901 года – тут нет и тени сомнения, у него получилось, так же как и у вас. Так же как и вы, он с предельной осторожностью провел там полдня, а потом подвергся перепроверке. Вот об этом и совещание, Сай. Вчера мы просидели до половины второго ночи, а сегодня без четверти девять начали снова…
Оскар нахмурился, зажмурил глаза и вдавил ладони в глазные впадины – то ли голова у него болела, то ли недоспал, а скорее всего и то и другое сразу. Потом он взглянул на меня, часто моргая, и сказал:
– Закавыка получилась, Сай. Я имею в виду – после перепроверки. Тэд назвал одного знакомого, с которым учился вместе в колледже Нокса, в Гейлсберге, штат Иллинойс. Тэд даже встречался с ним несколько раз потом. И живет он-де в Филадельфии, как и Тэд, и занесен в телефонную книгу. Только вот теперь его нет. Никто никогда не слышал о нем там, где он должен бы работать. Его нет в списках государственного страхования. Ничего о нем нет и в архивах колледжа. Он, понимаете, не существует более. – Оскар говорил спокойно и деловито. – Не существует, кроме как в памяти Тэда и только Тэда. Что бы и как бы Тэд ни делал в Денвере в середине зимы 1901 года, как бы осмотрителен ни был, но это повлияло на какое-то происшедшее там событие или события. Что-то изменилось, и соответственно изменились и последующие события. – Оскар чуть заметно пожал плечами. – Так что теперь этот самый человек как бы никогда и не рождался, только и всего. А что еще могло перемениться, какие еще различия могут таиться в тех людях или в таких вещах, о которых Тэд Брител просто ничего не знает? Кто это может сказать? То ли изменилось многое, то ли вовсе ничего… – Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, затем Оскар резко поднялся на ноги. – Вот почему и совещание. А теперь пошли…
Когда мы вошли в конференц-зал, присутствующие подняли головы; народу было много, свободных мест почти не оставалось. Некоторые рассеянно кивнули мне и сразу повернулись обратно к доктору Данцигеру – тот говорил, не повышая голоса. Он выглядел спокойным, чего никак нельзя было сказать о большинстве других: пиджаки долой, галстуки тоже, никто не старался выглядеть бодрым, и повсюду были окурки и чертики в блокнотах. А Данцигер сидел откинувшись, удобно скрестив ноги, и его большая, со вздутыми венами рука расслабленно перекинулась через спинку стула.
– …знания, которые мы приобрели в результате длительных исследований, – говорил он. – Нет никакой необходимости поднимать и тащить в лабораторию все океанское дно. Чтобы провести полный анализ одной-единственной пробы и разобраться во всех побочных обстоятельствах, требуются месяцы, даже годы. Именно так нужно подходить и к тем данным, к тем пробам, если хотите, которые мы получили в результате трех наших удачных попыток. Их можно изучать годами, и они будут раскрывать нам все новые и новые знания. Но о новых попытках не может быть и речи.
Он не изменил позы, но голос его стал глубже, и в нем появились такие авторитетные нотки, что мне лично выступать оппонентом Данцигера не хотелось бы.
– Ибо наверно, совершенно неверно, если мы будем продолжать эксперименты только на том основании, что у нас получается. И это становится все более очевидным по мере того, как наука использует открывшиеся перед ней принципиально новые возможности и докапывается до глубочайших загадок Вселенной: незачем и нельзя предпринимать что бы то ни было только потому, что мы знаем как. Нет нужды в данном собрании приводить общеизвестные примеры и перечислять последствия непонимания этой аксиомы. Урок ясен. И опасность любой новой попытки ясна не менее. Мы не имеем права делать больше ни одного шага в прошлое. Мы не имеем права вмешиваться в него даже самым незначительным образом. Не имеем права, поскольку не знаем, что значительно и что незначительно. Нам еще не известны результаты последнего путешествия мистера Морли, однако даже если окажется, что наши осторожные попытки не повлекли за собой по-настоящему серьезных последствий, – это слепая удача, и только. Но один человек, пусть заурядный – хотя для себя самого он не был заурядным, он был единственным, – этот человек не существует более. Вернее будет сказано: никогда и не существовал, как бы странно это ни звучало…
В зал на цыпочках вошел высокий лысый – тот, из «перепроверки». Полковник Эстергази сразу заметил его, поднял руку, лысый быстро подошел к нему, передал несколько бумаг, шепнул на ухо что-то, на что Эстергази ответил кивком, и так же на цыпочках вышел. Данцигер продолжал:
– Во всех других отношениях мир наш, кажется, не изменился. Однако в следующий раз все может кончиться по-другому, немыслимо, катастрофически по-другому. Продолжать в том же духе явилось бы верхом эгоизма и безрассудной безответственности. Полагаю тем не менее, что наше совещание было необходимым, что мы обязаны были обсудить все в мельчайших деталях. Но что касается решения, тут обсуждать нечего – выбора у нас просто-напросто нет.
Он замолчал и оглядел сидящих за столом, словно ожидая вопросов и в то же время сомневаясь, могут ли они найтись. Через несколько человек от него один из присутствующих поднял руку, опустил ее, снова поднял. Имя его, к сожалению, вылетело у меня из головы, – это был профессор истории, представитель какого-то университета одного из восточных штатов.
– Вы, разумеется, полностью правы, доктор Данцигер. И я, безусловно, не собираюсь с вами спорить. Я не присутствовал на всех предыдущих совещаниях, не имел такой возможности – и не собираюсь притворяться, будто глубоко понимаю все происшедшее. Я только думаю… то есть мне претит мысль об отказе от любых дальнейших попыток, если есть хоть малейший шанс… Нельзя ли было бы каким-то образом ввести – я бы сформулировал так – «абсолютного наблюдателя»? Никому не ведомого и не видимого, не влияющего ни на какие события… Скажем, человек, надежно спрятавшись, незримо присутствует на первом представлении «Гамлета» – подумать только! Если бы он спрятался задолго до прихода зрителей и актеров и оставался в укрытии, пока они все не уйдут. Или «абсолютный наблюдатель» при… в общем было по крайней мере одно заседание кабинета Дизраэли, за любые сведения о котором я продал бы душу, – никто не знает, о чем там говорилось, а это очень важный момент. Единственное, что я прошу, – изучить возможность направить в прошлое «абсолютного наблюдателя». Поискать способ…








