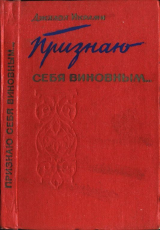
Текст книги "Признаю себя виновным..."
Автор книги: Джалол Икрами
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Моя рассеянность была, конечно, результатом ночных происшествий… (Сейчас я выражаюсь очень прозаически: не говорю о любви, не говорю даже о страстном увлечении, называю все «происшествием»). Из головы не шли строки – «Не тверди мне: «Анвар-джон, брось тропу любви!» Я не внемлю ничему, не вернусь назад. Пусть пустынею бреду, счастья не найду, – невозможен все равно для меня возврат». Строки эти повторялись механически. При свете дня я не мог придавать им того значения, какое придавал ночью. А между тем подсознательно прислушивался к скрипу каждой школьной двери, к шагам каждой женщины. Я и боялся прихода Зайнаб, и хотел ее увидеть, и благодарил за то, что она не идет.
Думал ли я о Сурайе? Конечно! Встречи с Сурайе я ничуть не боялся. Был уверен, что она в своем классе. Заметил, что, вопреки обыкновению, жена не зашла ко мне перед началом уроков. Но и это не встревожило меня. Я даже радовался: ведь здесь, в школе, разговоры и объяснения совершенно неуместны. Сурайе молодец, она это понимает!
Когда мне в третий раз напомнили, что я давно должен был уехать, сказали, что даже те преподаватели, у которых сегодня нет уроков, пришли получать зарплату – я встрепенулся. Можно даже сказать проснулся. Кто-то произнес: «Последняя зарплата перед Первым мая…» Тогда я принял молниеносное решение: сяду в такси, на попутную машину, сделаю всё, что угодно, но деньги привезу!
От школы до моей квартиры не больше ста шагов. (Вот пишу «моей квартиры», а надо бы – «директорской». Завтра или послезавтра приедет новый директор, придется перебраться в домик, который нашла нам Шарофатхола). Сто шагов… И шел я довольно быстро. Но именно в этот короткий промежуток времени, пока я шел, меня будто встряхнули и всё встало на место. Я прозрел. Чувство острого стыда все больше и больше овладевало мной. Увидел Себя со стороны, все свои ночные и утренние поступки, всю оскорбительность моего поведения… Оскорбительным мое поведение было не только в отношении Сурайе и Зайнаб, но и в отношении меня самого. Подходя к дому, принял решение: сейчас же просить у Сурайе прощения, рассказать, как началось и как разрасталось мое увлечение и к какой глупости привело. «Скажу, что виноват, она меня поймет, поймет, не может не понять!..» С этими мыслями я вошел в дом.
Сурайе не было. В комнате Зайнаб царила тишина. Да и не думал я в эту минуту о Зайнаб, хотя, конечно, если бы увидел ее – и перед ней бы извинился.
Несколько минут я ходил по комнате, подбирая слова, которые скажу Сурайе. О том, что надо ехать в город за деньгами, опять забыл. На счастье или на несчастье – не знаю, я увидел портфель, в котором обычно привожу зарплату из района. Спохватившись, я взял шляпу и плащ, и в эту самую минуту вошла Сурайе…
Без малого одиннадцать лет прожили мы вместе. Я был уверен, что знаю свою жену, как себя. Всегда мог предсказать, что скажет она по тому или иному поводу, в каком случае рассердится, в каком рассмеется. Преобладающей чертой характера своей жены я считал здравый смысл, рассудительность, спокойствие. И не я один. Все наши товарищи по работе ставили Сурайе в пример, как наиспокойнешего члена школьного коллектива. Я мог вспылить, мог даже раскричаться. Сурайе в минуты споров и разногласий была мягче, чем когда-либо. Ждала, пока я отойду, а потом высказывала свою точку зрения. И это почти наверняка сокрушало все мои доводы…
Я написал: «знаю свою жену, как себя», а сейчас подумал – знаю ли я себя? Во всяком случае, две недели назад я знал себя хуже, чем сейчас…
… Помню ясно, – что с плащом через руку, с шляпой и портфелем в другой руке, я стою в проеме двери и прямо на меня идет моя жена. Глаза у нее расширены. В двух шагах от меня она резко останавливается и устремляет на меня горящий взор… И молчит. Пропускаю ее. Она проходит в комнату.
– Я еду за деньгами, – говорю я.
Она молчит.
Кажется, начинаю понимать ее состояние. Она хочет что-то сказать, но не может… Видимо, горло ее перехватила спазма.
– Сурайе, – говорю я, как можно ласковее, но в моем тоне так очевидно намерение предупредить ее вспышку, что я и сам этим недоволен. – Сурайе, – повторяю я, – нам очень, очень нужно поговорить. Я должен сознаться… Во всем считаю себя виновным…
И тут она бьет меня наотмашь по лицу и кричит, кричит во весь голос:
– Негодяй! Спутался с какой-то потаскухой! В своем доме…
Я отшвырнул портфель и шляпу на кровать, схватил жену за руки… Я не помнил себя от бешенства… Она продолжала сыпать оскорбления. Последняя фраза, которую я услышал, поразила меня своей ужасной несправедливостью:
– Развратник и лжец! Мне известно, вы всё заранее подготовили…
Тут открылась дверь детской. И я увидел – прижимаясь к стенке, скользнула к выходу Зайнаб. Она, конечно, всё слышала.
Оскорбления ведь сыпались и на ее ни в чем неповинную голову. Нужно было ее удержать. Явился план: сесть втроем, объясниться и всё уладить…
Я выбежал на улицу, закричал: «Зайнаб! Зайнаб!»
Она обернулась и взглянула на меня с таким презрением, что я готов был провалиться сквозь землю. Несколько слов, которые сказала наша гостья, почти буквально повторили последнюю фразу Сурайе…
Я вернулся в комнату. Моя жена билась на постели в рыданиях. Не сказав ни слова, не попрощавшись, я взял портфель, шляпу, плащ и вышел из дому. Ноги мои одеревенели, всё тело плохо мне подчинялось.
Как заведенный, пошел я в школу, позвонил Махсумову и попросил посодействовать мне добраться до района… Потом я пошел в сельсовет и, помнится, вполне вежливо разговаривал с Мухтаром и он мне так же вежливо отвечал. Сказал, что машина Заготхлопка идет в город, но что он убедил директора и тот разрешил сделать крюк и завезти меня в райцентр. Я поблагодарил. Махсумов вдруг сказал, что сейчас разыщет мою попутчицу.
– Какую попутчицу? – с недоумением спросил я.
Секретарь сельсовета как-то особенно улыбнулся и ответил с непонятным мне тогда ехидством:
– О, весьма желанную для вас… Вашей попутчицей будет инспектор облоно… Не помню фамилии…
– Кабирова?! – спросил я чуть ли не с ужасом.
Махсумов откровенно расхохотался и побежал искать Зайнаб. Но тут подъехала машина, и бухгалтер Заготхлопка, который сидел рядом с шофером, стал торопить: «Скорей, скорей, у меня нет ни минуты времени!»
Короче говоря – мне повезло…
Вот уж, поистине, нелепость! В моих записках, что ни слово – можно повернуть и так, и эдак. Конечно, повезло бы мне как раз в том случае, если бы Зайнаб нашли и мы уехали бы вместе. Уж – будь я не один – всё, происшедшее позднее, разумеется, не могло бы случиться. Но в тот момент я очень обрадовался, получив возможность удрать от «желанной попутчицы».
Юлиус Фучик в своем предсмертном произведении «Репортаж с петлей на шее», в одном месте пишет, что коммунист должен оставаться коммунистом везде, никогда не давать себе отпуска от своих убеждений. Не только работая, но и в поезде, и в ресторане, и дома проверять каждое свое слово. Не совершать поступков, не рассмотрев их мысленно с партийной точки зрения. Это не дословная цитата, но за смысл я ручаюсь.
Был ли я коммунистом в ту ночь, и в тот день и в следующую ночь? Определяйте сами. Одно знаю наверное – я позволил себе распуститься.
Впрочем, и это требует объяснения.
Прослеживая внимательно всю цепь, звено за звеном, я обнаруживаю, что самую тяжкую ошибку совершил не тогда, когда влюбился. Нет, я пал жертвой другого недостатка. Очень распространенного и тем самым, значит, наиболее опасного.
Моя любовь к жене – хотя и искренняя и серьезная – и моя страстная влюбленность в Зайнаб были начисто лишены уважения.
Неуважение к женщине – вот в чем я вижу теперь корень зла. А ведь это означает и отсутствие уважения к самому себе.
Впрочем, когда я ехал на машине в райцентр, я думал не об этом. Главным и всеобъемлющим было чувство обиды. Хорошо еще, что бухгалтер Заготхлопка сидел в кабине с шофером, а я в кузове. Разговаривать с ним не пришлось. Уж какой там из меня собеседник был в тот день!..
Ветер дул в лицо. Это меня немного освежило… Примечательно, что, проведя бессонную ночь, а потом пережив столько всяких волнений, без завтрака и без обеда, я был еще полон сил. О еде я ни разу не вспомнил. Перебирая события минувших суток и стараясь найти объяснение тому, что произошло, я во всем обвинял одну лишь Сурайе. Ее неразумная, слепая ревность казались мне единственной причиной скандала. Ведь я шел к ней с открытой душой, а она… Мысленно я не прекращал спор со своей женой. Временами воображал себе, как, хлопнув дверью, уйду из дому… Но, честное слово, даже допуская возможность разрыва с женой, я не собирался осуществить мысль, заложенную в переписанной мною газели Саади. Зайнаб, вместе со встречным ветром, улетела назад, улетела навсегда… Еще через минуту я уже рисовал себе, как происходит примирение с Сурайе. Каюсь: я видел себя в роли мужа-властелина, прощающего хорошую, но неразумную жену. Даже приготовил соответствующую речь!..
… Деньги в райцентре я получил довольно скоро. Следовало бы сразу же уехать обратно, но, как это часто бывает, обстоятельства складывались против меня. Заврайоно вызвал меня к себе. Вместе с ним мы ходили в райисполком и в райплан – надо же было воспользоваться приездом и похлопотать о строительных материалах для предстоящего ремонта школы.
Короче говоря, освободился я часам к семи. И тут, как на зло, встретил одного приятеля, с которым учился в институте. Он потащил меня домой, ничего не желал слушать: «День рождения сына. Гости будут. Обидишь!». Я отнекивался, но безрезультатно. Пришлось пойти, взяв с него слово, что он поможет мне достать машину до Лолазора.
Приятель мой занимал отдельный домик с садом. Столы были расставлены под навесом, увитым виноградом. Гостей было много, и все обещали оказать мне содействие – доставить домой. В ожидании приглашения к столу, мы сидели на суфе за достарханом и пили зеленый чай. На очаге шипел большой котел – готовили традиционный плов. Вскоре нас пригласили к столу, и начались тосты. Один за другим. Ели мало, приберегая силы для плова, который, по словам хозяина, был особенный…
Прошло немного времени и я понял, что на машину мне нечего рассчитывать… Я нервничал, пытался незаметно уйти, но это не удалось. Вскоре стал накрапывать дождь и выручил меня. Выручил ли?… Началось великое переселение народов – в дом. В веселой и шумной кутерьме я ускользнул незамеченным. Смертельно усталый, голодный и злой вышел я на улицу…
Тут началась дорожная эпопея, которую знает всякий сельский работник. От райцентра до Лолазора двадцать пять километров, из них двадцать два по шоссе. Раз в день ходит автобус. Было около двенадцати часов ночи. Ни одного такси. Все мои надежды – на попутную машину. Доехать по шоссе до поворота, а там полчаса – и я дома.
…Попутная полуторка подвернулась во втором часу ночи. Я ждал ее больше часа. И за этот час не чувствовал себя ни пьяным, ни сонным. Но когда уселся рядом с шофером, уже минут через двадцать, надышавшись парами бензина, раскис, одним словом, опьянел.
(Боюсь, что в этих своих объяснениях я похож на пьянчужек, которым приходится оправдываться перед властями или перед женами. Мои товарищи по работе знают, что за десять лет жизни в Лолазоре я не был пьян ни разу, даже в праздники).
Боролся я со сном и с опьянением всеми средствами: щипал себя, курил, хотя я и некурящий, – брал махорку у шофера, – даже пробовал вместе с ним петь русские песни. Когда я запел, шофер так смеялся, что появилась новая опасность – свалиться в кювет.
Как и полагается, много раз останавливались – чтобы продуть бензопровод, и чтобы заправиться водой, и чтобы подкачать задний баллон: нормальное путешествие из райцентра в кишлак.
Но когда я вышел из машины, то вдруг почувствовал, что у меня ноги словно из хлопка. Голова еще кое-как работает, а ногами владеть не могу. С трудом оторвался я от машины. Шоферу некогда было со мной возиться, некогда заезжать в Лолазор, тем более, что снова начинался дождь, и он боялся, как бы не промок его груз.
Я махнул ему на прощанье портфелем и остался один на шоссе. С трудом заставил себя идти. Но, добравшись до первого пня, сел. А если бы не сел – обязательно бы упал.
Сколько я так просидел – пять минут, или полчаса – не помню, не знаю. Крупные капли дождя привели меня в чувство. Невероятным усилием воли я заставил себя подняться. Было бы очень неприятно, если бы кто-нибудь из лолазорцев увидел меня в таком состоянии. Я даже помню, что вслух убеждал себя держаться ровнее, идти быстрее…
Только подойдя к кишлаку, я обнаружил, что со мной нет портфеля. Хмель и сонливость слетели в ту же секунду. Обратно я почти бежал. Я твердо помнил, что из машины вышел с портфелем. Обронить его по дороге? Невозможно. Вернее всего – я оставил его возле пня, где присел отдохнуть.
Долго я топтался у этого пня, сжег коробок спичек, обшарил всё вокруг, дошел до шоссе. Портфеля не было…
А дождь всё усиливался…
Разве задумывался я – куда идти? Разве вспоминал о горькой обиде, нанесенной мне Сурайе?.. Она встретила меня радостным восклицанием и бросилась ко мне на грудь, обняла и расцеловала, хотя с меня лили потоки воды.
Ни слова не говоря, я повалился на стул.
Мухаббат и Ганиджон спали. В комнате было чисто прибрано. Ужин ждал меня на столе. Ни о чем не расспрашивая, Сурайе сняла с меня шляпу, плащ, вытерла мне лицо и шею полотенцем.
Я подбежал к письменному столу и выдвинул ящик, чтобы найти сберкнижку. Вынул ее, положил на стол…
– Вот, – сказал я, – это всё надо отдать…
– Что случилось? – напряженно улыбаясь, спросила Сурайе.
Задыхаясь от волнения, я рассказал ей о потере. «Что делать? Что делать?» – твердил я.
– У нас есть отрез на костюм, золотое колечко; серьги, подаренные мне мамой… Всё надо продать, – отвечала жена.
Я целовал ей руки и говорил, говорил, рассказывал всё как было… Когда я заговорил о Зайнаб, моя жена немного покраснела. Она считает себя виноватой, – сказала Сурайе, – и тоже просит прощения за необоснованную ревность… Я не дал ей продолжать… Мы строили планы дальнейшего поведения. Мне казалось, что нужно как-нибудь скрыть это несчастье, раздобыть любыми путями деньги…
– Не дай бог, узнают в школе, – шептал я. – Ведь там ждут получки…
Я был болен, совсем болен. Кажется, бредил. Сурайе гладила меня по голове и мягко убеждала не таить ничего от товарищей, ни на шаг не отступать от правды.
– И о Зайнаб рассказать? – спрашивал я.
– Да.
– О том, что влюбился?
– Да.
– И о том, что был пьян?
– Да.
– А где Зайнаб? – спросил я, но ответа не дождался. Кажется, опять потерял сознание или уснул.
Когда я открыл глаза, в комнате сидели Бакоев, Елена Ивановна, еще несколько учителей и секретарь нашей парторганизации – бригадир колхоза.
Я хотел рассказать им всё как было, но растерялся, не мог ничего толком объяснить и только метался по комнате. Они меня прервали. Сурайе давно рассказала им все обстоятельства дела, – сказали они.
…Около полудня к нашему дому подъехала машина, и меня арестовали.
…Когда лейтенант милиции, в сопровождении секретаря сельсовета (председатель сельсовета всё еще был в отъезде) вошли, и мне был предъявлен ордер на арест, внешне спокойнее всех держалась Сурайе… Но я-то знаю свою Сурайе, знаю, чего стоило ей спокойствие в то утро… Товарищи мои по работе в первую минуту как бы окаменели. Потом все вместе стали кричать, что это недоразумение, что они ручаются, что быть не может… Лейтенант милиции вынужден был их оборвать. Он сказал, что выполняет свой долг, что от него решительно ничего не зависит, что он просит не мешать…
Меня повезли в город, откуда я уехал меньше десяти часов назад. По дороге мы остановились на минуту у сельсовета. Секретарю надо было захватить из конторы какие-то бумаги и забежать домой. Я сидел между лейтенантом и милиционером. Мимо мелькали лолазорские дома, ставшие мне такими родными за десять лет, проведенных здесь… Впереди, рядом с шофером, не оборачиваясь ко мне и не разговаривая, сидел Мухтар, который ехал в город в качестве представителя местной власти…»
Глава 12.
Ворон соколу сказал: „Мы с тобой – друзья, —
Оба – птицы, кровь одна, и одна нам честь!“
Сокол ворону в ответ: „Верно! Птицы – мы,
Но различье знаешь сам, между нами есть.
То, чего я не доел, съест и царь земли,
Ты же, грязный трупоед, должен падаль есть“.
Абулькосим Унсури.
После того, как Мухтар, перед отъездом в район, забежал на несколько минут домой, Зайнаб с еще большим ужасом смотрела на отпертую дверь, чем раньше на запертую.
Трудно, ах как трудно что-либо понять! Последние слова Мухтара опять были о счастье. Вот, оказывается, и кражу можно считать счастьем. Четыре года назад, когда он пытался вовлечь ее в спекулятивные комбинации, ему удалось найти слова, которые ее не то, чтобы убедили, но притупили в ней голос совести. Говорил, что помогает каким-то несчастным многодетным вдовам, не имеющим профессии. Они, эти вдовы, продадут на базаре жатый ситец или дамскую резину на несколько рублей дороже – и накормят своих детей. А то, что и к его рукам от подобных операций прилипает часть выручки, он оправдывал необходимостью возместить потерю времени.
Получалось, что он добряк, благодетель бедняков. Она ведь никогда не считала его доходы, не знала, велики они или малы. Догадывалась, но только смутно, что некоторые его дела и делишки пахнут нарушением закона. Но отмахивалась от этих догадок. Случалось, конечно, что при встречах они ссорились. Тогда Зайнаб позволяла себе и намеки, и упреки. Но в душе была уверена – ее Мухтар хороший. Немного запутавшийся, но в основе вполне порядочный человек.
Утренняя сцена была ужасной. Такого глубокого падения Зайнаб не могла и предположить. И как раз со вчерашнего вечера Мухтар не называет ее иначе, как жена. Говорит, что они единое целое. Поминутно повторяет слово «счастье».
Он ее толкнул, ударил, он ее тряс, как грушу. Раньше ничего подобного не случалось. Но ведь раньше он и не называл ее своей женой. Так вот, что означает в его представлении женитьба! А в последний приход наговорил такого, что голова идет кругом.
«Мамочка, мама! – сидя на тахте и раскачиваясь всем телом, повторяла Зайнаб. – Да что ж это такое, к кому в руки я попала, кого выбрала себе в мужья!»
Утром, перед уходом на работу, он грозил убить, если только она пикнет. Сказал, что и она уже преступница. А потом запер. Два часа, не меньше, просидела она взаперти и думала, что не выдержит своего отчаяния и умрет. Ей даже приходили мысли о самоубийстве…
Сперва она попыталась выбраться из заточения. Но это оказалось невозможным. Окна были зарешечены… Зачем? Наверное, против воров. Тогда ей и пришла на ум горькая шутка: против воров, которые снаружи или которые внутри?
Она пробовала расшатать решетку. Но куда уж ей! Нажимала плечом на дверь – всё напрасно. Удивительно, она ни разу не заплакала. Зеркало отражало плотно сжатые губы, сведенные в раздумьи брови и глаза, в которых смешивалось выражение растерянности, ожесточения и в то же время решимости.
Да, в те два часа, до прихода Мухтара, ее решимость была твердой: любыми способами вырваться из лап этого чудовища. У нее ведь даже хватило догадки во-время замолчать, притвориться покорной. Он мог убить. Звериная ярость и звериный страх светились в его взгляде, когда он вцепился ей в горло. Вот даже следы пальцев на шее…
Она с омерзением вспомнила, как Мухтар сливал из порожних бутылок в стакан остатки водки, вина, коньяка… Брр, какая гадость! Но, как же это получилось, что, выпив, он не разъярился, а даже успокоился? Всё в этом человеке полно противоречий. Одно только совершенно бесспорно: у него грязная, отвратительная, бессовестная душа!.. Уйти, убежать от него, куда угодно. И никогда больше не встречать… А если будет преследовать, если начнет угрожать или станет мстить? Это даже не самое страшное. Страшнее, если он опять заговорит о любви и будет приставать и… если, вопреки всему, к ней вернется влечение…
Разве так не бывает? Разве нет женщин, связанных любовными узами с ворами и бандитами? Эти женщины и сами лишены совести и чести, сами преступницы… Но не родились же они такими! Просто не хватало сил порвать. Нет, избавиться, обязательно избавиться, вырвать из сердца!..
В это время и мелькнула у Зайнаб мысль уйти из жизни. Оставить записку и… покончить с собой. Но слишком сильна была в ней жажда жизни. Она была душевно здоровым человеком. Она даже и не начала писать записку. Довольно было посмотреть на бумагу, чтобы с дрожью от нее отвернуться.
И тут Зайнаб вспомнила: «Как же так? Разве имею я право распоряжаться своей жизнью? Ведь мое самоубийство развяжет руки Мухтару и погубит Анвара, погубит всю его семью – Сурайе, Ганиджона, милую и такую добрую ко мне Мухаббат!.. Нет, нет, это невозможно! Я должна предупредить преступление, помешать Мухтару!»
Эта идея вдохновила Зайнаб. На лице ее вновь появился румянец. Глянув на себя в зеркало, она увидела, как оживают, как загораются ее глаза.
Она ждала теперь Мухтара почти с нетерпением. Стала прихорашиваться, только для того, чтобы снова ему понравиться. «Увидев меня запуганной, зеленой от тоски, он не только не станет меня слушать, – он даже не глянет на меня… Потом, когда деньги будут возвращены, я скажу… Я заявлю ему категорически, что порываю с ним навсегда»…
Раздались торопливые шаги. Повернулся ключ в замочной скважине. Скрипнула дверь, и перед Зайнаб предстал Мухтар. Он остановился у порога, глядя на нее испытующим взглядом. И… улыбнулся. Лицо осветила прежняя хорошая улыбка, точно такая, какую он пускал в ход, когда хотел чего-нибудь добиться от Зайнаб. Например – послать в магазин, скупать дефицитные шелковые комбинации…
– Я тороплюсь, – сказал Мухтар. – Очень, очень тороплюсь. Меня ждет милиция. Да, не больше не меньше, как милиция из райцентра…
Зайнаб передернуло. Бог знает, не вообразила ли она, что собираются арестовать Мухтара. Он поспешил ее успокоить:
– Волноваться не нужно. Я вне подозрений… Вижу, вижу, ты не теряла времени зря. Привела себя в порядок. Ты, Зайнаб, молодец и просто прелесть. Глаза серны, которые я так люблю, снова заиграли молодостью. Да, да! Напрасно ты краснеешь – я не льстец. Напротив, я человек резкий и прямой. А иногда… иногда и грубый, – с этими словами он подошел к Зайнаб и, продолжая глядеть ей прямо в глаза взглядом хозяина и повелителя, взглядом дрессировщика, погладил ее по плечу. Она слегка отстранилась. Мухтар укоризненно покачал головой.
– Зайнаб, – произнес он многозначительно. – Ты слышишь?.. Я уезжаю и может быть не скоро вернусь…
– Вас подозревают? – с неожиданной для нее самой тревогой, спросила Зайнаб.
– Ах, да не перебивай же ты меня! – это прозвучало, как щелканье бича, но он тут же смягчился и продолжал проникновенно и ласково. – Напрасно ты беспокоишься. Я всё предусмотрел. Ехать приходится потому, что предсельсовета в отлучке – я единственный представитель местной власти… Ни меня, ни тебя никто и ни в чем подозревать не может. Считаю нужным тебя предупредить: могу задержаться до ночи… Почему ты так смотришь? Тебе что-нибудь непонятно?..
– Продолжайте, пожалуйста, – Зайнаб опять начала охватывать дрожь. Она хотела спросить: что с Анваром? Но боялась, что этот вопрос вызовет новый взрыв бешенства.
– Слушай же дальше, – вдалбливал ей Мухтар. – Я не знал, что мне придется ехать вместе с арестованным…
Заметив, какая страшная бледность разлилась по лицу Зайнаб, Мухтар стал терять терпение. Она еще не успела ничего сказать, не упрекнула ни одним словом, а он уже спорил с ней:
– Только по своей женской глупости ты можешь думать, что есть хоть какая-нибудь связь между арестом Анвара и нашей находкой. Пойми, наконец. Портфель мог найти кто угодно. Любой и каждый. Нам повезло. Тебе и мне – нам обоим. Это свадебный подарок судьбы, это счастье, какое выпадает один раз в жизни! Почему мы должны от него отказываться? Только потому, что какой-то недотепа по своей халатности… Да, да – по своей преступной халатности, напившись пьяным…
– Простите меня, я может быть и правда не понимаю, – проговорила Зайнаб со слезами в голосе, – но ведь деньги не потеряны. Они лежат здесь, в комнате…
– Тшш! – прошипел Мухтар. – Ты с ума сошла? Если кто-нибудь услышит – тюрьма обеспечена и мне, и тебе. Путь назад отрезан. Как секретарь сельсовета, я принимал участие в задержании директора школы. Ты сидела в комнате, где лежат деньги, не заявила о них с трех утра до двенадцати дня… Могла или не могла – этого никто не станет принимать во внимание, – он взглянул на часы. – Ни слова больше. Слушай и выполняй. Я тебе доверяю полностью, как единственному любимому человеку, как жене. Доверяю и вверяю тебе свою судьбу…
Слова Мухтара били Зайнаб, как молот по наковальне. Всё, что он говорил, казалось неопровержимым. Сейчас он не толкался, не тряс ее, не душил. Он схватил ее железными клещами своей убедительности. Лоб ее покрылся холодным потом, сердце стучало, язык не подчинялся ей – она не могла ничего возразить.
– …Не только моя судьба, но и твоя судьба, наше общее счастье – в твоих руках. Один твой неверный шаг, – и мы погибли!
Сказав это, Мухтар еще раз взглянул на часы. Времени у него, действительно, было в обрез. Зайнаб не могла знать, что доверие он ей оказывает только потому, что другого пути у него нет. Сегодня утром в сельсовет прибежал начальник почтовой конторы:
– Мухтар-джон, потрясающая новость! Салимов оставил всю школу без зарплаты. Говорит – потерял деньги… Ай-яй-яй, какой скандал!..
Мухтар сделал удивленный вид, взмахнул руками, зацокал… Он уже давно ждал, когда ему сообщат о пропаже. Только того ему и надо было. Есть заявление – значит, можно действовать. Он тут же позвонил в районный отдел милиции. С возмущением сказал о том, что коллектив учителей остался перед Первым мая без получки… Вполне вероятно, что директор присвоил эти деньги… Надо немедленно принять меры… Одного только не учел Мухтар: никак не думал, что и ему придется ехать вместе с арестованным…
Машина пришла очень скоро. Лейтенант милиции зашел прежде всего в сельсовет. Мухтар вынужден был пойти с ним на квартиру директора и присутствовать при аресте. Хорошо еще, что лейтенант согласился подождать его несколько минут…
Что было делать? Отказаться ехать – невозможно. Оставить Зайнаб запертой на такой долгий срок, да еще учитывая ее настроение – более чем рискованно. Портфель с деньгами он спрятать не успел.
Единственное, что его могло выручить – это ставка на доверие. Когда он говорил Зайнаб, что вверяет ей свою судьбу – в его словах не было никакого преувеличения. Если б он думал, что, ползая у нее в ногах, вернее добился бы ее согласия на молчание – Мухтар бы ползал… Несколько минут, всего несколько минут. За этот короткий срок он должен ее переубедить, сломить, подавить, упросить – всё что угодно, только бы не попасться.
Время идет. Каждую минуту за ним может зайти лейтенант милиции… Неужели не удастся? Неужели Зайнаб не побоится угрозы тюрьмы? Неужели растопчет их семилетнюю любовь, откажется от замужества? Неужели отбросит всё, что их связывает и… продаст?
Мухтар проклинал себя за то, что утром был так груб, оскорбил ее и ударил… Тут ему в голову пришел еще один довод. Сила его показалась ему непреодолимой.
– Зайнаб! – произнес он горячим шопотом и послал ей взгляд, который, по его мнению, выражал страстную муку и бешеную ревность. – Сегодня утром ты защищала преступника Анвара. Что бы ты ни говорила о том, какой он хороший педагог и человек, перед лицом закона Анвар преступник… Ты хотела вернуть ему деньги, выручить его… Мне ты сказала, что присвоить находку – означает совершить кражу. Назвала меня вором. Я разъярился. Это так. Но будь великодушной – прости меня… Да, я преступник. Но теперь перед тобой два преступника: Анвар и я. Почему же ты защищаешь его? Значит, любовь к нему в тебе сильнее?.. А если бы мы нашли портфель не Анвара, а незнакомого нам человека?..
Окончательно сбитая с толку, Зайнаб смотрела на Мухтара почти с мольбой. От изумления она даже приоткрыла рот. Ведь вот же, действительно, и тот и другой – нарушители закона, действительно, ей нужно выбирать.
– Правда, правда, – едва слышно прошептали ее губы.
Мухтар не дал ей опомниться. Теперь он сыпал одни лишь приказания. Короткие и точные:
– Я тебя не запру. Но до темноты не высовывай никуда носа. Никуда! Понятно? – Она кивнула. – Ночью, если я не вернусь, рассуешь деньги под платьем. Портфель сунешь вот сюда, – он приподнял половицу. – Чемодан не бери. Выйдешь через калитку… Чемодан я привезу тебе потом… Выйдешь – и на шоссе. На попутной доберешься до дома… Ясно? Всё, всё! Я ухожу.
Порывисто прижав к себе Зайнаб, Мухтар крепко поцеловал ее в губы…
Она видела, что по двору он шел уверенной деловой походкой. Заметила, что вынув из кармана кусок лепешки, он принялся жевать. И сердце ее защемило от жалости: «Бедный, он ведь сегодня еще ничего не ел». Ей и в голову не пришло, что она тоже не имела во рту ни крошки.
Не пришло ей в голову и то, что жевать он стал, желая показать лейтенанту милиции, что ходил домой завтракать. Видите, какой он деликатный: не заставил их долго ждать, не доел, вынужден жевать на ходу…
…И вот Зайнаб сидит на тахте, с ужасом и тоской смотрит на незапертую дверь и раскачивается всем телом. «Мамочка, мама. Мамочка, мама, – вот уже несколько минут бессмысленно повторяет она. – Да что ж это такое, к кому в руки я попала, кого выбрала себе в мужья?!».
Глава 13.
Все в мире покроется пылью забвенья,
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья:
Лишь дело героя да речь мудреца
Проходят столетья, не зная конца.
И солнце и бури – всё выдержат смело
Высокое слово и доброе дело.
Абулькссим Фирдоуси.
Прошло уже полчаса после того, как легковая машина уехала из Лолазора, а у здания сельсовета всё еще стояла и обсуждала происшедшее кучка людей. Объяснения давал начальник почты. В голосе его чувствовалась обида. Он думал, что его тоже пригласят в районный центр. Как никак – он первый сообщил в сельсовет о чрезвычайном происшествии.
Молодой человек с усиками, актер из города, то и дело перебивал рассказчика. Пожимая плечами и жестикулируя, он повторял все время:
– Позвольте, позвольте. Тут что-то не так. Вы не могли это слышать…
Его просили помолчать, не мешать рассказчику, но актер не унимался:
– Не так, не так! Вы говорите, что директор школы поссорился вчера с женой… Позвольте, позвольте, я все-таки режиссер и зрительное воображение во мне развито, как ни у кого… Сперва они крупно поскандалили, потом вышла эта приезжая красотка с чемоданом, потом выскочил директор, потом почему-то…








