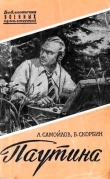Текст книги "Паутина"
Автор книги: Джалол Икрами
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
– Он еще не возвратился, – ответил Ахрорходжа. – Наверное, ушел с отрядом «сешамбеги» вслед за эмиром.
– Какое дело отцу до эмира?! Он не пойдет с эмиром, он должен быть здесь! – чуть не заплакал я, а сердце… да, сердце мне подсказывало, что Ахрорходжа знает, где мой отец. Знает – и молчит.
– Вернется твой отец, не волнуйся, – сказал Ахрорходжа, поглаживая меня по голове. – Пока он не появится, мы будем жить в вашем доме, присматривать за тобой – одного тебя не оставим. К тому времени отремонтируется наш дом, мы туда переедем, а тебя отдадим отцу. Одного тебя сейчас оставлять нельзя, не так ли, сынок?
Он сказал «сынок», так и сказал, и на лице у него светилась улыбка. Не знал я тогда, что и мед бывает горьким, поверил его лживым словам – и все в моей жизни пошло кувырком…
3
– Спасите, я не виноват! Не трогайте меня! Не трогайте!
Этот душераздирающий вопль умалишенного оборвал воспоминания и вернул меня к действительности, которая ужаснее небытия.
Ходжа не хвастал, когда говорил, что на этом деле у него поседела борода. В его зиндане все было продумано до мелочей, даже освещение, – не настолько светлое, чтобы узники могли разглядеть друг друга, но и не настолько темное, чтобы они не видели ничего и оставались наедине со своими мыслями. При таком освещении и самая обычная тень, которую отбрасывали предметы, казалась ужасным чудовищем.
Люди, верившие, подобно мне, в злых духов, не могли не испытывать здесь чувства страха… Я понимал, что меня окружают такие же, как я, несчастные, расположившиеся в самых причудливых позах, – кто свернулся калачиком, кто лежал, широко раскинув руки и ноги, а иные сидели, прислонившись к стене, безмолвно обхватив головы, – но в каждом мне чудился затаившийся див… Как ни старался я трезво обдумать свое положение, ничего не выходило. Сердце гулко стучало, лоб покрывался липкой холодной испариной, все тело била мелкая, частая дрожь…
– Ака Мирзо, – подал голос Гиясэддин, – петухи уже кричат, значит миновала полночь?
Бас в ответ тяжело вздохнул, а через минуту стал читать стихи:
В ночь разлуки, кто ответит, сколько до утра осталось?
Верно, тот, чье сердце сразу в плен любви навек попалось.
Кто же обо мне расскажет той, кто мной пренебрегает,
Нашу дружбу отвергает? Но душа истосковалась.
Приходи! Зову тебя я. Приникаю я губами
К той тропинке, по которой иногда тебе ступалось.
Образ твой надежды дарит, пусть хоть маленькую малость.
Только ждать тебя терпенья у меня уж не осталось…
Стихи эти, хоть я в те годы плохо понимал их смысл, оказали на меня чудотворное воздействие. Ака Мирзо читал проникновенно, успокаивала сама музыка слов, чеканный ритм строк. Не я один поддался их очарованию: кто-то громко произнес:
– Хорошо, брат! Говоришь, будто читаешь в моем сердце!
– Э, милый, спи, – ответил бас. – И я ведь безумствую – разве здесь звучать стихам Саади?
Пауза на этот раз была недолгой, Гиясэддин снова нарушил тишину.
– Ака Мирзо, – сказал он, – все равно нам не спится, спят вместо нас наши стражники. Рассказали бы, как попали сюда… Вы обещали…
– Что рассказывать! Лучше ничего не рассказывать, – вновь вздохнул бас. Вздохом откликнулся и его собеседник.
– Судьба моя, кажется, близка судьбе этого юноши, – заговорил бас после недолгого молчания. – Тот человек, что привел его сегодня сюда, друг моего врага. Его зовут Ахрорходжа… Не так ли?
Вопрос был обращен ко мне, и я тут же ответил:
– Да, Ахрорходжа…
– Он самый, подлец Ахрорходжа! – сказал бас, подтверждая мои слова.
Я превратился в слух, стараясь понять, отчего моя судьба близка его судьбе и откуда он знает Ахрорходжу.
РАССКАЗ АКА МИРЗО
Отец мой был по натуре отшельником, не обременявшим себя мирскими заботами и печалями. Он работал уборщиком в медресе Турсунджана, где ему выделили худжру – небольшую келью, темную и сырую; однако последнее его не трогало. Он весело говорил:
– Работа и крыша над головой у меня есть, хлеба насущного хватает, а что еще человеку надо?.
Мать моя умерла рано, и отец всю любовь свою отдал мне, пятилетнему малышу. Сам неграмотный, он мечтал увидеть сына образованным и покупал мне самые дорогие, красиво оформленные, каллиграфически переписанные книги, – вместе с обязательным в школе Кораном, сборники стихов Хафиза Ширази, Мирзо Белиля, Физули и Навои; не скупился он и на подарки учителю.
– Я слеп, будь зрячим ты! – любил повторять отец.
Часто вечерами он зажигал лампу, открывал Хафиза или еще кого-нибудь из поэтов и просил читать вслух. Стоило мне допустить малейшую ошибку, – он тут же останавливал.
– Неправильно! – говорил он. – Нужно читать «боди шурта» – «попутный ветер», а ты читаешь «боди шарта» и получается бессмыслица.
Тонет судно. О, ветер попутный, верни нас назад,
Может быть, еще раз мы увидим любимой глаза…
Я удивлялся его познаниям и старался читать внимательнее.
Но отец умер, и я остался сиротой. Правда, были у меня дальние родственники, они жили в Гиждуване и приглашали перебраться к ним. Я отказался, чтобы продолжать учение, и зарабатывал на жизнь профессией отца… Однажды летом один товарищ уговорил меня поехать в Гиждуванскую волость; там в мечети местечка Гишти он стал имамом, а я – муэдзином[29].
Как-то сидел я над книгой и вдруг услышал приятный женский голос, окликнувший меня. Передо мной стояла девушка… Нет, не обыкновенная девушка, а будто спустившийся с неба ангел, заблудившаяся пэри из сада Ирама[30] стояла передо мной!..
– Что прикажете? – пробормотал я, ослепленный ее красотой. Черные волосы, черные глаза, черные брови и грация… О такой еще никто не сказал лучше Бедиля:
В озорном ее взгляде – кокетство и во взлете бровей – кокетство, —
Это ливень кокетства, с боже, коль кокетству кокетство – соседство.
Лицо – роза, стан – кипарис, гибкая, как тростник, говорливая, как ручеек…
– Ака мулло, долго еще до вечернего намаза? – пропела она своим соловьиным голосом.
– Вечерний намаз?.. Как захотите, – пробормотал я, растерявшись. – Для чего он вам?
Девушка смутилась, прикрыла лицо краем головного платка.
– Мне нравится ваш голос…
– Хоть сейчас! – воскликнул я, совсем потеряв голову. – Хотите, сейчас начну звать на молитву?
Девушка рассмеялась и убежала. Изумленный, я никак не мог прийти в себя и чуть не пропустил заход солнца – время вечернего намаза…
Любовь не спрашивает, кто ты и чем ты занимаешься, даже к муэдзину приходит она. Я влюбился в ту пэри, в конце концов женился на ней и остался в Гишти, в доме любимой. Отец ее был зажиточным дехканином, и мы не испытывали нужды, жизнь наша протекала счастливо. Помню, как я играл на танбуре и пел, как жена подпевала, а тесть подыгрывал на дойре; я сам сочинял стихи и напевал их жене. Райские сады были для меня там в те дни…
Но недаром говорят, что счастью сопутствует несчастье: эпидемия холеры осиротила меня. Я не мог оставаться больше в Гишти и бежал куда глаза глядят, не разбирая дорог. Подобно Меджнуну, скитался я по земле, пока не притупилась боль и я не осел в Бухаре.
Я уподобился своему отцу, повел такой же отшельнический образ жизни, поселившись в тесной худжре на втором этаже караван-сарая Хамдамчи, где исполнял обязанности писца. Я должен был аккуратно заносить в специальную тетрадь доходы и расходы хозяина – занятие нетрудное, тем более, что караван-сарай был не ахти как велик и постояльцев в нем было не так уж много. Правда, Хамдамча еще давал и деньги в рост, и вести счета он поручал опять-таки мне, но на все дела у меня уходило не больше двух часов в день. Остальное время я посвящал книгам. Друзей и приятелей у меня почти не имелось, а те, что были, знали мой характер и старались обходиться без меня. Особенно во время террора против джадидов, когда город кишмя кишел шпионами, – я предпочитал сидеть в своем углу.
– Слово – серебро, молчание – золото, – сказал мне один из моих друзей, знавший мой острый язык и опасавшийся, как бы я не сболтнул лишнего. – Эмиру достаточно клеветнического доноса, чтобы расправиться с человеком…
Но я и сам понимал это.
Однако остаться в стороне от событий мне не удалось. Когда началась революция, я занимался переписыванием произведений Саади, заучивал наизусть стихи из его «Гулистона» и «Бустона».
Постояльцы караван-сарая тревожно засуетились. На второй день ко мне поднялся хозяин и спросил, отчего я столь беззаботен.
– Надо уйти из города, – сказал он.
Я ответил, что мне опасаться нечего; уповая на судьбу, буду сидеть в своей худжре.
– Ака Мирзо, – сказал тогда нерешительно Хамдамча, – как по-вашему, отберет Большевик все наше имущество или нет?
Он напряженно следил за выражением моего лица, словно старался предугадать ответ.
– Бог знает, – ответил я, – ведь Большевик такой же человек, как и мы. Зачем ему притеснять нас, когда он захватил все государство эмира? Однако, караван-сарай, по-моему, отберет, государственным станет ваш караван-сарай, и заниматься ростовщичеством вы больше не сможете.
– Вы правы, караван-сарай придется отдать, ничего не поделаешь, – вздохнул Хамдамча. – Проживем как-нибудь милостью божьей… Но вы оставайтесь в своей худжре, если кто спросит, отвечайте, что она ваша, я дарю ее вам.
Он одарил меня каплей из реки!.. Мир рушился, все сотрясалось в оглушительном грохоте разрывов, с неба сыпалась смерть, а Хамдамча сделал милостивый жест. Я никогда ничего не боялся, никогда не думал о смерти, но теперь на душе у меня стало тревожно. Все у меня валилось из рук: взял «Джаме-уль-хикоёт»[31], но читать не смог; тогда я лег и долго лежал, вспоминая стихи; с трудом вспомнил несколько бейтов Бедиля, а потом заснул тревожным, беспокойным сном.
В четверг в караван-сарае, кроме меня и хозяина, никого не осталось; казалось, опустела вся Бухара, людей на улицах почти не встречалось.
Я поклялся не покидать своей худжры и сегодня; заперся на ключ, сел у открытого окна с «Джаме-уль хикоёт». Мне хорошо была видна улочка, на ней – ни души, но не успел я перевернуть страницу, как услышал шаги: Хамдамча, обливаясь по́том, тащил громадный узел. Потом, будто из-под земли, вырос Ахрорходжа. Раньше я видел его раз-другой, иногда он приходил к хозяину, – но мне не было известно, кто это. Теперь я узнал. Он пришел получать с Хамдамчи деньги.
– Мы уже не можем быть компаньонами, – говорил он. – Я переезжаю в кишлак.

Но Хамдамча был не из тех, кто легко расставался с душой. Вначале они были между собою любезны, потом начали ругаться и призывать друг на друга земные и небесные кары. Вдруг Ахрорходжа пнул лежавший в ногах у Хамдамчи узел и спросил, откуда он его тащит. Хамдамча, призывая в свидетели бога, стал уверять, что вещи его собственные, в дом, мол, попал снаряд, и теперь он вынужден перетаскивать их в караван-сарай… Ахрорходжа рассмеялся и ответил, что он целый час ходит за ним и видел, как Хамдамча взламывал лавку…
Я слушал и изумлялся. В тот миг я наконец-то понял, что алчных негодяев может насытить только могила. Для этих людей деньги – все! Им неведомы такие чувства, как сострадание и любовь, доброта и дружба! Во имя денег они опозорят седины своих отцов и матерей, продадут свою честь и честь своих жен и сестер, отрекутся от своих детей… Я скрежетал зубами, наблюдая, с каким восторгом они ударили по рукам и принялись делить добычу.
В тот день бой достиг наибольшей силы. Красные аскеры пошли на решительный штурм города, эмир удрал, сарбозы его разбежались. Как сказал Хамдамча, только у ворот Навола еще держался отряд сарбозов и афганцев[32].
Удирая, молодчики эмира тащили все, попавшее под руку, расстреливали людей только за то, что те не успевали укрыться. Арк горел, горели жилые дома, базары и медресе, над городом плыл густой черный дым… И тем не менее, эти негодяи Хамдамча и Ахрорходжа снова куда-то пошли. Бессознательно, скорее просто из-за любопытства, чем из желания что-то предпринять, я бросился вслед за ними. Ворота караван-сарая выходили на главную улицу Кушмедресе, и справа, в ста шагах от ворот, стояли ряды торговых лавок. Я думал проскользнуть переулком наперерез грабителям, но едва выскочил за ворота, как увидел бегущего прямо на меня человека, судя по всему, – перса. Шагах в двадцати он споткнулся и упал, а преследующий его с револьвером в руках «шефиска»[33] издал победный вопль и, подскочив к нему, наступил на грудь.
– Вытаскивай золото! – приказал он.
– Да перейдут на меня все твои болезни и несчастья, – взмолился лежавший. – Откуда у меня золото? Я бедный ремесленник и…
– Вытаскивай, говорю, – повысил голос солдат, – иначе разобью твою пустую башку. Раз, два…
Хорошо, что он не успел сказать «три», – появившийся неизвестно откуда солдат – «сешамбеги» крикнул ему:
– Убери руки!
Он подошел ближе и властно приказал:
– Спрячь револьвер, отпусти невинного. Если ты такой храбрый, то иди на поле боя и там покажи себя!
«Шефиска» вначале испугался, отпрянул назад. Перс воспользовался этим и убежал. В следующее мгновение «шефиска» уже пришел в себя и накинулся на «сешамбеги»:
– Ты сам кто такой, собака, что приказываешь мне? Вот тебе!.. – Он вскинул руку с револьвером, но и противник не дремал – оба выстрела грянули одновременно; «сешамбеги» зашатался, а «шефиска» мгновенно удрал. Я подбежал к солдату и не дал ему упасть. Пуля пробила плечо.
– Спасибо, – сказал он, превозмогая боль. – Если не трудно, помогите мне… Где тут можно спрятаться?.. Негодяй вернется с друзьями-разбойниками…
Я тоже подумал об этом и втащил солдата в караван-сарай. Закрыв ворота, я поднял его в свою худжру и уложил. Затем запер дверь худжры, перевязал раненого, дал ему пиалу чая. Он чувствовал себя стесненно, извинялся, а я восторгался этим человеком, вырвавшим несчастного из рук бандита, и обещал сделать все для того, чтобы он быстрее поправился.
Солдат улыбнулся, сказал, что наступил день свободы, теперь избавимся навсегда от всех тиранов… Бой, сказал он, подходит к концу, красные войска сегодня или завтра войдут в Бухару. Он не воевал и воевать не хочет. Сюда он пришел за сыном, хочет вместе с сыном встречать красных аскеров….
Вдруг он встрепенулся, застонал, пытаясь приподняться на локтях.
– Пришли! – сказал он.
В ворота действительно стучали. Я замер. Стук повторился.
– Ака Мирзо, эй, ака Мирзо! – услышали мы голос Хамдамчи. Я улыбнулся и пошел открывать.
– Не бойтесь, – сказал я солдату, – это свои.
Хамдамча пришел с Ахрорходжой, оба держали в руках узлы. Хамдамча даже пошутил: «Эх вы, струсили, ворота заперли», – но мне было не до шуток: я спешил к себе в худжру, к раненому. Ему стало хуже, белый платок, которым я перевязал рану, окрасился кровью.
– Потерпите, вот только сожгу кусок кошмы…, – и я торопливо взялся за дело.
Кошма сгорела быстро, я посыпал горячей золой на рану и снова перевязал. Больного нужно было накормить. В худжре оказалась пара сухих лепешек, немного кишмиша, дыня. Я разжег самовар, расстелил дастархан, но тут в дверь постучали.
– Кто?
Хамдамча откликнулся. Я открыл дверь. Оба негодяя стояли на пороге с сияющими лицами.
– У вас гость? – спросил Хамдамча, входя в худжру.
Превозмогая боль, солдат сел и поздоровался. Ахрорходжа вначале не обратил на него внимания, но, когда привык к темноте, вдруг отшатнулся.
– Останкул? – спросил он испуганно.
– Ахрорходжа! – обрадовался солдат и облегченно вздохнул. – Слава богу! Где мой Мурадджан?
– Мурадджана вашего я отправил в кишлак, – сказал Ахрорходжа. – Что с вами? Что вы здесь делаете?
– Судьба! – уклончиво ответил Останкул, не желая открывать тайну, но – глупец, я ничего не понял – и рассказал о случившемся. Я думал Ахрорходжа обрадуется, похвалит своего родственника за мужество, но тот только покачал головой.
– Нехорошо сделали, Останкул, – сказал он. – «Шефиска» находят своих врагов и под землей.
– Что ж, найдут, так найдут, – от судьбы не уйдешь, – ответил Останкул. – Был бы Мурадджан здоров.
– В моем караван-сарае безопасно, – вставил Хамдамча. – Вы хорошо сделали, что здесь укрылись, ведь мы немного знакомы, а?.. Спите спокойно, я незлопамятный!
– Спасибо, – сердито сказал Останкул. – Если б я знал, что этот караван-сарай ваш, то будьте уверены, не доставил бы вам хлопот.
Хамдамча и Ахрорходжа переглянулись.
– Это моя худжра, – вмешался я, – и, пока жив, никому не позволю обидеть моего гостя. Вы не волнуйтесь, успокойтесь…
– Большое вам спасибо, только не стоит беспокоиться. Винтовку держать в руках, слава богу, я еще могу…
Останкул повернулся к Ахрорходже.
– Но я не могу больше видеть несправедливость и беззаконие, – сказал он. – Всякий, кто съедает долю другого, кто допускает насилие, – мой враг! Теперь, в революцию, я не намерен прощать. Потому я и схватился с «шефиской», а вы говорите, что сделал плохо!
– Я из жалости сказал, – притворился Ахрорходжа. – Сейчас сарбозы делают, что хотят, над ними нет начальников… Но вам лучше знать, как поступать.
Он поднялся, следом встал и Хамдамча.
– Не волнуйтесь, спите спокойно, – сказал он и льстиво добавил: – Когда закипит чай, позовите, мы с Ахрорходжой будем внизу…
Останкул задумался. Самовар вскипел, я заварил чай и налил ему. Он молча выпил.
– Мне кажется, отсюда лучше уйти, – сказал он, наконец. – И вы, если можете, уходите!
– О чем вы говорите? – самоуверенно ответил я. – Лучшего места вам нигде и никогда не найти. А если опасаетесь Хамдамчу….
– Да, Хамдамча мне не нравится. Вор вора, говорят, видит издалека, вот они и спелись с Ахрорходжой. Сегодня я чуть не пристрелил Хамдамчу. Я видел, как он взламывал лавку, и помешал ему. Он испугался, поднял руки вверх… Он сказал, что эта лавка его брата, но я хорошо знаю хозяина, эта лавка Саидходжи… А теперь вот встретились… Хамдамча злопамятен, да и случай удобный…
– Нет, неужели…
Я не договорил: дверь с треском распахнулась, в худжру ворвались трое или четверо «шефиска». Останкул пытался схватиться за винтовку, но не успел. На него навалились, скрутили, – и нас обоих, толкая в спины, злобно ругаясь, потащили вниз. У лестницы стояли Хамдамча с Ахрорходжой, рядом – дахбоши[34] и еще два солдата, один с перевязанной рукой, – тот, что стрелял в Останкула.
– Этот? – ткнул дахбоши в Останкула.
– Этот, – ответил «шефиска».
– По роже видно, что большевистский шпион! А этот кто?
– Не знаю, наверно, его помощник.
– Заберите обоих, да искупятся перед богом мои грехи, – сказал дахбоши и обратился к Хамдамче: – Ну, а теперь, давай, друг, угощай!
– Всем, чем угодно, – подобострастно ответил Хамдамча.
Сарбозы потащили нас через двор, и, словно в полусне, я услышал, как кто-то сказал:
– Это же ака Мирзо! Он писал вам заявление…
Нас вытолкнули на улицу.
– Шагайте!
Мы шли, поддерживая друг друга. Солдаты гнали нас к яме за зданием медресе, но не прошли мы и десяти шагов, как за нами послышался голос дахбоши:
– Мирзо вернуть!
Меня оторвали от Останкула, он успел пожать мне руку и только крикнул, чтобы я остерегался Ахрорходжи. «Это все сделал Ахрорходжа, – сказал он. – Из-за него, подлеца, я не видел счастья…»
– Сейчас увидишь свое счастье! – засмеялся сарбоз, ударив Останкула прикладом в раненое плечо.
Останкул зашатался, но удержался на ногах.
Больше я не видел его, и не только его: и медресе, и солдаты, и небо, и Останкул закружились, в глазах потемнело, и все куда-то провалились…
– Испугались, ака Мирзо? – с трудом расслышал я голос дахбоши. – Ничего, ведь могло быть и хуже… В следующий раз будьте благоразумней! Я простил вас только потому, что вспомнил о заявлении, которое вы мне когда-то написали. Я приду еще узнать о вашем здоровье.
Мое здоровье никого не волновало. Не помня себя, я кое-как добрался до худжры и опять потерял сознание.
В субботу утром я сложил в мешок книги, связал в узел вещи и покинул караван-сарай. Я решил пройти сначала к яме за медресе, куда увели Останкула. Но едва я сделал несколько шагов, как из ворот караван-сарая вдруг грохнул выстрел, меня толкнуло в спину, обожгло…
Очнулся я в какой-то брезентовой палатке; рядом со мной сидел голубоглазый светловолосый доктор, щупал мой пульс и что-то приказывал своему помощнику в белом халате. Помощник кивнул головой и ушел.
– О, ака! Хорошо? Нагз? – спросил доктор, мешая русские слова с таджикскими.
– Нагз, – прошептал я.
– Ничего, боке нест! Поправишься. Хорошо будешь…
– Где я?
– Здесь лазарет, – ответил доктор. – Лазарет Красной Армии, советский, – слышал? Наши люди нашли тебя в городе чуть живым… Аскеры эмира стреляли?.. Не знаешь?.. Ничего, теперь эмира нет, Советская власть поможет тебе, вылечишься – все забудется… Хорошо?
– Хорошо, – сказал я и снова впал в беспамятство.
Когда я вновь очнулся, то увидел себя уже в просторной светлой комнате. У кровати сидела русская женщина. Она говорила немного по-таджикски и объяснила, что я нахожусь в Кагане, в военной больнице – госпитале, что рана моя уже заживает, и дней через десять – двенадцать я совсем поправлюсь.
Так оно и случилось. Через пятнадцать дней меня выписали из больницы; какой-то человек вернул мне мешок с книгами и узел с вещами, другой дал справку о том, что я находился на излечении в Каганском военном госпитале со второго по тридцатое сентября 1920 года. Только теперь я понял смысл слов голубоглазого доктора: в меня стреляли эмирские сарбозы, а от неминуемой смерти спасли красные аскеры, вступившие в Бухару…
Я знал, чья подлая пуля свалила меня с ног: Хамдамча не любил свидетелей своих преступлений. Вы спросите, отчего тогда он спас меня от рук дахбоши? Но в том-то и дело, что он не спасал – наоборот, вместе с Ахрорходжой он привел на мою голову сарбозов! Просто, когда дахбоши узнал меня и помиловал, Хамдамча не решился ему перечить, но едва представился удобный случай, – то сам, без свидетелей, выпустил в меня пулю. Впрочем, Ахрорходжа ему, наверно, помог…
Возвращаясь в Бухару, я думал отомстить своим врагам, верил, что теперь они получат по заслугам. Но я жестоко ошибся… Джадиды называли себя «бухарскими революционерами», однако часть их состояла из старых чиновников, богачей и торговцев, даже мулл и вельмож, и они занимали, как и раньше, важные места в правительственных учреждениях.
Подлецы и мошенники, вроде Хамдамчи и Ахрорходжи, быстро нашли себе покровителей.
Ахрорходжа торговал на крытом базаре Абдулхан парчей, адрасом[35], расшитыми золотом халатами, а Хамдамча стал важной птицей в городской милиции. Он водрузил на голову кавказскую папаху из золотистого каракуля, сменил халат на форму и вооружился большим револьвером, который не без гордости называл маузером.
Когда я узнал обо всем этом, то потерял голову и не знал, что думать. Куда идти, на кого и кому жаловаться?
Я не придумал ничего лучше молчания, поступил писцом в Назират юстиции, нашел в квартале Сабунгарон, рядом с сегодняшним нашим зинданом, небольшую комнату и зажил тихой жизнью. Так бы и жить мне спокойно, но недаром говорят, что привычка – беда для души. Не мог я молчать? Революция революцией, рассуждал я, но почему к власти пришли люди, которым и при эмире жилось неплохо?.. Я дал волю своему языку и совсем не боялся Хамдамчи Встречаясь с ним на улице, я открыто высказывал ему свое недовольство джадидским правительством республики.
– Не понимаю, – говорил я. – Что изменилось после свержения эмира? Ведь негодяи, которые служили ему, продолжают разгуливать на свободе и даже занимают сейчас большие посты!.. Нужно предпринять что-то, нужно разоблачать этих врагов народа.
Хамдамча мог бы меня за такие речи и арестовать, но он боялся сделать это открыто, – как паук, он плел паутину, подкарауливал свою жертву…
Чего Хамдамча боялся?..
Он как-то видел меня с русскими. На площади Регистан шел митинг, и там я встретился с женщиной-доктором, которая лечила меня в госпитале. Она сразу же узнала своего больного, тепло поздоровалась со мною и познакомила с мужем, сотрудником Чека.
– Этот человек вернулся с того света, – сказала она мужу. – Он – первый из бухарцев, кого я вылечила, он доверял мне и охотно принимал лекарства…
Доктор хвалила меня, а я, как умел, – хвалил ее и всех других советских табибов; потом, когда кончился митинг, муж и жена пригласили меня в гости. Чекист сам открыл дверцу автомобиля, и это видел Хамдамча. В ту минуту он не спускал с меня глаз, а через дня два вдруг сам пришел ко мне на работу, обнял как старого друга, долго и подробно расспрашивал о здоровье, о делах и, будто в шутку, сказал:
– Забыли вы теперь нас, завели себе друзей среди русских, на автомобилях разъезжаете!..
Я не преминул похвастаться:
– Да, – сказал я, – есть у меня друзья среди русских. Один в Чека, другой в Кагане – комиссар Красной Армии, третий поехал в Ташкент на большую работу.
Хамдамча стал заискивать еще больше, а я подумал о том, что наконец-то у меня появилась возможность отомстить ему. Трудно было разговаривать с ним, все во мне клокотало. «Убийца, убийца!» – стучало в мозгу, хотелось задушить его тут же, на месте!.. О, с каким наслаждением вцепился бы я ему в горло!
Хамдамча сказал, что он знаком с Назиром юстиции и переговорит с ним, чтобы подыскали мне должность повыше, с жалованием побольше.
Я как можно вежливее поблагодарил его и попросил не беспокоиться, потому что, хвастливо объяснил я, «мой друг чекист вот-вот найдет мне работу у себя. Может быть вызовет даже в Ташкент».
Так кичился я, себе на беду. Как говорят:
Слыханное ли дело, чтобы жар-птица была Сулейманом.
Венец ей на голову дан украшением.
Хамдамча ушел совершенно растерянный, а моей радости не было предела.
Но – увы! Я спал, а враги бодрствовали; я оказался слепцом, а они – дальнозоркими.
Хамдамча, очевидно, решил действовать: прошла неделя – и отношение моих сослуживцев ко мне резко изменилось. Они стали сторониться меня, старались меньше говорить со мной, шептались за спиной, провожали косыми взглядами… Наконец меня вызвал сам Назир и ни с того ни с сего завел разговор о моем здоровье. Я удивился, спросил в чем дело, но он не дал мне вразумительного ответа. А на другой день, как только я пришел на работу, заведующий отделом сказал, что приказом Назира мне дается месячный отпуск на лечение… У меня, мол, душевное расстройство, и если я пожелаю, то Назир устроит меня в больницу… Я ничего не ответил и ушел домой. Я понял, что этот удар нанес мне Хамдамча…
– Что ж, – сказал я себе, – Хамдамча строит козни, но и я не смолчу.
Дома меня ждал староста квартала.
– У господина Ходжи к вам срочное дело, – сказал он. – Им в руки попала какая-то редкостная книга, они хотят, чтобы вы оценили ее…
Книга – моя болезнь, и, ничего не подозревая, я пришел сюда…
…Учитель Остонзода на минутку прервал рассказ; лицо его было искажено болью. Он залпом осушил пиалу с остывшим чаем, отдышался…
– Простите, сказал он. – Когда ака Мирзо, не зная меня, рассказывал о трагедии моего отца, о том, как его повели на расстрел, я не выдержал и закричал:
– Мерзкий, подлый Ахрорходжа!
В это мгновенье передо мной открылась бездна – и я кричал, проклинал Ахрорходжу, отнявшего у меня отца, и молил бога наказать его!.. Но бог был глух, бог был слеп, и только мои товарищи по несчастью с состраданием отнеслись ко мне.
Они не утешали меня: они понимали, что любые слова здесь бессильны, и дали мне выплакаться.
– Слезы облегчают горе, – сказал ака Мирзо. – Эмир удрал, но оставил своих приспешников. Все эти ахрорходжи и хамдамчи – его наследники… Он помолчал, а потом добавил: – Но их уничтожат! Советская власть доберется до них. Ты, Гиясэддин, и ты мой дружок, еще увидите счастливые дни…
– Ака Мирзо, неужели сарбозы убили моего отца? – спросил я.
– Дикие звери не щадят, – ответил он. – Если б пожалели сарбозы, то вмешались бы Ахрорходжа и Хамдамча… Постой, постой, ты говорил, что Ахрорходжа тебе родственник? Да-а… Тут что-то не то… С какой целью он выдал твоего отца, а теперь бросил сюда тебя?
– Ахрорходжа присвоил наш дом, забрал все вещи… Он боялся отца… Но в чем виноват я? Я же не знал о его преступлениях, я называл его дядей?!.
– Чем-то ты ему помешал, крепко помешал, вот он и упрятал тебя в дом умалишенных.
– Нужно сообщить об этом правительству! – воскликнул я. – Правительство нас спасет!
– Ребенок! – горько усмехнулся ака Мирзо. – У Ходжи бумага с печатью самого Назира здравоохранения. Охранная грамота… Никто, кроме Назира, не смеет вмешиваться в его дела. Тонко работают они: сведут человека с ума, убьют его, и никто никогда с них не спросит…
– Тогда надо добраться до Назира здравоохранения!
Ака Мирзо покачал головой.
– Я думаю, что это выгодно и некоторым Назирам: ведь они могут сгноить тут любого неугодного им человека.
– Не выйдет! – твердо сказал Гиясэддин. – Рано или поздно они попадутся.
– А пока мы должны терпеть, – добавил ака Мирзо. – Мы не должны им давать повода убивать нас. Всегда помни, – обратился он ко мне, – что твоя смерть нужна только твоим врагам!
– И это верно! – произнес Гиясэддин.
Тут Остонзода снова прервал свой рассказ. Я торопливо дописал последние строки и, не дождавшись продолжения, глянул на старого учителя. Он смотрел куда-то поверх меня сосредоточенный и заново переживающий то ужасное состояние, которое ему пришлось тогда испытать. Я подумал о том, что его слепые глаза ясно видят те ушедшие в прошлое трагические картины, и он дает им верную и глубокую оценку с точки зрения современного человека советской земли… Словно прочитав мою мысль, Остонзода сказал:
– Это был определенный период в жизни Бухарской Народной Советской Республики. У всех событий есть свои исторические корни, мы должны были пережить эти события и пережили их. Не случись именно это, произошло бы нечто подобное, – не с нами, так с другими.
Меня очень заинтересовала фигура Гиясэддина. Остонзода подробно отвечал на все мои вопросы. Гиясэддин не любил рассказывать о себе. Обо всем, что ему пришлось пережить, Остонзода узнал много позже…
ГИЯСЭДДИН
…Отца Гиясэддина звали Мирзо Латиф. Он был сыном бухарского купца и вместе с отцом часто ездил в Самарканд, Ташкент, Казань, Оренбург, где научился русскому языку. Широко образованный и начитанный, человек с большим сердцем, Мирзо Латиф не мог жить в затхлой, окостеневшей в средневековом фанатизме Бухаре, и когда его отец, разорившись, вскоре умер, переехал в Каган… Он устроился счетоводом в канцелярии тамошнего маслобойного завода, снял небольшую квартирку и перевез сюда семью – жену, дочь и сына Гиясэддина.
От Кагана до Бухары всего двенадцать чакримов, но политическая и общественная атмосфера тут была иной, чем в «благородной» столице эмирата, с ее святошами и ханжескими обычаями. Как бы тяжело человеку ни жилось в Кагане – все равно дышалось свободнее, уже хотя бы потому, что можно было не опасаться возмутительных подстрекательств невежественного духовенства.