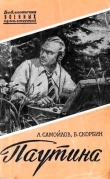Текст книги "Паутина"
Автор книги: Джалол Икрами
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Annotation
1921 год – первый год новой жизни в Бухаре. Нелегко достался он героям этой книги, которые стали жертвами тонко рассчитанного вражеского заговора. Паутина лжи и клеветы, казалось бы, оплела их прочно.
Но они не пали духом, с честью прошли сквозь все испытания.
Книга обращена главным образом к молодежи, а острый конфликт и занимательный сюжет правдиво отражают картины жизни старой Бухары и борьбу за становление и укрепление Советской власти.
ДЖАЛОЛ ИКРАМИ
1
2
3
4
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ДЖАЛОЛ ИКРАМИ
ПАУТИНА
повесть
1921 год – первый год новой жизни в Бухаре. Нелегко достался он героям этой книги, которые стали жертвами тонко рассчитанного вражеского заговора. Паутина лжи и клеветы, казалось бы, оплела их прочно.
Но они не пали духом, с честью прошли сквозь все испытания.
Книга обращена главным образом к молодежи, а острый конфликт и занимательный сюжет правдиво отражают картины жизни старой Бухары и борьбу за становление и укрепление Советской власти.

«… Весна в том году пришла поздно.
Она пришла вслед за очень суровой, с невиданными раньше морозами и обильными снегопадами зимой, но потому-то казалась особенно прекрасной.
Дожди, моросившие по ночам, будто омывали все вокруг; город выглядел светлее и наряднее. Днем небо прояснялось, и в его сверкающей лазури с криком резвились ласточки, а на куполах и порталах бесчисленных мечетей и медресе, на выступах, овеянных легендами башен, сидели аисты – птицы, приносящие, по поверью, счастье. Вечерами легкий ветерок приносил в город чудесные запахи полей… Это была первая весна новой жизни, и люди, наконец, вздохнули свободно.
Однако были среди людей и такие, которые ненавидели эту весну и готовились растоптать наконец-то обретенную свободу.
События, о которых мы рассказываем, произошли в одну из тех весенних ночей – через семь месяцев после того, как над воротами бухарского Арка[1] взвился красный флаг революции.
В низком ночном небе клубились черные тучи. Они полыхали огнем, тяжело гремели и порой проливались на землю крупными каплями дождя. Темные улицы Бухары были тихи и безлюдны. Только в квартале Аскар-Би, расположенном в отдаленной северо-западной части города, слышался шум. В центре улицы, над воротами большого дома, горел фонарь. На невысоком глинобитном возвышении – суфе, которое обычно занимал сторож, сидели и неторопливо разговаривали трое мужчин. Из дома доносились громкие голоса, музыка и слова песни, – хафиз пел протяжно, на манер бухарских «маврича» – выходцев из Мерва. Он пел:
На Бесутун-горе[2] затих ударов гул,
Как будто сладким сном герой Фархад уснул.
За воротами находился крытый проход, который вел в ярко освещенный фонарями и лампами двор, вымощенный жженым кирпичом, поставленным на ребро. Из кухни плыли острые ароматные запахи шашлыка и плова. Просторная мехмон-хона – комната для гостей, с синими стеклами в узких стрельчатых окнах, освещалась двумя большими подвесными лампами. На ковре, вокруг уставленной яствами широкой скатерти-дастархана, сидело пятеро собеседников, а в углу, у входа, аккомпанируя себе на рубобе, пели хафизы.
Хозяином здесь был мужчина средних лет, черноглазый и чернобровый, с длинной узкой бородой и толстой могучей шеей. На нем – легкий шелковый халат без подкладки, брюки-галифе и белая ситцевая рубаха с открытым воротом. Гостеприимно уступив передний почетный угол, он расположился ниже всех остальных гостей.
А на самом видном месте возвышался безбородый, очень толстый мужчина в черном костюме и ослепительно белой рубахе с высоким стоячим воротником. К нему обращались не иначе, как – «Назир эфенди» – «Господин народный комиссар».
Рядом с «Назир эфенди» сидел высокий худощавый мужчина в кокетливо повязанной маленькой чалме, с козлиной бородкой на смуглом лице, с острым, пронизывающим взглядом круглых глаз. Он был одет в длинный белый камзол и ватный халат из знаменитой каршинской алачи. Его называли «ишаном», или просто «Ахрорходжой».
Третий собеседник – мужчина с чисто выбритым лицом, кудрявой шапкой волос, в очках с золотой оправой – расположился у окна и не выпускал изо рта папиросы. На нем был серый костюм, на жилетке поблескивала золотая цепочка часов. «Господин Саиди», реже – «Господин редактор» – так обращались к нему.
И, наконец, за дастарханом сидел еще человек в форме работника милиции, – плотный, короткошеий, в кавказской, из золотистого каракуля папахе, с лихо закрученными пиками усов. Если к нему обращались, то называли, как обычно называют чтецов корана, – «Кори»; и только хозяин звал его просто по имени – «Хамд».
К самому хозяину обращались почтительно: «Мах» дум» – так испокон веков называли сыновей высокопоставленных духовных лиц.
В дореволюционной Бухаре Мухитдин-Махдум был известен своим разгульным и развратным образом жизни, в котором он стремился подражать самому эмиру Саид Алим-хану. И теперь весь сброд, процветавший при эмире, – все головорезы, убийцы, бандиты группировались вокруг него. Сегодня Мухитдин-Махдум собрал своих единомышленников…
…Музыканты кончили играть. Их вежливо, но без особого энтузиазма похвалили. Они, низко кланяясь, вышли из комнаты. По знаку Махдума Хамд запер обе двери, ведущие из мехмон-хоны в прихожую и в соседнюю комнату, затем сел на место и разлил по рюмкам крепкий и душистый конкордский коньяк. Гости подняли тост за здоровье хозяина. Протирая платком очки и близоруко щурясь, господин редактор Саиди оглядел присутствующих.
– Я действительно не понимаю происходящего, уважаемые эфенди, – заговорил он по-турецки. – Какие цепи преследовала Бухарская революция? Возвысить машкобов[3], русских, персюков или… нечто другое?
Мухитдин-Махдум иронически усмехнулся.
– Господин редактор, – сказал он, – как бы там ни было, но мой дом – не редакция ваших «Бухарских известий». Оставьте своих тюрков в покое и говорите хотя бы здесь на нашем языке.
Все рассмеялись, но Саиди возразил:
– Ошибаетесь, мой эфенди. Мы – тюрки, и наш язык, наши великие традиции и обычаи, наша кровь, наконец, – тюркские. Мы должны всюду говорить и писать по-турецки. Вот почему я и удивляюсь, что мы вынуждены почти в каждом номере давать статьи, информации и объявления на персидско-таджикском языке. Это ли не позор нации?
– А кто вам дает указания делать это? – спросил Назир-комиссар.
– Кто же еще, как не Цека и Революционный Комитет!
– Тут, конечно, замешан непосредственно Куйбышев, – вставил Мухитдин-Махдум. – Они это делают, чтобы быстрее разъяснить населению политику большевиков… Скажем прямо, – умно делают! В конце концов кто еще, кроме ваших «туркиз-яшариз»[4], понимает вас?!. Большинство людей в городе говорят по-таджикски, а вы хотите их силой обратить в своих тюрков. Кому это сейчас нужно?
– Золотые слова! – воскликнул Ахрорходжа, до сих пор молчавший. – Мы потомки великого потрясателя Вселенной Чингиз-хана, мы не забываем об этом, но по-турецки не говорим и не видим в этом никакой необходимости.
– Подождите! – поднял руку Назир. Голос его прозвучал властно. – Речь идет не о таджиках и тюрках, а о цели нашей революции. – Он помолчал, потом добавил: – В чем эта цель заключается? По-моему, в том, чтобы взять власть в свои руки. Добились мы этой цели? Да, но только до некоторой степени. Мы разобщены, у нас нет тесного союза, каждый живет и действует на свой страх и риск. А это используют другие. Крикливые машкобы, ткачи-кустари и прочий сброд, ногайцы и русские могут захватить наши места.
– Что верно, то верно, – поддержал Назира Мухитдин-Махдум. – Мы, по правде говоря, беспечны и нерешительны. Что такое власть? (Он злобно прищурился). Это – сила, могущество, мощь! У кого сила, тот и власть! И мы должны показать свою силу, иначе потеряем власть. Иначе…
– Что вы предлагаете? – остановил его Назир.
– Я предложил… тем, наверху, чтобы предоставили мне людей, оружие и – главное – свободу действий… Пусть, – усмехнулся Махдум, – дадут мне за городом «дачу»… тогда я смогу убирать этих выродков по одному. Часть из тех, власть имущих, – наши люди, они, конечно, согласились со мной. Создадим, сказали, «Окружную комиссию» с задачей оборонять город от басмачей. Но для того, чтобы принять это решение, нужно перетащить на нашу сторону большинство. Вы должны сказать об этом своим друзьям, господин Назир… А вам, ака-Кори, и вот таким, как ишан, – кивнул Махдум на Ахрорходжу, – нужно осторожно выявлять особо опасных для нас людей и сообщать мне.
– Хорошо, – сказал Кори. – Но под каким предлогом вы будете арестовывать горожан? Ведь ваша власть распространяется только на туманы…[5]
– Доберемся и до горожан! – пренебрежительно махнул рукой Махдум. – Мы будем обвинять их в том, что они помогают басмачам деньгами, продуктами… найдем чем. Оснований для смертных приговоров будет более чем достаточно.
Назир в сомнении покачал головой.
– Нет, до всех не добраться. Открыто арестовывать всех мы не сможем. Люди могут догадаться… Окружная комиссия, конечно, поможет убирать тех, кто стоит на нашем пути, но иногда и она будет бессильной.
– Я?! – прошептал Мухитдин-Махдум, и глаза его вспыхнули гневом. – Я буду бессильным?! Да я всех этих чекистов и их друзей-пособников могу уничтожить, дайте мне только людей и винтовки… Людей и винтовки! – выкрикнул он.
– Людей и винтовки дадим, – спокойно ответил Назир. – Вы открывайте свою кушишхону[6] за городом, работайте, но этого мало. Нам нужно еще и умело действовать…
– Каким образом? – спросил редактор Саиди, снова поправляя очки.
– Каким образом? – Назир на мгновение задумался, затем медленно заговорил. – Вы знаете, конечно, как действует паук… Он раскидывает свою тонкую, почти невидимую сеть, а сам прячется в укромном месте и ждет. Он долго и терпеливо ждет. Но вот летит муха. Она или не видит паутины, или не думает об опасности, летит – и попадает в расставленную сеть. Муха бьется, жужжит, вырывается, но запутывается все больше и больше, и наконец, обессилев, затихает. Вот тогда-то и выползает из своей засады паук. Он подползает к жертве и сосет ее кровь в свое удовольствие…
– Ну и что же из этого следует? – спросил редактор. – Я не понимаю сути вашей аллегории.
– Суть моей… как это? – аллегории, – усмехнулся Назир, – понять нетрудно. Но для этого вы должны увидеться прежде с самим пауком?
– С пауком?
– Да, с пауком, только на двух ногах и с двумя руками… Что скажете на это вы, Махдум?
– Объясните, пожалуйста, подробнее, – уклончиво ответил Махдум. – Какое все это имеет отношение к нашим делам?
– О, прямое! – ухмыльнулся Кори и победно покрутил пики усов. Глаза его лихорадочно заблестели.
– Нужно действовать подобно пауку, – объяснил Назир. – Нужно опутывать врагов паутиной, так опутывать, чтобы и голоса подать не сумели!..
– Теперь, когда нет эмира и нет зинданов[7], – со вздохом сказал Саиди, – найти паучье гнездо…
– Не представляет никакого труда, – прервал редактора Назир. – Если хотите, Кори сейчас же приведет его сюда, и мы быстро с ним договоримся.
– Но ведь это… – встревожился Саиди.
– Не бойтесь, – усмехнулся Назир. – Для нас этот человек безопасен, – и сделал знак Кори.
Кори мгновенно исчез; не успели гости опомниться, как он уже появился снова с человеком в поношенном алачевом халате и с большой чалмой на голове. В его облике и повадке было действительно что-то то от паука… Саиди от одного его взгляда съежился и замер, словно муха, попавшая в паучью сеть.
– Ассалому алейкум! – поздоровался новый гость. Он уселся, поднял раскрытые ладони чуть выше лица и забормотал традиционные пожелания благополучия, здоровья и сохранения от всех бед живущим в доме. – Омин, авлоху акбар![8] – закончил он.
Ахрорходжа сразу же узнал его: это был шейх из рода Ходжаубони.
– Все ли ваши здоровы? – спросил Назир.
– Под сенью вашей власти и нашего справедливого правительства…
Но Назир не был расположен выслушивать подробности. Он прервал:
– Как дела, работа?
– Идут…
– Работает ли ваш дом для умалишенных?
Шейх удивился, но тут же овладел собой.
– Теперь, господин Назир, сумасшедших лечат врачи. Такими людьми, как мы, вымели дорогу. Вымели и выбросили…
Назир покачал головой.
– Это нехорошо. Если закрыть ваш дом, Бухара переполнится безумцами. Но мы не допустим этого. Завтра… завтра же, – подчеркнул он, – приходите в Назират здравоохранения. Мы выдадим вам специальное удостоверение и работайте, как работали прежде. Никто не посмеет вам препятствовать.
– Дай бог вам здоровья, мой господин! – поблагодарил шейх и, улыбнувшись, добавил: – Не мешал бы господин Кори со своей милицией, а других я не боюсь.
– Мы сказали – Кори вам мешать не будет.
– Когда вы получите удостоверение, – засмеялся Кори, – вы станете нашим шейхом, шейхом джадидов,[9] и тогда мы не мешать – мы помогать вам будем, достопочтенный друг.
Мухитдин-Махдум налил вина и протянул пиалу шейху.
– Берите, «советский» шейх, пейте – это вино дозволено шариатом.
Шейх сначала не соглашался, потом уступил просьбам собравшихся и, поблагодарив, неторопливо высосал пиалу.
– Вах, вах, вах… – в восторге закачал он головой, облизывая усы. – Райское вино! Вино для гурий!
– Тогда еще одну!
– С удовольствием! – На этот раз шейх сразу же взял пиалу. – Грех не пить такое вино.
После третьей пиалы он почувствовал себя легко и свободно и разошелся настолько, что даже снял чалму.
– В молодости, – говорил он, – я не чужд был мирских утех. О, сколько я выпил тогда вина, сколько гурий побывало в моих объятиях. Я не пропускал веселых вечеринок, играл в азартные игры, даже иной раз дрался на ножах… Но никогда не терял рассудка, никогда не переступал через повеления всевышнего и его пророка на земле…
– Не зря, значит, вы стали шейхом, мой господин, – иронически бросил Ахрорходжа.
– Да, не зря! – громко сказал Назир и, испытующе глядя на шейха, добавил: – Мы знали, что вы мастер на все руки, поэтому и пригласили вас сюда.
Шейх выдержал взгляд Назира.
– Мудро поступили, мой господин! – ответил он.
– Мы ничего для вас не пожалеем, – спокойно продолжал Назир. – Но мы ждем, что и вы будете готовы…
– Я готов!
– Ваш дом умалишенных должен служить нашим целям! Иначе говоря, там должны содержаться, то есть лечиться те люди… те безумцы, – снова поправился Назир, – на которых мы вам укажем.
Шейх зажал бороду в кулак и задумался.
В комнате воцарилась напряженная тишина.
Первым нарушил ее Мухитдин-Махдум.
– Нам приказано, – сказал он, предварительно кашлянув, – арестовывать и расстреливать всех контрреволюционеров, всех ишанов и шейхов.
– Мой господин, нет необходимости в ваших словах, – тотчас же ответил шейх. – Я принял из ваших рук пиалу с вином и осушил ее. Я согласился со всем, что вы говорили, и полагал, что вы поняли меня. Сейчас я думал над тем, как лучше лечить ваших сумасшедших.
– Посадить на цепь, бить, держать на воде и хлебе. А потом…
– Но прежде всего, – прервал Махдума Назир, – вы должны приложить все усилия для того, чтобы никто, никогда не узнал ни их имени, ни происхождения. Этих людей нужно разумно изолировать от всего мира.
– Об этом не беспокойтесь, – заверил шейх. – Как-никак у меня на этом деле борода поседела. Хоть с завтрашнего дня присылайте своих больных. А выйдут они оттуда или нет – это уже будет зависеть от вас…
– Завтра же с утра и приступайте к делу, – приказал Махдум. – Подберите двух-трех подлинных безумцев. Это ничего, это даже лучше… Придет час, и мы вам дадим знать… Вы будете получать два золотых… десять рублей в месяц, а также муку, сахар, масло, рис и все прочее… Только помните: «Красный язык может погубить зеленую голову…»
– Знаю…
– Вы поняли нас?
– Понял! – ответил шейх.
Назир улыбнулся…»
…Я собирал материалы для задуманного мною большого романа[10] и с этой целью приехал в Бухару. Меня пригласили в дом известного и уважаемого человека, заслуженного учителя Остонзода. Он потерял зрение и доживал свой век на пенсии. Остонзода увлекался поэзией, отличался тонким умом и большим вкусом. Узнав, что я писатель, он обрадовался.
– Я одно время тоже пописывал, – сообщил он. – Моя покойная жена была женщиной умной от природы, и когда я… вынужден был оставить школу и стал сидеть дома, она начала уговаривать меня взяться за перо, рассказать о пережитом… Наверно, хотела сделать из меня второго Николая Островского, да не успела…, – с печальной улыбкой закончил Остонзода.
– Но вы все-таки пробовали писать? – спросил я. – У вас что-нибудь есть?
– Да, ответил старый учитель. Он пошарил на полке в стенной нише, достал портфель, извлек оттуда толстую тетрадь. – Вот здесь начало, не знаю, как вы назовете, – то ли рассказ, то ли просто записки, а конца нет, – когда потерял жену, уже не мог продолжать…
Я взял тетрадь, прочел заголовок – «Тори анкабуд», что в переводе означает «Паутина», пробежал первые страницы – и уже не мог оторваться. Я забыл о том, что нахожусь в гостях. Так я прочитал всю тетрадь. Она обрывалась на фразе: «Назир улыбнулся…»
– И это все? – спросил я.
– Все, – вздохнул Остонзода. – Остальное в голове.
– Пока вы не расскажете мне, я не уйду отсюда! – решительно заявил я хозяину. – Пишу я быстро и не буду прерывать вас. Давайте завершим начатое. Расскажете?
Я с откровенным восхищением смотрел на Остонзода. Он улыбнулся. Мои чувства как бы передались ему и, немного подумав, он сказал:
– Все это я пережил сам. Был день, когда я попал в сумасшедший дом, и с этого дня начнется мой рассказ… Если бы вы знали, как это ужасно, когда враги бросают в дом умалишенных совершенно здорового человека! Сам по себе, просто так, человек никогда не потеряет рассудка. Для этого должно произойти нечто ужасное и невероятное… Вы спрашиваете, откуда я это знаю? Нет, я не был сумасшедшим, но чуть им не стал, – вы понимаете, – я чуть не сошел с ума. Эх, как тяжело вспоминать все это…
1
…Сейчас, брат мой, кое-кто из молодых да горячих взял себе за моду: чуть что не так, хвататься за голову и кричать, будто он сходит с ума. Это нехорошо. Упаси, как говорится, бог от безумия! Дни, проведенные с сумасшедшими, когда меня оклеветали… о, это страшные дни! И сегодня, почти через сорок лет, вспоминаешь о них с ужасом. Как только мне удалось выдержать?.. Своим счастьем я обязан Лютфиджан, моей покойной жене… Любовь чуть не свела меня с ума, – но любовь и принесла мне избавление! Я не хотел бы рассказывать об этом, но вы так настаиваете… Хорошо, я расскажу. В назидание нашей молодежи, которая растет в счастливое время, и, что греха таить, порой не ценит выпавших на ее долю благ, – ей в назидание расскажу я историю о том, как был «сумасшедшим»…
Остонзода сделал небольшую паузу, отпил глоток зеленого чая и задумчиво заговорил. Я застрочил карандашом в блокноте.
– Прежде, – рассказывал учитель, – в Бухаре сумасшедших «исцеляли» шейхи из рода Ходжаубани. Сейчас здесь не осталось и следа от квартала с этим именем. Но в прошлое время, если идти от Нового Базара к кварталу Ляби-хауз Арбоб, в западную часть Бухары, и там, немного не доходя до квартала Кукельдаш, повернуть на юг, в сторону квартала Сабунгарон, то можно было выйти на узкую улочку (по ней с трудом проезжала арба), которую и называли кварталом Ходжаубани. В центре этой улицы стоял дом Ходжи[11]. Громадные, высокие и крепкие ворота, деревянные навесы и всегда чисто подметенный, всегда политый просторный двор… Может быть, это мое личное ощущение, но все здесь, от массивных ворот и толстых стен до комнаты для гостей и глубоких подвалов, – все было рассчитано на то, чтобы внушать ужас…
Войдя в ворота, вы попадали в крытый мрачный проход. В правой стороне двора находился громадный сарай с широким входом. В таких помещениях обычно держали верховых лошадей. Но здесь содержались заросшие, полуголые, в грязных лохмотьях, опутанные цепями люди, то неподвижные, молчаливые и грустные, то кричащие, рыдающие, корчащиеся в судорогах… Это – сумасшедшие, которых привели сюда лечить. К ним относились хуже, чем к скоту. За ними не было никакого присмотра. Их дневная пища состояла из куска черствого хлеба и холодной воды; спали они на сырой и твердой земле и во сне гремели тяжелыми цепями… Если еще добавить, что их часто и нещадно били плетьми, то картина будет полной.
Кто эти несчастные, как их зовут, чем они занимались до того, как попали сюда? Об этом никто не знал и никто не спрашивал. На все имелся один ответ: они – сумасшедшие, а этот дом – дом Ходжаубани. Бухарцам этого было достаточно.
Вот я и попал сюда, не думая, не гадая, будучи совершенно здоровым человеком, – попал по злой воле злых людей. Объявленный сумасшедшим, я стал одним из этих отверженных.
Мой «таго» – дальний родственник матери, которого я по ее просьбе называл дядей, уже знакомый вам Ахрорходжа, как-то сказал мне, что мы идем в гости и велел одеваться.
Я влез в свой старый ватный халат – единственное мое имущество. Мы вышли из дома. На улицах было пустынно, темно и тихо. В те времена на каждый квартал приходилось по одному фонарю; они тускло коптели над воротами мечетей или над витринами больших бакалейных магазинов, а в остальных местах – хоть глаз выколи.
Мы прошли по лабиринту торговых рядов Нового Базара, мимо прилавков, навесов, мелких лавчонок, где торговали сладостями, всевозможной галантереей и другими товарами, но в это позднее время все они были уже закрыты. Дальше, до самого квартала Кукельдаш, мы шли относительно людными улицами, которые соединяли центр города и Ляби-хауз Арбоб с кварталами Кушмедресе и Мирдустим, тогда самыми крупными во всей «Бухорои шариф» – «благородной Бухаре». Но стоило нам свернуть на улицу Ходжаубани, как в мою душу закрался страх, сердце неприятно сжалось… Я знал, что на этой улице находится дом умалишенных и был наслышан о злых духах и красавицах-пэри, сводящих людей с ума.
Странно сказать, но во мне затеплилась какая-то надежда. По правде говоря, я верил в те годы во всех этих джинов, дивов и пэри: сказки и легенды, которые я слышал, влекли меня к их призрачному миру. Бывали мгновения, когда жить становилось невыносимо, или были месяцы и дни, когда в сердце бушевал огонь любви, – тогда я обращался мыслью к ним. О, думал я, если бы пришел джин, покорный моей воле, или появилась бы красавица-пэри! Они отомстили бы моим врагам, привели бы меня к цели, помогли соединиться с любимой… Но мольбы мои не помогали. И мне оставалось только мечтать, что вот вдруг возникнет передо мной светлый, добрый ангел и спросит, отчего я согнулся под тяжестью жизни. «Подожди, – скажет, – я помогу тебе. Я переделаю все твои дела. Твой дядя не ведает жалости к тебе и будет за это наказан, я заставлю его полюбить тебя!..»
Вот каким был я в те годы! И оттого мне показалось, что здесь, в квартале Ходжаубани, мои желания исполнятся, что покорятся мне джины и пэри, – и это ободряло меня.
А дядя мой, Ахрорходжа, высокий, худощавый, с пронизывающим взглядом круглых глаз и козлиной бородкой, шел легко и смело – как человек, уверенный в себе и власть имеющий. Одет он был в поношенный алачевый халат, на голове – красивая маленькая чалма, на ногах – кожаные ичиги. Он благоухал тонкими духами, которыми была смочена ватка, лежавшая в кармане его длинного камзола. Скрип его новеньких кавш[12] разносился далеко.
Да, он был человеком свободным от нужды и забот, но потому именно он и был таким безжалостным и хитрым, злобным и коварным. Я не знал, отчего он вдруг сегодня снизошел до меня и взял с собой в гости. Раньше о подобном не приходилось и думать. Нет, тут что-то не то… Но что же может быть? Ведь я сейчас ему очень и очень нужен. Сам он целые дни проводит в своей лавке или в гостях, и дома, кроме меня, других помощников нет. Я ему и племянник, и слуга. Ничего, что я живу хуже иных собак, ничего, что я не учусь и нет у меня никакой профессии – все ничего!.. Зато я племянник и член такой семьи… Но почему, когда мы уходили, янга[13] смотрела на меня такими печальными глазами и даже чуть не расплакалась? Почему дядя сегодня совсем не ругал меня? Раньше он не успевал пилить меня по каждому пустяку: и двор подметен не чисто, и не полито под дверью, и купил постное мясо, и не прочистил как следует стекла ламп, и еще, еще и еще… Но сейчас он тих, молчалив и даже не глядит на меня.
Так я думал дорогой.
Мы подошли к дому шейха Убани. По обеим сторонам массивных ворот стояли две небольшие суфы, на которых, если в доме праздник или какое-нибудь торжество, обычно сидели домочадцы, принимающие гостей. Но в этот вечер здесь не было ни души, ворота – плотно закрыты, изнутри не доносилось ни звука.
Ахрорходжа толкнул ворота, и мы вошли в крытый проход, тускло освещенный фонарем, который висел над небольшой калиткой, открытой во внутренний двор. Сделав шаг-другой, я впервые в жизни увидел сумасшедших. Они сидели под темным навесом. Сверкающие гневом, невыплаканным горем и невысказанной болью глаза уставились на нас. Кто-то в глубине навеса истерично захохотал, потом грубо выругался, другой внезапно зарыдал. Внутри у меня все похолодело, отнялись ноги…
– Идем, чего стал!
Голос Ахрорходжи вырвал меня из оцепенения, и я бегом нагнал его, попав через распахнутую калитку в мощенный кирпичом двор. Мы поднялись по двум ступенькам и вошли в прихожую большой комнаты. Прихожую освещала лампа, стоящая на верхней полке в нише. Кроме этой лампы и пары кожаных туфель на высоких каблуках здесь ничего не было. «Где же гости?» – подумал я, но тут же увидел юношу, чуть постарше меня, стройного, плечистого, в белой чалме и халате из гиждуванской алачи, подпоясанного шелковым платком. Он стоял у дверей, ведущих в комнату для гостей.
– Добро пожаловать! – сказал он. – Мой Ходжа ждет вас.
Ахрорходжа, сняв туфли, вошел в комнату и сделал мне знак, чтобы я шел за ним. Удивляясь все больше, я последовал его примеру.
Просторная мехмонхона была оштукатурена гипсом и поражала пышностью обстановки. На плотном кизылаёкском ковре лежали якандозы – узкие подстилки для сидения и торчали небольшие подлокотные подушки. В нишах на полках и полочках вызывали восхищение многочисленные красивые вещи – фарфор и хрусталь, большие настольные часы, медные офтобы – узкогорлые кувшины для умывания и кожаные яхдоны – сундучки для хранения продуктов, книги и многое другое.
В дальнем углу комнаты, у окна, на уложенных в три ряда одеялах, величаво и надменно восседал сам Ходжа, хозяин этого дома. Черная узкая борода средних размеров, чалма, какие носят муллы и знатные ишаны, – все это очень молодило его. Но приплюснутый нос на широком лице, покрытом сетью красноватых жилок, злые глаза-буравчики, которые так и сверлили человека насквозь, и большие зубы-клыки уродовали его, внушали с первого же взгляда отвращение.
Что все это значит, что это за дом и эта комната с обстановочкой, которую я никогда не видел и не думал увидеть, зачем я пришел сюда и с какой целью дядя потащил меня за собой?.. Я вошел в комнату и остановился возле дверей. А дядя торопливо направился к Ходже, поздоровался с ним и стал участливо расспрашивать его о здоровье и делах. Ходжа сделал ему знак сесть и, ткнув в меня пальцем, спросил:
– Это и есть ваш племянник?
– Да, господин, – ответил Ахрорходжа, – он самый, и вам, конечно, известно…
– Да, да, я вижу! – сказал Ходжа.
Я ничего не понял из этого разговора. Смущенный и растерянный, я готов был бежать отсюда, но дверь загораживал молодой слуга, встречавший нас, и не было никакой возможности проскочить мимо него. Неожиданно он с силой взял меня за локоть, провел через всю комнату и усадил на ковер неподалеку от Ходжи. Я удивленно взглянул на дядю. Но он смотрел только на хозяина и даже не обернулся в мою сторону. Ходжа просверлил меня своими глазами-буравчиками, потом легко, неслышно поднялся и встал надо мной.
– Не бойся, сынок, – мягко сказал он, – я тебя чуть-чуть полечу, и недуг покинет тебя. Только не шуми, иначе себе же сделаешь хуже.
– Дядюшка, – сказал я, с усилием разжимая губы, – в чем дело?
– Потерпи, поймешь, – ответил Ахрорходжа.
У Ходжи в руках неизвестно откуда появился камчин – толстая, с кистью на конце, плеть.
– Бисмиллах![14] – воскликнул он, поднимая камчин, и с силой хлестнул меня по спине. Страшная боль ошеломила меня.
– Ой! – вскрикнул я и тут только понял, что меня приняли за сумасшедшего. – Остановитесь. Дядюш… Ой!.. Я не сумасшедший! Я ничего вам не сделал! Я не сошел с ума! Ой!.. Ой!.. Ой!.. Я буду кричать, остановитесь, не бейте меня!..

Однако вопли и стоны мои не трогали ни Ходжу, ни дядю. Ходжа продолжал стегать меня, читая какие-то заклинания, а Ахрорходжа сидел неподвижно, схватившись за ворот халата, и на его лице не отражалось никаких чувств.
Я пытался вырваться, но напрасно. Сам Ходжа вместе со слугой связали меня по рукам и ногам крепкой веревкой.
Ходжа, тяжело дыша, обернулся к дяде.
– Иного выхода нет, – сказал он. – Племянник ваш болен очень тяжело. – Потом, помолчав, отдышался и добавил, что оставит меня у себя, что попробует, если будет на то милость аллаха, исцелить меня заговорами и заклинаниями.
– Все мои надежды на вас, только на вас, достопочтенный ишан, – ответил Ахрорходжа.
Я лежал у них в ногах связанный, словно овца, приносимая в жертву. Нестерпимо горело тело, но хуже всяких побоев было горькое сознание одиночества и беззащитности. Я не понимал, для чего и кому это нужно, – объявить меня сумасшедшим. Ведь Ахрорходжа без меня, как без рук! Я ему и покорный, и бесплатный слуга… Так зачем же он это делает? Даже сейчас мне не верилось, что это дело его рук, что он сам умоляет ишана излечить меня и протягивает ему за это деньги.
Ходжа, не считая, взял пачку смятых кредиток и сказал:
– Будьте покойны, ишан Ахрорходжа: не пройдет и года, как племянник ваш здоровым вернется домой.
– Я здоров, дядюшка, – сказал я, глотая слезы. – Не мучьте меня, пожалейте, я прах у ваших ног, но я же человек, я хочу жить… Не уходите, постойте, спасите меня! Дядюшка! Дядя!..
Ахрорходжа ушел, не слушая меня, даже не оглянувшись.
Ходжа пересчитал полученные деньги и приказал слуге, чтобы тот позвал своего брата.
– Сам справлюсь, – ответил слуга.
– Не будь ребенком! – резко оборвал его Ходжа. – Иди и позови брата! Этого дьявола, – кивнул он на меня, – надо отнести на руках и заковать. Один ты не справишься.
Слуга молча вышел. Ходжа снова сел на свое место и, облокотившись на подушку, спросил:
– Как тебя зовут?
– Мурад. (Во мне мелькнула надежда заслужить его милость, доказать своими ответами, что я совсем не сумасшедший). Меня зовут Мурад, я родственник Ахрорходжи.