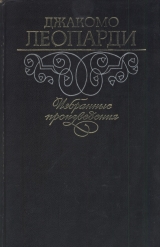
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Джакомо Леопарди
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Опыт, и взаимное общение, и науки, и тысячи других причин, которые нет нужды называть, с течением времени сделали нас столь непохожими на наших далеких предков, что если бы они воскресли, то, наверно, с трудом признали бы нас за своих внуков. Потому-то ничуть не удивительно, если мы, такие практические и ученые, такие изменившиеся, мы, которым очевидно сокрытое от древних, и ведом целый мир причин, неведомых для древних, и несомненно то, что для древних было невероятно, и старо то, что для древних было ново, – мы обыкновенно глядим на природу иными глазами и в различных случаях жизни не испытываем и сотой доли ощущений, возникавших у наших предков от тех же причин. Но ведь и небо, и море, и земля, и весь облик мира, и зрелище природы и ее дивных красот изначально соответствовали свойствам естественных зрителей, а естественное состояние человека есть невежество, между тем как состояние ученого, который, созерцая звезды, знает, почему они восходят, и не удивляется ни грому, ни молнии, а созерцая море и землю, знает, что заключает в себе море и что – земля, и почему набегают и убегают волны, и отчего дуют ветры, текут реки, растут деревья и травы, и отчего та гора – нагая, а эта одета лесами; которому досконально известны чувства и характеры людей, и силы, и самые скрытые пружины, и связи, отношения и соответствия великого мирового целого, и то, что на языке новой науки называется «гармониями природы», «аналогиями» и «симпатиями», – состояние его есть состояние искусственное, ибо природа в действительности не распахнута настежь, она прячется, и нужны тысячи хитростей и чуть ли не козней, тысячи ухищрений и орудий, чтобы, тесня ее, давя и пытая, силой вырвать у нее из уст ее тайны, – но, пытаемая и разоблаченная, она не дарует уже тех наслаждений, которые прежде дарила по доброй воле. То, что я говорю об ученых, говорится в большей или в меньшей мере обо всех просвещенных людях, а значит, и о нас, особенно о тех, кто не принадлежит к простонародью, а из простонародья о тех, кто живет в городах, и вообще о любом человеке, кто дальше отошел от первобытного и естественного состояния людей. Я не спорю о пользе всего этого, и мне не приходит в голову соперничать с теми философами, которые оплакивают человека, ибо в нем на смену грубости пришла утонченность, и скорбят о плодах и молоке, на смену которым пришло мясо, о древесных листьях и шкурах, уступивших место тканям, о пещерах и хижинах, уступивших место дворцам, о пустынях и лесах, обратившихся в города: смотреть, что полезно и что истинно, – дело философа, а не поэта, поэт же заботится лишь об услаждающем, и при этом услаждающем воображение как посредством истинного, так и посредством ложного, он даже по большей части лжет ради обмана, обманывающий же ищет не истины, а видимости истины. Но красоты природы, изначально соответствующие свойствам естественного человека и устроенные так, чтобы давать ему наслаждение, не меняются от перемены зрителя, и никакие изменения в людях не поколебали ничего в природе, которая, беря верх над опытом, науками, искусствами и вообще всем человеческим, вечно остается сама собою; а значит, если нам угодно извлечь из нее то чистое и подлинное наслаждение, которое есть цель поэзии (ибо наслаждение в поэзии возникает из подражания природе) и которое в то же время отвечает первобытному состоянию людей, необходимо, чтобы мы приноровлялись к природе, а не она к нам, и потому чтобы и поэзия, вопреки желанию многих наших современников, не изменялась и оставалась в главных своих чертах незыблемой, как природа. А приноравливаться таким образом к природе значит переноситься воображением, насколько это в наших силах, в первобытное состояние наших предков, что и заставляет нас сделать без всяких с нашей стороны усилий поэт – повелитель вымыслов. И нетрудно понять, что, если мы это сделаем, перед нами откроется источник небывалых небесных наслаждений, что природа, неизменная и неиспорченная, явит тогда вопреки нашей просвещенности и испорченности свою бессмертную власть над людскими душами, одним словом, что эти наслаждения и в наши дни останутся самыми желанными для нас по нашей естественной склонности, ибо мы жаждем быть обманутыми поэзией; нужно только помимо самого этого обстоятельства обратить внимание на наше непреодолимое влечение к первобытному, к естественно чистому и непорочному, до такой степени врожденное людям, что его последствия не замечаются, ибо они слишком повседневны и, как бывает тысячи раз, сама их обычность мешает приметить их. Но отчего еще происходит наша безграничная любовь к простоте и в нравах, и в манерах, и в речи, и в слоге письма, и во всем, откуда та несказанная сладость, которой наполняет нам душу не только вид сельской жизни, но и мысль о ней, и ее образ, и поэты, описывающие ее, и память о старинных временах, и история патриархов или Авраама, и Исаака, и Иакова, повести об их превратностях и деяниях в пустыне и о жизни в шатрах среди стад, и почти все то, что содержится в Писании, и особенно в Книге Бытия; откуда то волнение, которое возбуждает в нас, и то блаженство, которое доставляет нам чтение любого поэта, а лучше всего – изобразившего и живописавшего все первобытное, – чтение Гомера, Гесиода, Анакреонта и особенно Каллимаха[82]82
Каллимах (ок. 320–240 гг. до н. э.) – алек сандрийский поэт и ученый, от которого до нас дошли «Гимны» – изощренная стилизация Гомеровых гимнов – и утонченно-остроумные эпиграммы.
[Закрыть]? И две главные склонности нашей души – любовь к естественности и ненависть к жеманству – обе врожденные, как я полагаю, и свойственные всем, но сильнейшие и могущественнейшие в тех, чье дарование от природы приспособлено к изящным искусствам, – равным образом проистекают из нашей приверженности к первобытному. И она же, стоит нам увидеть нечто не затронутое цивилизацией, любой остаток, любой след первозданной естественности, внушает нам, хотя мы и возвысились над ними, приятное умиление и смутную тоску, потому что природа зовет нас и манит, а если мы противимся, влечет нас силой, девственная, нетронутая природа, против которой бессильны и опыт, и знание, и сделанные открытия, и переменившиеся нравы, и просвещение, и ухищрения искусства, и украшения, ибо ни одно, даже самое блистательное, величественное, древнее и могучее создание человека не превзойдет ничего и не сравнится ни с чем, в чем явлен след деяния Творца. И кто из нас – даже не поэт, не музыкант, не живописец, не великий гений, а всего лишь читатель поэтов, слушатель музыкантов, зритель живописцев, любой, в ком испорченность и чуждость всему человеческому, всему естественному не заглушили всех человеческих и естественных влечений, кроме грубых и низменных, – кто из нас не знает, не видит, не чувствует и не может подтвердить рассказом из собственного несомненного и неоднократного опыта, что все сказанное мною – правда? И если свидетельства других не достаточно, я зову свидетелями вас самих, читатели, зову вас самого, кавалер: у вас не может не быть того опыта, которого я ищу, вашему сердцу не могло остаться неведомым то волнение, о котором я говорю, не может быть, чтобы нетронутая природа, или нечто первобытное, или неподдельная простота, или чтение древних поэтов вас не опьяняли несчетное множество раз изысканнейшим наслаждением; вы сами подтверждаете, что, подобно тому как первобытные формы природы не изменились и не изменятся, так и любовь к ним человека не угасла и не угаснет прежде, чем истребится людское племя. Но зачем ищу я вещи ничтожные, или неясные, или малоизвестные, если могу сказать одну ясную как день и известную любому, так что ее засвидетельствует мне каждый, даже не открывая рта? Ведь каждый из нас был тем, чем когда-то были древние, все мы по нескольку лет были такими, каким был весь свет на протяжении нескольких столетий: я имею в виду детство, когда мы причастны тому неведению, тем страхам, тем наслаждениям, тем суеверьям, той непрестанной деятельности воображения, благодаря которым и гром, и ветер, и солнце, и звезды, и животные, и растения, и стены наших жилищ казались нам или дружелюбными, или враждебными, но только не безразличными, не бесчувственными, детство, когда каждый увиденный предмет словно подавал нам знаки, как будто бы желая заговорить с нами, когда мы нигде не были в одиночестве и вопрошали собственные фантазии, и стены, и деревья, и цветы, и облака, и целовали камни и палки, и наказывали, как будто за обиду, и ласкали, как будто в благодарность за что-нибудь хорошее, вещи, не способные ни обидеть нас, ни сделать нам что-нибудь хорошее; детство, когда нами все время владело удивление, такое сладкое, что нам доныне хочется верить по-прежнему, чтобы по-прежнему удивляться, когда краски мира, и свет, и звезды, и огонь, и полет насекомых, и прозрачность родников – все было ново и непривычно для нас, и ничто происходящее не миновало нашего внимания как слишком обыкновенное, когда мы не ведали никаких причин и сами вымышляли их в меру своего дарования и в меру своего дарования их приукрашивали; детство, когда слезы лились у нас ежедневно, а наши страсти, неукротимые и дикие, не подавлялись силой и смело прокладывали себе путь. А каково было об эту пору наше воображение, как часто и легко оно воспламенялось, как свободно и необузданно, бурно и неутомимо витало повсюду, как увеличивало все мелкое, украшало все лишенное украшений, озаряло все темное! Сколько оно дарило нам живых и дышащих призраков, блаженных снов, несказанных грез, сколько чар, и чудес, и прекрасных ландшафтов, и причудливых вымыслов, сколько предметов, достойных поэзии! Как оно было богато, и сильно, и деятельно, как много приносило волнений и радости! Я сам помню, как в детстве услышал в воображении звук такой сладостный, какого не услышишь в этом мире; и еще я вспоминаю, как глядя на пастухов и овечек, которыми был расписан потолок моей комнаты, я рисовал в воображении такие красоты пастушеской жизни, что, если бы подобная жизнь была нам дарована, она протекла бы уже не на земле, а в раю, где обитали бы не люди, но бессмертные; и я бы не усомнился (не обвиняйте меня в гордыне, читатели, за то, что я собираюсь сказать) счесть себя божественным поэтом, если бы умел живыми воспроизвести в моих писаниях и, не показывая, внушить другим те образы, которые я видел, и те чувства, которые испытывал в детстве. Я не желаю ни упоминать, ни тем более доказывать, что память о детстве, о мыслях и фантазиях этого возраста с течением нашей жизни становится нам особенно дорога и отрадна: нет человека, который бы не знал этого и не испытывал ежедневно, и не только испытывал, но и, заметив подобное чувство, удивился бы ему (если человек этот не совсем лишен дарования и легкомыслен). Вот вам и очевидная, осязаемая в нас самих – очевидная для каждого – приверженность к первобытному; при этом я имею в виду нас, людей современных, кого романтики стараются убедить, будто древний, первозданный род поэзии не для нас. Между тем но нашему пристрастию к воспоминаниям детства должно судить, каково наше пристрастие к неизменной, первобытной природе, которая обнаруживает себя и царит в младенцах; значит, упомянутые детские вымыслы и детское воображение – это вымыслы и воображение древних, а воспоминания о наших ранних годах и наши первые мысли, любить которые и тосковать по которым нас влечет с такой неудержимой силой, – это те воспоминания и мысли, какие будит в нас подражание чистой, нетронутой природе, те, которые может и, на наш взгляд, должен пробуждать в нас поэт, которые и пробуждают в нас древние, а романтики поносят, отвергают и изгоняют из поэзии, крича, что мы уже не дети; весьма жаль, что это так, – но ведь поэт должен внушать иллюзии, а внушая их, подражать природе, а подражая природе, доставлять наслаждение, – а где поэтическое наслаждение бывает более истинным, и сильным, и чистым, и глубоким? И что есть природа, если не это? Более того, есть ли и была ли иная природа, кроме этой?
Неужто станем мы искать природу и иллюзии в обычаях, мнениях, знаниях нашего века? Какую природу, какую прекрасную иллюзию надеемся мы найти во времена, когда повсюду – лишь просвещение, разум, наука, практический опыт, ухищрения искусства, когда нет такого предмета, который не был бы искажен человеком, нет такого места, где первозданная природа не являлась бы взорам наподобие редких проблесков, не была бы покрыта и окутана как бы плотной и толстой тканью; когда удивляться постыдно, когда нет такой страсти, род, и форма, и мера, и последствия которой не были бы замечены другими, исследованы, разобраны и разъяты до самой глубины; когда наше сердце, отрезвленное рассудком, уже не трепещет, а если и затрепещет вдруг, то рассудок тут же спешит обыскать его и вырвать у него все тайны этого трепета, так что исчезает всякая иллюзия и всякая сладость, исчезают все высокие помыслы; когда за каждым движением нашей души подсматривают и охотятся, как птицеловы за добычей, когда все-все, что чувствуют, чем волнуются, в чем себя обнаруживают, что испытывают сердце и воля человека, предвидится и предсказывается, подобно тому как астрономы предсказывают появление звезд и возврат комет; когда нет человека, обладающего хоть мало-мальски живым и изощренным умом, который бы не знал своего характера и всех своих достоинств, всех изъянов, не мог бы описать причины своих поступков и мыслей, разобрать будущие надежды и опасения своей жизни, предсказать все о самом себе и о превратностях, которые предстоит пережить его сердцу; когда наука о человеческой душе стала точной и почти что математической и уж решительным образом «аналитической», по ученому выражению наших современников, ибо она излагается чуть ли не с помощью углов и окружностей и пользуется чуть ли не числовыми расчетами и формулами? Неужто «взаимное братство наук и искусств», «чудеса промышленности», опыт, открытия, все последствия просвещения придадут, как утверждает кавалер, новые силы фантазии? Неужто все, что душит ее, должно ее оживить? Неужто разум, который на каждом шагу обращает ее в бегство, преследует ее, нападает на нее и вынуждает признаться, что она грезит, неужто опыт, который осаждает ее, и теснит, и подносит к ее лицу свой докучный фонарь, – неужто они дадут ей новую пищу и ободрят воображение? Не притеснения, не темницы и цепи придают мужество фантазии, но лишь свобода; наука и открытия для нее – не широкие поля, а рвы и насыпи, и слишком яркий свет истины не может быть благотворным для сумасбродки по природе, а обогащающее рассудок не обогатит фантазию, и так несметно богатую; притом ее первое и главное богатство – это свобода, а познанная истина и несомненность по природе своей призваны отнимать у нас свободу вымысла. Если бы на деле все обстояло так, как утверждают романтики, границы воображения у детей были бы весьма тесны и расширялись бы, по мере того как человек набирается разума; но все бывает наоборот: у малых детей воображение очень обширно, у взрослых оно посредственно, а у стариков – ничтожно. Мы ясно видим, что в каждом из нас владения фантазии, сначала бесконечные, затем сокращаются настолько же, насколько расширяются владения рассудка, и наконец становятся совсем ничтожны; а значит, точно то же самое происходило и в мире, где фантазия первых людей свободно витала по неизмеримым просторам, а потом, но мере того как распространялась вширь держава разума, то есть росли практический опыт и знания, она, изгнанная из своих исконных земель, постоянно теснимая и преследуемая, в конце концов стала такой, какой мы видим ее сейчас, – сдавленной со всех сторон, запертой в темнице и почти неподвижной; и доведенную до такого состояния романтики и кавалер ди Бреме зовут, о читатели, счастливой, зовут повелительницей обширнейших царств. Не следует, однако, думать вслед за многими, что со временем воображение лишается силы, теряя ее, по мере того как увеличивается господство рассудка; утрачивалась и утрачивается не сила воображения, а способность пользоваться им, которая у древних если и слабела от юности к зрелости и от зрелости к старости, то лишь совсем немного, а у нас, едва лишь входит в силу рассудок и забирает власть, немедля идет на убыль и под конец почти совсем пропадает. Остается сила, но не находит себе применения; остаются поля, где прежде обычно резвилось воображение, но они ограждены валами рассудка; если мы хотим, чтобы воображение наше оставалось таким же деятельным, как у древних и некоторое время – у нас самих, и проку от него было бы столько же, нужно вызволить его из-под гнета рассудка, нужно расковать его и выпустить из темницы, нужно взломать все ограждения; и это может сделать поэт; в этом его долг, а не в том, чтобы удерживать воображение в том же тупике, в тех же цепях, в том же рабстве согласно чудовищному учению романтиков; и всякий раз, когда истинный поэт возвращает нашему воображению вышесказанную свободу, – я зову весь мир в свидетели того, каким оно становится деятельным даже в наше время и даже в наших душах.
Много тяжких бед, читатели, принес воображению рост владений рассудка, из-под господства которого его освобождает поэт, в той мере и на столько времени, сколько это в его силах. Причем ущерб затрагивает не одно наслаждение, как принято думать; урон наносится также вещам более существенным (хотя и наслаждение весьма существенно), и это с горечью замечает, без сомнения, не только любой поэт или оратор, но и подлинно проницательный и благородный философ, не похожий на тех философов, что нынче в славе и в почете. Здесь я мог бы сказать, что разум в бесчисленном множестве вещей – отъявленный враг природы; что в человеческих делах разум враждебен величию; что часто там, где природа величественна, разум мелок; что в глазах людей великое по большей части тождественно необыкновенному, необыкновенное же стоит вне обыкновенного порядка или противостоит этому порядку, неизменно любимому разумом; что нередко слишком мелкое в силу своей необыкновенности именуется великим; что Александр и сотни ему подобных, великих с точки зрения природы и славы, с точки зрения рассудка безумны, а безумие с точки зрения рассудка всегда мелко; что едва ли человек может быть великим и совершить великие дела, если над ним не имеют власти иллюзии, и что его едва ли сочтут великим, если эти же иллюзии бессильны над другими; что, насколько возрастет господство разума, из-за которого иллюзии становятся чахлыми и редкими, настолько пойдет на убыль величие людей, их мыслей и дел; что поэту больше, чем кому-либо, нужны могущественные иллюзии, что он должен быть в тысяче вещей необыкновенным, а в некоторых даже безумным, хотя нынешний век – это век разума, когда свет смеется над обманами и даже вопреки своей воле все равно их узнает, а узнав, презирает и не только не позволяет с легкостью человеку быть необыкновенным, но и по большей части клеймит странность тем гнусным именем, которому обучил его разум, называя ее сумасшествием или тупоумием, – а это величайшее несчастье для изящных искусств и несказанное бедствие для поэзии. Но это тема чрезвычайно обширная, и основания сказанного мною о вражде разума и природы лежат в глубочайшем созерцании всемирного порядка вещей, поэтому я не останавливаюсь на них, не желая ко множеству предметов существенных и необходимых для моего рассуждения присовокуплять лишние, хоть и уместные и теснейшим образом связанные с темой. Потому я и поступаю так, и не хвалю старых времен, и не утверждаю, что тогда и жизнь, и мысли, и люди были лучше теперешних, я знаю, что теперь подобные рассуждения считаются устарелыми и вышедшими из моды, и предоставляю другим по собственному произволу судить о вещах, которые я мог бы сказать, и называть их пустыми грезами фантазии, презирающей насущное и тоскующей о далеком. Скажу только, что то была природа, а эту нынешнюю природой счесть нельзя, что долг поэта – подражать такой природе, которая не меняется и не поддается цивилизации, что, когда природа борется с разумом, поэту надлежит или отступиться от разума, или, отступившись от природы, сложить с себя долг и имя поэта, что он имеет право обманывать и поэтому должен своим искусством как бы переносить нас в древние времена и возвращать нам ту природу, которая исчезла из наших глаз, или, скорее, открывать нам, что она все еще существует и прекрасна, словно в начале дней, чтобы через него мы увидели и почувствовали ее и испытали те сверхчеловеческие наслаждения, которые утратили, сохранив лишь тоску по ним; а это значит, что в наше время долг поэта – не только подражать природе, но и обнаруживать ее перед нами, не только услаждать наше воображение, но и освобождать его от утеснений, не только доставлять нам насущно необходимое, но и давать ему замену. Я скажу еще, что звать поэзию от первобытного к современному – это то же самое, что отвращать ее от выполнения долга, отнимать у нее то самодовлеющее наслаждение, которое ей свойственно доставлять, влечь ее от природы к цивилизации. Но ведь именно этого и хотят романтики! Право, следовало ожидать, что наше время, несказанно извратив нашу собственную природу, в конце концов постарается извратить и природу поэзии, и отнять у людей всякое наслаждение, – всякую память об их первобытном состоянии, и отказать в имени поэта всякому, кто, стихотворствуя, воплотит не современные нравы и не угасание нравов первобытных или всеобщее развращение. Потому что, коротко говоря, одно из главнейших различий между романтическими и нашими поэтами, различие, к которому сводятся и в котором заключаются сотни других различий, таково: наши поэты воспевают, сколько могут, природу, романтические поэты воспевают, сколько могут, цивилизацию, наши – вечные и неизменные вещи, и формы, и красоты, романтики – преходящие и изменчивые, наши – творения бога, романтики – создания рук человеческих. Это различие проявляется с чрезвычайной ясностью в темах, в описаниях, в образах, в разном поэтическом скарбе, в самом способе выражения, словом, во всей совокупности поэзии; помимо прочего, оно явственно обнаруживается в сравнениях, которые мы возьмем как практический пример: наши поэты обыкновенно стремятся брать для них вещи естественные, отчего и получается, что у наших сравнения то и дело пробуждают в воображении читателей тысячи изысканнейших и на диво отрадных образов, и отчего, как было замечено, у величайших поэтов сравнения взяты большей частью из сельского обихода; романтики же с не меньшим усердием исхитряются добывать их из городского обихода, из искусств, ремесел и наук, вплоть до метафизики, и меж тем как сравнение, по-видимому, должно сделать уподобляемую вещь более наглядной, они доходят до того, что сравнивают видимые вещи с той или другой тайной человеческого сердца или души; из сказанного явствует, что наши поэты изо всех сил ищут первобытного, даже повествуя о современном, а романтики изо всех сил ищут современного, даже повествуя о первобытном или древнем. Потому-то сравнения у подобных поэтов, а равным образом почти у всех поэтов английских и германских, производят на людей, которых мы называем обладающими хорошим вкусом, то есть вкусом естественным, неприятное впечатление грубости, словно им, между тем как они надеются и желают позабыть за чтением о цивилизации, то и дело ставят ее перед глазами: ведь у поэтов, которых я имею в виду, вместо гор, лесов и полей, колосьев, цветов и трав, зверей, ветров и облаков вы находите на каждом шагу замки и башни, купола и колоннады, церкви и монастыри, квартиры, сукна, подзорные трубы, мануфактуры и всякого рода орудия труда. Что вы на это скажете, читатели? Хороша замена, не правда ли? Разве вы не видите, что они пресытились небесными прелестями и отправились на поиски земных? Разве вы не видите, что тех наслаждений, которых они не находят больше или говорят, что не находят, в творениях божьих и в вечной и всеобщей красоте, именуемой «стародедовской», они ищут в красотах частных и преходящих, в модах, в изделиях человеческих рук? Одним словом, разве вы не видите достаточно ясно, что мы, рабы, педанты, безумные любители искусства, оказываемся подлинными и настоящими любителями и приверженцами природы, а они, свободные, мудрые, любящие одну лишь природу, они-то и есть безраздельные любители и ревнители искусства, только ему и подражающие?
Право, здесь было бы уместно подняться и крикнуть: «Вот тот род поэзии, которого вам не хватает, итальянцы! Вот чем вы, дескать, бедны, вот в чем невежественны! Вот какие богатства вам сулят желающие, по собственным словам, возродить и воскресить вас! К таким занятиям вас подстрекают, и побуждают, и увлекают!» Но я сдержусь, я не допущу, чтобы скорбь и горестный предмет моего рассуждения отвратили меня от той скромности, которая подобает равно и этому труду, и мне самому. Могут сказать, что подобные сравнения и вообще романтическая поэзия доставляют чрезвычайное удовольствие бесчисленному множеству людей. Ну что ж, там, где следовало бы возопить, я отвечу спокойно. Три вещи помимо всего прочего суть причины этого удовольствия. Первая из них – это порча вкуса, которой подвластны и многие поэты, и – не в меньшей мере – многие читатели; вообще воображение и поэтов и читателей опутано, приручено и укрощено тиранией рассудка, а потому ни поэты по большей части не умеют доставлять наслаждение, как должны, ни читатели – наслаждаться, как наслаждались прежде. Что же из этого выходит? Разве Сенека и Плиний некоторое время не считались чтением более приятным, нежели Цицерон? Разве Лукан не нравился больше Вергилия? И разве невероятные причуды семнадцатого века[83]83
…невероятные причуды семнадцатого века… – Леопарди имеет в виду явления литературного барокко в Италии – кончеттизм, маринизм; поэтический язык этого течения был перегружен метафорами и сложными перифразами, ни один предмет не назывался прямо, что приводило к крайней усложненности поэтического текста.
[Закрыть] не вызывали восторг по всей Италии? И разве кто-нибудь из немногих здравомыслящих людей, живших тогда, не ответил бы любому, кто в оправдание этого варварства сослался бы на всеобщее убеждение, точно то же самое, что отвечаю я теперь? А будь он осмеян, – кто оказался бы прав на самом деле – осмеявшие или осмеянный? Но во-первых: даже если допустить, что приверженность романтической поэзии так же распространена и сильна по всей Европе, как в Италии в семнадцатом веке – приверженность ко всяким безумствам, и что любитель романтиков не может получить удовольствия от чтения наших поэтов, – я все же спрашиваю, что делать среди всеобщей порчи вкуса, когда большинство идет дурными и кривыми путями, тем поэтам и писателям, которые все это знают и не затронуты порчей? Видимо, пожелай они в своих писаниях быть людьми «нашего времени», а не «стародедовских времен», им пришлось бы приспосабливаться к извращенным вкусам и сочинять уж лучше на варварский, нежели на старый лад. И, видно, в семнадцатом веке правильно поступал Акиллини[84]84
Акиллини Клаудио (1574–1640) – поэт, один из представителей барокко. Леопарди приводит начальный стих его сонета «Хвала великому Людовику Французскому, каковой после славного завоевания Ла-Рошели прибыл в Сузу и освободил Казале». Стих этот не раз цитировался как образец нелепостей «маринизма».
[Закрыть], когда восклицал:
Трудитесь в поте лиц, кузнечны горны! —
и неправильно делал Менцини[85]85
Менцини Бенедетто (1646–1704) – флорентийский поэт, наиболее известны его тринадцать сатир, одну из которых – четвертую – и цитирует Леопарди.
[Закрыть], когда со всем усердием избегал того, к чему стремился его век, и писал, высмеивая нелепость современных вкусов:
Итак, начнем: «С Флегрейских нив вершины
Хребта перуном Зевс разбил в куски,
Гигантов сбросил в адские глубины,
И ныне звезд он топчет огоньки
(Окружностям подобны их алмазы,
А твердь для них – род грифельной доски)».
Какие мысли, боже! Что за фразы!
А мог бы он сказать еще складней:
«Вертелись, как волчки, светил топазы».
И, видно, как глупые педанты вели себя Гравина, Маффеи[86]86
Гравина Джан Винченцо (1664–1718) – итальянский литератор, один из основателей Аркадской академии, ставившей своей целью борьбу с барочными вкусами.
Маффеи Шипионе (1675–1755) – итальянский писатель и ученый, автор «Меропы» – одной из первых итальянских трагедий в духе классицизма.
[Закрыть] и другие, своим трудом и своими писаниями изгнавшие наконец из Италии эту язву и добившиеся того, что вновь начали читать и печатать Данте и Петрарку, поэтов несовременных и не отвечавших вкусу эпохи. Можно ли нам думать, будто тогда никто не кричал, что это и есть-де современный вкус, а все прочее – вкус старомодный, и не насмехался над здравомыслящими людьми, называя их низкими рабами, полными предрассудков поклонниками старой рухляди, охочими до ржавчины и плесени и лакомыми до всего залежалого? Но кто оказался прав? Разве потомки не рассудили тяжбу между вкусом одних и вкусом других? И разве не погибли и это варварство, и весь потоп стихов и прозаических сочинений, и даже сама память о тех поэтах и писателях? А нынешние суждения, нынешняя поэтическая мода и вкус – разве они не погибнут? Погибнут, без всякого сомнения, о итальянцы, и потомки посмеются над вами, если вы их усвоите, и назовут вас варварами, и будут удивляться вашей глупости, как вы удивляетесь глупости семнадцатого столетия, и в их памяти нынешний век будет столь же ничтожным и презренным. Во-вторых: помимо того что нынешняя порча вовсе не так сильно распространилась и укоренилась в Европе, как было предположено выше, я могу утверждать наверное, что и любители романтиков способны превосходнейшим образом получать живейшее удовольствие также от наших поэтов и нередко получают его. Не так сильна извращенность, чтобы она могла окончательно задавить природу; а если в ком-нибудь она и такова, если есть на свете человек, которому совершенно недоступны источники истинного, естественного и чистого поэтического наслаждения, то, несомненно, читатель, число таких осужденных душ столь невелико и даже ничтожно, что ни поэту, ни философу не следует принимать их в расчет. Ведь торжество истины и природы над испорченностью людских мнений и вкусов можно видеть и в самые варварские эпохи: одно и то же время восхищалось и Марини и Кьябрерой, в семнадцатом веке читались и прославлялись и Менцини и Филикая[87]87
Марини Джамбаттиста (1569–1625) – итальянский поэт, наиболее крупный представитель барокко. От его имени течение и получило название «маринизма».
Кьябрера Габриэле (1552–1638) – итальянский поэт, автор анакреонтических стихотворений и од в духе Пиндара, противопоставивший маринизму идеал «подражания древним».
Филикая Винченцо (1642–1707) – итальянский поэт, близкий к Аркадии.
[Закрыть]. Но что пользы искать столь далекие примеры, если их в изобилии можно найти и сейчас и здесь? Неужто сами романтики не наслаждаются и Гомером, и Анакреонтом, и другими нашими поэтами? Неужто они не знают и не видят, что если их стихи источают наслаждение лишь редкими каплями, то у древних оно струится непрестанно щедрыми потоками? Все это они и знают, и видят, и наслаждаются древними – и, однако, отрицают такую манеру стихотворства, как не отвечающую нашему времени, хотя она доставляет несказанное удовольствие не только «пращурам», но даже и им самим; наслаждаясь Гомером, они не признают, что в наши дни какой-нибудь поэт может доставлять наслаждение в том же самом роде поэзии, – потому, я думаю, что, отдавши все наслаждения на откуп древним, они лишают современных поэтов возможности доставлять его законным образом, хотя, ни с кем не сравниваемые, те и могли бы быть приятны.
Вторая причина, почему романтики доставляют удовольствие, – это грубость и черствость сердца и воображения у многих и многих; они едва замечают, да и то редко, нежнейшие касания природы, и нужны романтические толчки, удары и пинки, чтобы встряхнуть и пробудить их, для кого тонкие и чистейшие наслаждения – все равно что бритва для булыжника, чье нёбо, привыкшее к соли и уксусу, кажется нечувствительным к благородным блюдам и напиткам. У многих эта черствость – от природы, у многих – от цивилизации, но у большинства – от обеих причин, ибо их природное свойство, которое могло бы и сойти на нет и исчезнуть, укрепляется и поддерживается нравами и привычками городской извращенности. На воображение таких людей какая-нибудь описанная поэтом полуугасшая лампада между столпов готической церкви действует куда сильнее, чем луна над озером или над лесом, или эхо, отдающееся в обширном, пустом покое – сильнее, чем мычанье быков, а какое-нибудь шествие, празднество либо иное городское зрелище – сильнее, чем жатва, молотьба, сбор винограда, подрезка листвы на деревьях, рубка леса, пастьба стад и отар, уход за пчелами и забота о живых изгородях, канавах, и ручьях, и садах; словом, их больше волнует стиль испорченный, городской и современный, нежели простой и первобытный. Они не то чтобы не способны к естественным и тонким усладам, и не то чтобы природа совсем их не затрагивала и норой незаметно для них самих не доставляла им удовольствия; но из-за неповоротливости воображения – а сдвинуть его с места можно только воротом, иначе ему лень отбрести хоть на шаг, – они желают видеть в поэзии только те вещи, которые находятся рядом, чтобы их фантазии не пришлось далеко идти в поисках за ними, и довольствуются подобным сухой и грубой пище наслаждением от этих образов, не помышляя о сочных плодах более изысканных наслаждений, даруемых природой и близкой к природе поэзией. Помимо того, что подражание всему цивилизованному и искусственному но сравнению с подражанием природе само по себе особенно грубо и потому лучше способно произвести впечатление на сердце и воображение таких людей, романтики еще жадно ищут и с бесконечной любовью выбирают вещи необычайные и чуждые нам, и, даже подражая природе, отдают предпочтение безмерному и чрезмерному, и этим наносят воображению такие удары, что, как бы ни была крепка одевшая его скорлупа, она не может их выдержать и отколовшиеся куски приоткрывают живую плоть; или, вернее, как бы ни были далеки описываемые предметы, все же они своей странностью заставляют неподвижную фантазию отбросить лень и силой влекут ее к себе; поэтому воображение, превосходно сопротивляющееся вздохам нежного и несчастного поэта, оплакивающего женщину из Авиньона[88]88
…женщину из Авиньона… – Лауру, возлюбленную Петрарки.
[Закрыть], не может не поддаться, чуть больше или чуть меньше, рычанию убийцы над телом турчанки[89]89
…убийцы над телом турчанки… – намек на поэму Байрона «Гяур», но поводу которой и были написаны «Замечания» ди Бреме.
[Закрыть], а тот, кто и бровью не поведет, если ему показать кровавую борозду на груди юного отважного воина, поневоле подает признаки жизни при виде пьяного солдата с кишками, выпущенными из разорванной пушечным ядром утробы; наконец, тот, кто и не покосится в сторону зеленого, залитого солнцем холмика, невольно поглядит, даже несколько раз подряд, на причудливо срезанную скалу, высокую и бесплодную, поднимающуюся на склоне горы и страшно нависающую над темной пропастью бог знает во сколько миль глубиною. Такая черствость присуща в большей или в меньшей мере бессчетному множеству людей, так что в конце концов сердце и воображение, столь податливые, что немедля принимают ту форму, какую хочет придать им поэт, и наделенные столь тонкой чувствительностью, что замечают тотчас же самое легкое прикосновение, словом, такое сердце и такое воображение, которые без зова следовали бы за поэтом, куда бы он ни шел, и порой опережали бы его, и всегда, подобно самым живым струнам, отзывались бы ясным звуком на малейшие удары его пальцев, можно найти только у поэтов (я имею в виду поэтов по природе, независимо от того, сочиняют они стихи или нет). Потому-то древние сомневались, да и наши современники сомневаются, может ли толпа быть сведущим судьей поэта; я знаю, что думают по поводу этого сомнения романтики, но пусть они думают по-своему, я не буду об этом говорить, а скажу только (возвращаясь к людям черствым, нечувствительным ни к природе, ни к поэзии): пусть пишут для них те поэты, которые сами на них похожи, пусть пишут немцы и англичане, но только, ради бога, не итальянцы, среди которых эта черствость не имеет столь широкой власти и не столь сильно и глубоко укоренена. Ибо, несомненно, мягкость и податливость сердца и воображения, подвижность и проворство, которые могут быть присущи даже фантазии простолюдина, делая ее подобной фантазии поэта, нрав, способный воспринимать и чувствовать сладостное влияние чистой, нежной и святой природы, не жеманной и не свирепой, не похожей ни на сибарита, ни на скифа[90]90
…ни на сибарита, ни на скифа… – то есть не чересчур цивилизованной и изнеженной, как жители древнеиталийского города Сибариса, чье имя стало нарицательным, и не дикой, как варвары-скифы.
[Закрыть], не легкомысленной и не чрезмерно глубокомысленной, которой нельзя подражать ни притворством, ни кокетством, ни беспрестанным острословием, ни назойливостью, ни разнузданностью, ни беспрестанными ужасами, словом, основы хорошего вкуса и те искры поэтического огня, которые могут быть рассеяны даже в воображении простого народа, – все это было даровано богом прежде всего грекам и итальянцам, причем под итальянцами я подразумеваю также латинян, наших отцов; о других народах, более всего о немецком и английском, я умолчу, – за меня говорят факты.








