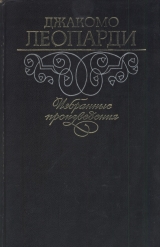
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Джакомо Леопарди
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Дрок, или Цветок пустыни – Канцона написана в Торре-дель-Греко в 1836 г. Впервые напечатана Раньери в его издании леопардиевских «Песен» (Флоренция, 1845).
[Закрыть]
Но люди более возлюбили тьму, нежели свет.
Евангелие от Иоанна, III 19
ШУТКА[69]69
Здесь на хребте иссохшем
Везувия – горы.
Грозящей истребленьем.
Цветы со свету сжившей и деревья,
Разбрасываешь редкие побеги
Лишь ты, душистый дрок,
Как средь пустынь. Тобою был украшен,
Я видел, и простор заглохших пашен,
Что окружают город,
Господствовавший некогда над краем,
И мрачностью ли дикой,
Безмолвьем ли – прохожих вспомнить нудят
О гибели империи великой.
Теперь тебя на этой почве вижу,
Любитель скорбных мест, забытых миром.
Несчастья спутник верный.
На этих землях, пеплом
Засыпанных бесплодным,
Окаменевшей лавою покрытых,
Звенящих под ногой скитальца; здесь,
Где ползает на солнце и ютится
Змея, где кролик лезет
В знакомую извилистую норку,—
К усадьбам льнули нивы, золотились
Колосья и стада мычали; тут
Дворцы владык стояли;
Цвели сады – приют
Досугов, возвышались города;
Но их и всех, кто жил в них, затопил
Поток, изрыгнут бешеной горой,
Из огненного рта фонтаны молний
Выбрасывавшей. Нынче все вокруг
Развалинами стало,
Где ты растешь, цветок прекрасный; как бы
Сочувствуя чужому горю, ты
Шлешь в небо утешающий пустыню
Свой запах нежный. Пусть на эти склоны
Придет привыкший славить наш удел,
И пусть увидит он
Смысл истинный забот
О человеке любящей природы.
И как могуч наш род,
Здесь оценить доподлинно он сможет:
Захочет – уничтожит
Кормилица жестокая из нас
Лишь часть в нежданный час,
А чуть сильнее вздрогнет —
И вмиг исчезнут все.
Вот и остались в сем краю унывном
Следы того, что нынче
Зовут «грядущим светлым, прогрессивным».
Гляди на отражение свое,
Век шалый и надменный,
Покинувший стезю,
Намеченную возрожденной мыслью:
Вспять повернув, гордишься тем, что прав,
Попятный путь назвав
Движением вперед.
И все умы, которым
Тебя в отцы дала судьбина злая,
Твоим капризам потакают льстиво,
А за спиной глумливо
Кривляются, но я
В могилу столь постыдно не сойду;
Мне подражать другим
Нетрудно было б, нежа слух твой пеньем
Приятным вместе с ними, как в бреду;
Но выказать презренье, не тая
В груди, где я взлелеял
Его, я силы все-таки найду,
Хоть знаю, что тому, кто с веком в ссоре,
Забвенье – приговор.
Над общим злом смеюсь я до сих пор:
Мечтаешь о свободе, но и ныне
Мысль хочешь взять в рабыни,
Ту мысль, благодаря которой мы
Из варварства едва лишь
Восстали, мысль во славу
Гражданственности, к высям
Повсюду судьбы общества ведущей.
Тебе же не по нраву
Прямая правда о ничтожном месте,
Природою нам данном на земле.
Спиною к свету правды
Ты стал и кличешь трусом
Ей верного, а храбрецом того,
Кто столь хитер иль прост.
Чтоб, над собой глумясь или над всеми,
Людское племя возносить до звезд.
Коль нищий, плотью хилый человек
Душой высок и щедр,
Не называет, не считает сильным
Себя он и богатым,
Не выставляет пышность напоказ
И мощь, но без прикрас
Всем открывает, не стыдясь, что он
И золотом и силой обделен.
Он это признает
Отважно, заставляя
Ценить лишь то, что в нем и вправду есть.
Не добрым, а тупым я должен счесть
Рожденного на гибель,
Возросшего в лишеньях —
Твердящего: «Я создан для услад».
Спесь смрадную изливши на бумагу,
Он соблазняет будущим блаженством
И взлетом чувств, не только
Земле, но даже небу
Неведомым, людей,
Которым гнева волн морских довольно,
Землетрясенья или
Тлетворных ветров, чтобы навсегда
Исчезнуть без следа.
А благороден тот, кто без боязни
Взглянуть очами смертными на общий
Удел и откровенно,
От истины не прячась,
О злой поведать доле
Готов – о жизни нашей,
И хрупкой и бегучей;
Тот благороден – славный и могучий
В страданьях, – кто несчастья
Не углубляет тем,
Что зло таит на брата (всяких бед
Опасней это), в горе
Своем не человека обвиняя,
Но истинно виновную, для смертных
Мать – по рожденью, мачеху – по жизни.
Ее и называет он врагом
И, полагая, что в боренье с ней
Сплоченней и сильней
Все общество людское стать должно,—
Считает он людей
Союзом, предлагая
Им всем любовь сердечную, всегда
Спеша на помощь иль прося о ней
В опасностях бесчисленных, в тревогах
Войны всеобщей. Он
Считает глупым брать оружье, ставить
На ближних западни
Из-за обид; они —
Друзья на поле битвы; разве можно
Лицом к лицу с врагом, в разгар сраженья,
Противника забыть
И учинить жестокий спор с друзьями
И собственные рати.
Мечом сверкая, в бегство обращать?
Когда народ опять,
Как некогда, воспримет мысли эти
И страх перед природой,
Всех издавна связавший
В общественную цепь, чуть-чуть ослабнет
Благодаря познанью
Неложному, – тогда приязнь и верность
Сограждан, справедливость
И благочестье будут
Покоиться не на безумье гордом,
Которым чернь свою питает честность.
Чтоб зиждить утвержденье
Того, чего основа – заблужденье.
Сижу я часто ночью
Здесь, в безотрадном месте,
Одетом в траур замершим потоком.
Хранящим вид движенья; здесь, в степи
Унылой, вижу я
Сиянье звезд на чистой сини, в море
Далеком отраженных,
И россыпь искр, объявших пустоту
Небес блестящим кругом.
Когда на них я устремляю взгляд,
Мне кажется, горят
Там точки, хоть в действительности точка —
Земля с ее морями
В сравненье с ними, так они огромны:
Не только человек
Неведом им, но шар
Земной, где он затерян; и когда
Созвездья созерцаю, в беспредельном
Затерянные мраке,
Что кажутся туманом нам, откуда
Ни люди, ни Земля неразличимы,
Ни множество всех наших звезд, а с ними
И солнце золотое
Иль выглядят, как их
Отсюда видим мы —
В тумане точкой света,—
О род людской, каким
Ты выглядишь в моих глазах! И вспомнив
Об участи твоей, которой образ —
Та почва, что топчу я,
И вспомнив также то,
Что видишь ты в себе и господина,
И цель всего, и вспомнив, как любил
Ты упражняться в баснях, будто боги,
Из-за тебя вселенную забыв
И обратись к неведомой песчинке
По имени Земля, тебя старались
Развлечь; и как досель, когда устройством
Гражданским мы и знаньем превзошли
Все времена другие,
Ум честный оскорбляешь ты, чтоб грезы
Осмеянные воскресить, – тогда
Не знаю, жалкий род: в душе моей
Смех или состраданье – что сильней?
Как маленькое яблоко, срываясь
Осенним днем с сучка
На землю потому лишь, что созрело,
Крушит, сминает, плющит
Всей тяжестью паденья
Построенные в мягкой
Земле, с большим трудом,
Жилища муравьев, все их богатства,
Предусмотрительно и терпеливо
Накопленные летом,
Так ночь и разрушенье,
Швыряя сверху пемзу
И камни, сыпля пепел,
Извергнутые ввысь гремящим лоном,
И их смешав с бегущим
По травянистым склонам
Взбесившимся потоком
Расплавленных металлов,
Осколков скал и раскаленной пыли.
За несколько мгновений
Засыпали, разбили
И стерли навсегда
Обласканные морем города[67]67
…обласканные морем города… – Стабия, Геркуланум и Помпея, погибшие во время знаменитого извержения Везувия (79 г.).
[Закрыть]
Прибрежные: теперь
Средь их руин пасется
Коза; и города
Другие поднимаются, подножьем
Им служат погребенные, а стены
Повергнутые злобная гора
Как будто попирает.
Заботой о семье людской щедра
Природа столь же, сколь о муравьиной,
А больше муравьям
Шлет бедственных событий
Лишь оттого, что те понлодовитей.
Уж восемнадцать минуло столетий
С тех пор, как в буйном пламени исчезли
Людские поселенья,—
Крестьянин же, возделавший вот эти
Пустые обессиленные земли
Под жалкий виноградник,
Еще бросает трепетные взгляды
На роковую гору,
Не ставшую смирней, и все еще
Внушающую ужас,
И все еще грозящую ему,
Семье, добру, наделу
Уничтоженьем. Часто
Идет прилечь бедняга
На кровле хижины своей, под небом
Открытым, ночь не спит и то и дело
Встает, чтоб поглядеть.
Как лаву зев горы струит на спину
Песчаную, страша – и освещая
Морскую гладь у Капри,
Неаполь, Мерджеллину[68]68
Мерджеллина – когда-то северный пригород Неаполя, рыбачий поселок. Ныне – в черте города.
[Закрыть].
И, если он заметит, что огонь
Стал ближе, иль кипение услышит
Воды в колодце, он поспешно будит
Детей, жену и, захватив с собой
Все, что успел, бежит
И издали глядит,
Как милое гнездо с клочком земли —
От голода защитой —
Становится добычей
Потока разрушительного, с треском
Ползущего, чтоб затопить его.
Прошли века забвенья,
Лучам небесным мертвая Помпея
Открылась, как скелет,
Который из земли
Сочувствие иль жадность извлекли;
И странник созерцает,
Средь колоннад разбитых
На площади пустынной став, вершину
Вдали двойную с гребнем
Дымящимся, который
Еще грозит разбросанным руинам.
Мерещится ему
Зловещий факел, средь дворца пустого
Тревожащий таинственную тьму:
То в рухнувших театрах,
В погибших храмах и домах безлюдных —
Нетопырей приюте —
Мелькает отблеск лавы, так что тени
Трепещут в смертной жути
И дали затопляет алый свет.
Небрегши человеком и веками,
Что древними назвал он, и движеньем
Потомков предкам вслед.
Природа остается вечно юной
И кажется недвижной,
Столь длинен путь ее. Век быстротечен
Царств, языков, народов – дела нет
Природе. Человек же мнит, что вечен.
И ты, ползучий дрок,
Пахучей рощей долы
Украсивший нагие, грубой мощи
Подземного огня уступишь вскоре,
Когда путем, уже ему знакомым,
Вернется он на взморье
И захлестнет своей полою жадной
Кустарник нежный твой.
И под бичом смертельным головой
Поникнешь ты невинной,
Не протестуя, – но зато не станешь
Пред будущим сгибаться палачом
До той поры в поклоне и тянуться
Не станешь в исступлении гордыни
Ни к звездам, ни к пустыне.
Где от рожденья ты играешь роль
Не властелина рока, но раба.
Глупа людей природа и слаба,
Ты ж мудр и мощен столь,
Что знаешь, что ни ты в бессмертье хрупких
Ростков своих не властен, ни судьба.
Перевод А. Наймана
Шутка. – Написано в Пизе 15 февраля 1828 г. Впервые опубликовано в неаполитанском издании «Песен» 1835 г.
[Закрыть]
ОТРЫВКИ
Когда я в детстве к музам
Пришел, прося в ученье взять, то руку
Одна мне предложила и со мною
Ходила день-деньской,
С осмотра мастерской
Решив начать науку.
Потрогать мне дала
Орудья ремесла.
Открыв, как виртуозу,
Как подмастерью их
Употреблять, чтоб стих
Сработать или прозу.
Спросил я: «Отчего
Подпилков нет?» Сказало божество:
«Изношены, обходимся без них мы».
«Но думаете ль, муза,—
Я молвил, – исправлять их вы, пора ведь!»
Та: «Надо б, да минуты нет исправить».
Перевод А. Наймана
XXXVII[70]70
XXXVII – Написано в Реканати в 1819 г. В черновике называлось «Сновидением». Впервые напечатано с пятью другими стихотворениями («Бесконечность». «К луне», «Вечер праздничного дня», «Уединенная жизнь») в миланском «Нуово рикольиторе» (январь 1826). Начиная с флорентийского издания «Песен» (1831) входит во все издания «Песен».
[Закрыть]
Альцета
Мелисс, я рассказать тебе хочу
Сон этой ночи. Как луну увижу,
Он вновь на ум приходит. У окна
Стоял я, выходившего на луг,
И ввысь глядел. И вот луна внезапно
Срывается, и мне казалось, будто,
В паденье надвигаясь, на глазах
Росла она, покуда в центре луга
Не рухнула: была она огромной,
С бадью, и извергала тучу искр,
Трещавших так же яростно, как уголь
Пылающий, когда кидают в воду
Его, чтоб погасить. Так и луна,
Я повторяю, в центре луга гасла,
Чернея понемногу и траву
Вокруг себя дымиться заставляя.
Тогда, на небо глядя, вижу отблеск.
След, а точнее выемку, на месте,
Откуда сорвалась она: я скован
Был страхом. Не приду в себя никак.
Мелисс
И есть чего бояться: ведь луна
Могла на твой свалиться огород.
Альцета
Как знать? иль мы не видим летом часто
Паденья звезд?
Мелисс
Звезд столько, что ничтожен
Урон, коль та слетит или другая,
Их тысячи останется. Но эта
Луна вверху одна; ее паденья
Никто не видел – если не во сне.
XXXVIII[71]71
XXXVIII – Фрагмент из второй элегии, написанной в 1818 г. под впечатлением встречи с Гертрудой Касси-Ладзари. Элегия была напечатана самим Леопарди в сборнике стихотворений 1826 г. (Болонья). Для неаполитанского издания «Песен» 1835 г. Леопарди взял только эти пять терцин.
[Закрыть]
Напрасно, на пороге став, о громе
И ливне умоляю небеса
Затем, чтоб ей в моем остаться доме.
Однако ж ветер, воя, тряс леса,
И грохотали тучи в исступленье,
Пока рассвет вверху не занялся.
О тучи, небеса, земля, растенья,
Уедет донна: сжальтесь! иль от вас
Влюбленный ждать не может сожаленья?
Взметнись, о вихрь жестокий, сей же час,
Решитесь утопить меня, о грозы,
Покуда солнце прячет день от глаз.
Открылось небо, стихнул ветер, лозы
Объяты пеньем; солнца луч слепит,
И на моих ресницах блещут слезы.
XXXIX[72]72
XXXIX – Фрагмент юношеской кантики, написанной в 1816 г. Позднее был автором переработан и включен в издание «Песен» (Неаполь, 1831).
[Закрыть]
Луч дня погас на западе, и крыши
Не испускали дыма, песий вой
И глас людской не нарушали тиши,
Когда она дорогой полевой
Спешила на любовное свиданье,
Впивая прелесть мира, как впервой.
Сестрицы солнца вширь лилось бескрайне
Сиянье: им венок был посребрен
Дерев, стоявших вкруг на расстоянье.
Под вздохом ветра пели ветви крон,
И соловью, чье неизбывно горе,
Ручья из рощи вторил нежный стон.
Прозрачным вдалеке казалось море,
И открывались нивы и леса
Поочередно и за взгорьем взгорье.
Дол затеняла мрака полоса,
Холмы лежали, белизной омыты
Луны, которой так чиста роса.
Шла женщина в сопровожденье свиты
Зефиров, источавших аромат
И трепетно ласкавших ей ланиты.
Что спрашивать, была ль в ней радость: взгляд
Довольствовался зрелищем беспечно,
А сердце ждало будущих услад.
Покоя время, как ты быстротечно!
Что мило, все здесь тешит второпях:
Кроме надежд, ничто внизу не вечно.
Вот ночь густеет, мгла на небесах
Идет на смену ясному простору,
И из души отраду гонит страх.
Брюхато бурей, облако на гору
Ползло, клубясь, и ни луны, ни звезд
Из-за него не открывалось взору.
Ей виден был его могучий рост
И как оно, вздымаясь, пеленало
Собой свою же голову взахлест.
Свет меркнул, хоть его и было мало,
А в роще слабый ветер вдруг возник,
В уютной роще, шуму дав начало.
Он делался упорней каждый миг,
И, поднятая им, в испуге стая
Сквозь ветки проносилась напрямик.
Распространяясь, туча грозовая
Ко взморью мчалась, краем на холмы
Одним, другим на море налегая.
Уже сокрылось все в утробе тьмы;
Из близящейся тучи дождь несмело
Пошел, но вскоре все покрыл шумы.
От вспышек, бороздивших то и дело
Тьму, щурились глаза; внизу все сплошь
Как помертвело, небо же алело.
Она в коленях чувствовала дрожь,
А грома рев на гул при водопаде,
Низвергнувшемся с высей, был похож.
Вдруг спотыкалась, ужас стыл во взгляде,
Помедлив, вновь бегом пускалась в путь:
Подол и кудри развевались сзади.
Тугому ветру подставляла грудь,
Летевшему из непроглядной дали,
Чтоб влагой ледяной лицо стегнуть.
Удары грома воздух сотрясали,
Сливаясь и рыча, подобно льву;
Все больше было сил в дожде и шквале.
Взор с ужасом летящий сор, листву
И сучья видел; оглушенный треском,
Не верил слух, что это наяву.
Она быстрей бежала с каждым всплеском
Грозы, в одеждах, свисших тяжело,
Глаза закрыв, измученные блеском.
Но вдруг от молний стало так светло,
Что замерла, моля о передышке
Короткой; сердце в ней изнемогло.
Вспять побрела. И тут погасли вспышки,
Гром смолкнул, ветер стих, вновь величав
Был мрак небес, и дол лежал в затишке.
Она ж недвижно стыла, камнем став
Перевод А. Наймана
Рассуждения итальянца о романтической поэзии
[73]73
Написано в 1818 году. «Замечания» кавалера ди Бреме появились в «Спеттаторе итальяно» от 1 и 15 января 1818 года. 27 марта Леопарди сообщает издателю «Спеттаторе» Стелле об отправке ему первой половины ответа на «Замечания» ди Бреме. Вторая половина рассуждения была завершена Леопарди до 31 августа того же года. Однако произведение так и не было опубликовано и увидело свет только в 1906 г. На русском языке впервые опубликовано в кн.: Леопарди Д. Этика и эстетика. М., Искусство, 1978. В основу перевода положен текст издания Мурена.
[Закрыть]Если бы на защиту мнений наших отцов и дедов, да и всех прошедших веков, мнений, ныне с ожесточением многими оспариваемых, особенно в том, что касается искусства писать, или поэтики, поднялись люди великие и славные, если бы могучим и широким умам были противопоставлены могущество и широта ума, а возвышенным и глубоким мыслям – возвышенность и глубина мысли, тогда не было бы нужды в иных спорах и я бы не отважился, как бы это ни было прекрасно, выйти вперед. Но покамест на дела отвечали словами, на доказательства – шуточками, на разумные доводы – ссылками на авторитеты и война велась между плебеями и атлетами, между журналистами и философами, так что нет ничего удивительного, если первые набрались дерзости и по видимости потеснили нас, а мы то ли со страха, то ли со стыда, то ли из гордости скрываемся в безопасности, словно под защитой стен и башен, хоть в ответ и мечем в них те же оскорбления, как будто оставить за собой последнее слово значит победить; впрочем, и такие победы нам не достаются. Но если наше дело правое и благое, если сами мы сильны и отважны и верим, что разум и истина на нашей стороне, почему бы нам не выйти из укрытия и не дать бой? Почему мы делаем вид, будто не понимаем того, что на самом деле понятно нам, но неприятно? Или как нам удается, ни на миг не задумавшись, убедиться в ложности не понятого нами? Быть может, с нас довольно спокойной совести, – пусть бы только она не отягощала нас неуместными сомнениями и позволяла по-прежнему безопасно и с удовольствием заниматься науками и словесностью, не заставляя делать против воли то, на что мы так боимся терять время и труд? А коль скоро нам ни о чем больше нет заботы, мы избегаем открытого боя и ходим сторонкой, не страшась ни тех врагов, что снаружи, ни тех, что внутри нас самих? Ради бога, только не это! Будем искать одной только истины, и если все, чему мы учились, тщетно, если все, что представлялось нам несомненным, ложно, если нельзя было видеть того, что мы, как нам казалось, видели воочию, и осязать того, что мы, как нам казалось, осязали, если столько великих умов и столько ученых заблуждались столько столетий, – ни больше ни меньше! – пусть будет так, бог с ним! Пусть придется считать, будто мы никогда не учились и не мучились или, вернее, будто мы и учились и мучились попусту, как безумцы, пусть придется сказать «прощай» книгам, ставшим как бы нашими друзьями и спутниками, сжечь собственные писания, словом, начать все с начала и, молоды мы или стары, зажить по-новому – не станем обращать на это внимания, а лучше порадуемся: ведь нам на долю выпало то, что не дано было нашим предкам, – познать наконец истину; так воспользуемся же себе на благо этой истиной и постараемся, чтобы ею пользовались себе на благо и другие. Но если именно новейшие суждения – туман, сон и призрак, если наши предки обладали ясным взглядом, если истина не медлила столько веков, прежде чем явиться на свет, – зачем мы допускаем, чтобы людей смущали и вводили в обман, чтобы наша молодежь сомневалась, какое из двух учений следует принять на веру? Признаюсь, благородное молчание казалось и мне наилучшим, даже единственно подобающим человеку истинно мудрому в этом споре, и пример тех истинных мудрецов, которые не размыкают уст, не то что утверждал меня в моем мнении – я и так был в нем тверд, – но утешал меня, показывая, что их суждение в этой части согласуется с моим. И тем не менее многое, в том числе чтение и обдумыванье «Замечаний» кавалера Лодовико ди Бреме относительно новейшей поэзии, как он ее называет, привели меня к мысли, что, быть может, оказалось бы вредно, если бы какой-либо из прославленных мужей взволновался и нарушил презрительное молчание, но если появится человек безвестный и выскажет не слова, а доводы, то повредить это не повредит и может даже принести пользу, ибо поражение самого слабого бойца не нанесет ущерба славе войска, а случись ему на взгляд людей, что-нибудь совершить, тогда можно будет судить обо всем множестве более великих дел, которые совершили бы сильнейшие воины. Скажу прямо, «Замечания» кавалера ди Бреме кажутся мне опасными; я называю их опасными, потому что по большей части они остры, глубоки и умны, а эти свойства, коль скоро принимаемое кавалером за истину не кажется нам таковым, мы должны счесть опасными, ибо благодаря им он может многих убедить в вещах, на наш взгляд, ложных, и это в таких важных предметах, как словесность и поэзия. Потому я, при всей моей слабости, решился посмотреть, не придаст ли пламенная любовь к отчизне, а еще больше – к истине силы моей речи в защиту нашей отчизны и того, что я считаю истиной. Я намереваюсь, как было сказано, пользоваться только доводами, и ничем другим, кроме доводов. – не ведаю, метафизических ли, но разумных уж точно, а если не все они и даже не многие из них окажутся новыми, то из этого легко будет заключить, что мнения тех, кого называют романтиками, хоть и не так стары, но имеют весьма старые корни и потому могут быть повержены и искоренены весьма старыми орудиями.
Поскольку я воздержусь от многого, что было принято раньше у вступавших в спор с романтиками, постольку прежде всего я не стану во всеуслышанье объявлять, что я их не понимаю, – на такой обычай Бреме сетует по праву, ибо непрестанно твердящий о своем непонимании отказывается от всякого спора. Скажу, что думаю: как видно, чтобы хорошо понять кавалера и некоторых романтиков, порой мало доброй воли и ума, а нужны еще и сердце, которое умеет раскрываться и расширяться и трепещет не только от страха и других подобных причин, и дух, не чуждый пламенным порывам изящных искусств. Здесь не место говорить, таков ли мой дух и только ли низменные чувства заставляли трепетать мое сердце, – довольно того, что я, как мне кажется, понял рассуждения кавалера ди Бреме; впрочем, и ему и другим не придется верить мне на слово, – они смогут убедиться в этом на деле, если я, оспаривая замечания кавалера, ясно докажу, что понял их. Я не намерен разбирать романтическую поэзию всесторонне, ибо такой груз мне поистине не по плечу и, подняв его, я выкажу не отвагу, а только дерзость, я сделаю это лишь настолько, чтобы не отстать от названных «Замечаний», – хотя и такой замысел не столь уж мал и, глядя издали на толпу предметов, через которую мне предстоит пробираться, я робею и не знаю, какую дорогу избрать, чтобы быть кратким, рассуждая о таком множестве вещей, и при этом сохранить необходимую ясность. Однако я полагаю, что, стараясь поколебать взгляды ди Бреме, я непременно посягну и на самые основы романтических воззрений, хотя они настолько смутны, плохо продуманы и противоречивы, что нужно нападать чуть ли не на каждое в отдельности, да и то, если обрушить одну часть здания, другая может выстоять, что свидетельствует не о прочности постройки, но о бессвязности частей, а значит, и о слабости целого. И еще предупреждаю с самого начала: я не открою своего имени, дабы не казалось, будто я рассчитываю на то, что другие, прочитав написанное мною, пожелают узнать что-нибудь об авторе или что мое имя никому доныне не ведомое, будучи разглашенным, поможет мне снискать известность. Только по этим причинам я буду держать мое имя в тайне, а не из страха, ведь я пишу правду и пишу, как могу, для вас, итальянцы, и потому не боюсь ничьей ненависти, ничьего могущества, ничьей славы.
Ныне каждому известно и очевидно, что романтики изо всех сил стараются отвратить поэзию от теснейшей связи с чувствами, благодаря которым она рождена и будет жить до тех пор, пока останется поэзией, и заставить ее обратиться к разуму, а также увлечь ее от видимого к невидимому, от предметов к идеям, и из материальной, полной воображения и осязаемой, какой она была, сделать метафизической, рассудочной и бесплотной. Кавалер ди Бреме говорит, что поэтическая страсть древних проистекала больше всего из их невежества, из-за которого они. «глупейшим образом» удивляясь всему на свете и веря, что на каждом шагу видят чудо, черпали предметы для поэзии из любого происшествия и вымышляли бесконечное множество сверхъестественных сил, видений и призраков; затем он добавляет, что в наши дни, когда люди, много думавшие и многому наученные, понимают, знают и различают столько разных вещей, когда они непоколебимо убеждены во стольких истинах, «в нас не могут совместиться и существовать рядом способности к логическому постижению и к сказочному самообману (так говорит кавалер, прибегая к своим особым терминам); значит, дух человека расстался с этими вымыслами». Однако, если рассуждать правильно и логически, из этого с необходимостью следует, что поэзия, не имея более власти обманывать людей, не должна ничего измышлять и лгать, но что ей надлежит всегда идти вослед разуму и истине. Заметь себе, читатель, с самого начала это явное и каждому видимое противоречие. Ведь романтики, – которые отличнейшим образом понимали, что поэзия, уже и так изрядно ими извращенная, если отнять у нее способность измышлять и лгать, в конце концов просто исчезнет или совершенно отождествится и сольется с метафизикой, распавшись и превратившись в совокупность размышлений, – романтики не только не подчинили ее полностью разуму и истине, но и отправились бродить среди современных людских скопищ всех сословий, и прежде всего среди черни, в поисках самых причудливых, сумасбродных, смешных, низменных и суеверных суждений и россказней, какие только можно найти, и постарались сделать их материалом своих стихов; и что самое удивительное, они, проклинавшие обращение к греческим сказаниям, наполняют свои сочинения бесчисленными сказаниями турок, арабов, персов, индусов, скандинавов, кельтов и при этом притязают на то, что «логическое постижение», которое не может существовать одновременно со «сказочным самообманом» греков, может существовать рядом с «самообманом» жителей Севера или Востока. Но о невероятном противоречии, в которое они впали, присвоив себе в казну восточные и северные сказания и предварительно отвергнув сказания греков как несовместимые с нравами, верованиями и знаниями нашего времени, я скажу позже, на своем месте. А теперь я вернусь к кавалеру ди Бреме, который говорит далее без всякого перехода, что воображение есть существеннейшая способность человека, которая не может ни иссякнуть, ни ослабеть, ибо, напротив, воображение сегодня, как всегда, жаждет «быть захваченным, увлеченным, влюбленным, поверженным и даже соблазненным (вот это-то самое главное!); никогда не будет так, чтобы оно не поддалось обману гармонических форм, восторгу возвышенного созерцания, действию идеальных картин, – лишь бы они не были совершенно произвольными и совершенно лишенными подобия той правды, которая нас окружает или заключена в нас». Таким образом, и он соглашается, что поэзия должна обманывать; то же самое он утверждает и подтверждает со всей решительностью в сотне других мест своих наблюдений. Мне кажется, тут все ясно: сам кавалер увидел, как его рассуждение согнулось и острие его отклонилось в сторону, и, если я не ошибаюсь, все эти «даже» и «совершенно» подобны скрепам, которыми он обычнейшим образом хочет его починить, после того как оно, искривившись в его руках, наконец сломалось. Но эти скрепы остаются всего-навсего словами, потому что из предыдущего следует, что поэзия не может и не должна обманывать, а если она и может и должна обманывать, тогда все заключения кавалера и романтиков, не имея опоры, непременно рухнут. Ибо нет человека, который бы не знал, что следует различать два рода обмана: один мы назовем обманом рассудка, второй – обманом воображения. Если, например, какой-нибудь философ убедит вас в том, что само по себе ложно, это будет обман рассудка. А обман воображения – это тот, на который еще и в наши дни способны изящные искусства и поэзия; потому что прошли те времена, когда люди зарабатывали свой хлеб, распевая по улицам и переулкам стихи Гомера[74]74
…распевая… стихи Гомера… – Леопарди имеет в виду так называемых «рапсодов» – профессиональных исполнителей эпических песен, непричастных, однако, к их созданию, в отличие от более ранних аэдов.
[Закрыть], и когда вся Греция, собравшись в Олимпии, восхищенно слушала повествования Геродота,[75]75
…Греция, собравшись в Олимпии… слушала повествования Геродота… – Факт чтения Геродотом своей «Истории» во время Олимпийских игр известен из сочинения Лукиана «Геродот, или Аэтион», на которое ссылается Леопарди в примечании к этому месту.
[Закрыть] сладчайшие меда, а потом при виде его один говорил другому, указывая пальцем: «Это тот, что описал Персидские войны и прославил наши победы»; сегодня читатели и слушатели поэта – люди просвещенные, более или менее образованные. Правда, поэт некоторым образом должен делать вид, будто он пишет для простого народа; между тем как романтики, кажется, требуют, чтобы он писал для простого народа и делал вид, будто пишет для образованных, – а эти две вещи исключают друг друга, в отличие от названных мною, потому что воображение людей просвещенных превосходно может, особенно при чтении стихов, когда оно желает быть обманутым, как бы спуститься и стать наравне с воображением невежд, тогда как воображение невежд не может возвыситься и стать наравне с воображением просвещенных. В нынешние времена у таких читателей и слушателей поэта рассудок не может быть обманут поэзией, зато может быть и нередко бывает обмануто ею воображение. Кавалер ди Бреме и вместе с кавалером романтики, провозглашая, что поэт в своих вымыслах должен приноровиться к нашим обычаям и мнениям и к истинам, известным в наше время, не смотрят на то, что поэт не обманывает и никогда не обманывал рассудка (или разве что случайно в те отдаленнейшие века, о которых я говорил раньше), но обманывает фантазию; не смотрят они и на другое: ведь если мы, едва открыв книгу и увидев в ней стихи, уже знаем, что она полна вымыслов, и все-таки, читая ее, желаем и стремимся быть обманутыми, а потому, берясь за чтение, незаметно для себя готовим и настраиваем свою фантазию так, чтобы она поддалась иллюзии, то смешно говорить, будто поэт не может внушать ее, не применяясь к нашим обычаям и мнениям, словно и мы не даем нашему воображенью полной воли обманываться, и у него самого нет сил забыться, и у поэта нет сил заставить его забыть и мнения, и привычки, и все, что угодно; они не смотрят на то, что рассудок среди бреда, овладевшего воображением, прекрасно знает, что оно сумасбродствует, но всегда и во всем верит и менее ложному и более ложному, верит ангелам Мильтона и аллегорическим существам Вольтера[76]76
…аллегорическим существам Вольтера… – олицетворениям Справедливости и т. д., введенным Вольтером в «Генриаду».
[Закрыть], точно так же как Гомеровым богам, привидениям Бюргера[77]77
Бюргер Готфрид Август (1747–1794) – немецкий поэт, создатель современной баллады; самая знаменитая из его баллад – «Ленора», которую и имеет в виду Леопарди.
[Закрыть] и ведьмам Саути[78]78
Саути Роберт (1774–1843) – английский поэт-романтик, принадлежавший к «озерной школе».
[Закрыть], так же как аду Вергилия[79]79
…аду Вергилия… – Царство мертвых изображено Вергилием в кн. VI «Энеиды».
[Закрыть]; верит ангелу с небесным щитом «из самого блестящего алмаза»[80]80
…«из самого блестящего алмаза»… – Тассо, «Освобожденный Иерусалим», песнь VII, строфа 82.
[Закрыть], спасшему Раймонда, не меньше, чем Аполлону с «мохнатой» и «бахромистой» эгидой[81]81
…Аполлону с «мохнатой» и «бахромистой» эгидой… – Гомер, «Илиада», XV, 229, 308–309. Эгида – панцирь или щит из козьей шкуры, атрибут некоторых из гомеровских богов.
[Закрыть], шествовавшему впереди Гектора в сражение. Словом, как я сказал вначале, все дело в том, должна ли поэзия внушать иллюзии или нет; если должна, – а это, очевидно, так, и романтики сами, помимо воли, утверждают то же, – все остальное только слова и софистические ухищрения и желание силою доводов заставить нас поверить тому, что заведомо ложно для нас, ибо мы действительно знаем, что поэт, будь он христианином, и философом, и человеком во всем современным, не обманет нашего рассудка, а явись он язычником, невеждой и древним, он все равно обманет наше воображение, если в вымыслах своих будет истинным поэтом.
И так как он имеет власть обманывать, ему остается по своему благоусмотрению выбрать в пределах правдоподобного лучшие иллюзии, самые отрадные для нас и наиболее отвечающие назначению поэзии, – а оно состоит в том, чтобы подражать природе, – и ее цели – доставлять наслаждение. Пусть труднее внушить те иллюзии, которые должны навязать нам иные мнения и привычки, нежели наши собственные, – но ведь обязанность и заслуга поэта не в том, чтобы выбирать себе легкие задачи, но в том, чтобы любая избранная им задача казалась легкой. Теперь следует взглянуть, кто доставляет больше наслаждения нашей душе и больше следует природе, а значит, и хорошему вкусу: тот ли поэт, кто не слишком старается идти вослед мнениям и обычаям наших дней, оставаясь во всем прочем большим поэтом, или же тот, кто привержен всему современному; ведь поэзия, разумеется, должна идти тем путем, который ведет к наиболее сильному, чуждому поверхностности и легкомыслия, чистому и естественному наслаждению слушателя, при том что она может обмануть одно воображение. Но, быть может, – меж тем как простой народ не вчера и не позавчера, а уже давным-давно перестал слышать голоса поэтов, – романтики все же хотят, чтобы и он слушал и читал поэта, хотя сами и стараются сделать поэзию как можно более мудреной, метафизической и недоступной рассудку простого народа. Впрочем, допустим, что его удалось заставить слушать и читать поэтов; правда, я легче поверю тому, что кто-нибудь надеется это сделать, нежели тому, что это возможно сделать, – недопустим, что это сделано, а также что поэт может внушить иллюзии рассудку; тогда я прежде всего спрошу, что будет лучше: если поэт станет приспосабливаться к религии, к мнениям и обычаям народа, усваивать его верования и при этом все же лгать – и потому, что в поэзии иначе нельзя, и потому, что мнения народа в большинстве своем ложны, а значит, будет положительным образом обманывать простолюдинов, морочить им голову новыми заблуждениями и вздорными выдумками и крепче вбивать в них старые, укреплять их в прежних ребячествах, увеличивать их суеверные страхи, глубже укоренять их невежество, – или если поэт, придерживаясь иных суждений, станет измышлять таким образом, что простой народ получит от его вымыслов то наслаждение, которое и есть цель поэзии, но поверит в них только воображением, от чего ему не будет никакого вреда. Поэтому, если предмет поэзии извлечен из верований, мнений и обычаев наших дней, неизбежно произойдет одна из трех вещей: либо поэт никогда не солжет, а значит, и не будет поэтом; либо он обманет своей ложью рассудок простого народа и по-настоящему повредит ему, отяготив его пустыми и злостными суевериями, – ведь, на наш взгляд, когда дело идет о религии, всякое ложное верование есть зло; либо он обманет только воображение. Отсюда (допустим, что последнее возможно; в действительности же такое если бы и происходило, то крайне редко, ибо простой народ принял бы все за чистую монету) я перехожу к тому, что хотел сказать во-вторых: если поэт, и не придерживаясь современных верований и привычек, способен обмануть воображение, значит, сказанное мною относительно просвещенных людей сохраняет силу и для невежд, так что и для них следовало бы выбирать те вымыслы, которые, обманывая больше или меньше, доставляли бы самое сильное наслаждение: ведь цель поэзии – не обманывать, а доставлять наслаждение, обман же есть для поэта только средство, пусть и самое главное, а как средство сойдет и обман воображения, без которого никто из просвещенных людей не получал бы от поэзии удовольствия, – тот обман, который можно сочетать с подлинным поэтическим наслаждением. Все, что я сказал о народе, следует понимать в прямом смысле; я предупреждаю об этом, дабы не показалось, будто я, вперекор романтикам, утверждаю, что поэзия не должна быть народной, между тем как именно мы хотели бы видеть ее народной, а романтики – метафизической, рассудочной, ученой и отвечающей знаниям нашего века, к которым простой народ почти что непричастен. Но я уже дважды отметил это противоречие романтиков; новейшая философия изобилует противоречиями настолько, что в дальнейшем мне, быть может, не раз придется оспаривать два противоположных мнения, одно из которых близко к моему собственному, и читатель, если не присмотрится попристальней, подумает, будто я оспариваю самого себя. Так исследуем теперь намеченное мною, – а именно какая из двух поэтических манер более естественна и доставляет больше наслаждения и образованным и невеждам: древняя или же современная.








