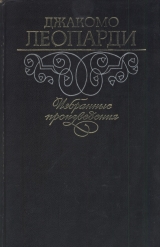
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Джакомо Леопарди
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Джакомо Леопарди
Избранные произведения
Джакомо Леопарди (1798–1837)
Перечисляя в 1829 году «воздушные замки», которые ему хотелось бы построить, тяжелобольной Леопарди писал своему другу про «монографию души – роман с несложной фабулой, рисующий сокровеннейшие движения, возникавшие в душе нежной и чувствительной с зарождения сознания до самой смерти». Романа «с несложной фабулой» Леопарди не написал. А вот «монографию души» написал. Этой монографией явился сборник его «Песен».
Географический словарь начала XIX века так описывает городок, где вечером 29 июня 1798 года в старинном патрицианском замке, в семье графа Мональдо Леопарди и Аделаиды Леопарди (урожденной маркизы Античи) явился на свет первенец Джакомо Леопарди: «Реканати, пров. Марке, – маленький, но чрезвычайно богатый городок… Край этот столь цветущ и приятен для глаз, что путешественникам он представляется сущим раем».
Сущим адом представлялся он Леопарди: «краем монахов», местом, где он «совершенно подавлен окружающим ничтожеством», где «не имел даже сил чего-либо желать, хотя бы смерти – не из страха пред нею, но потому, что вовсе не усматривал разницы между смертью и той жизнью, какую вел здесь». И это характеристики самые обычные, хотя и не самые сильные из тех, что разбросаны по письмам и дневниковым записям Леопарди.
В Реканати Леопарди провел безвыездно первые двадцать четыре года своей жизни. Родовитая семья хоть и не имела должного достатка, но сохраняла все претензии старинных итальянских патрициев. Граф Мональдо, ревностный легитимист и набожный католик, был опутан долгами и при этом держал огромный штат прислуги. Средств не хватало на порядочных учителей – зато в доме находили приют всевозможные приживалы и приживалки. Закладывались земли, зато домашняя библиотека пополнялась редкими изданиями и манускриптами. При графском палаццо было создано что-то вроде Поэтической академии, а почва ускользала из-под ног…
За полгода до рождения Джакомо Леопарди в Реканати была провозглашена республика (27 января 1798 года). Одним из первых ее постановлений явилось уничтожение дворянских привилегий. День, когда графу Мональдо пришлось отказаться от ношения шпаги, показался ему похожим на последний день Помпеи.
В 1799 году банды местных реакционеров-фанатиков изгнали французов и Мональдо был объявлен губернатором городка. Вскорости, однако, французы, получившие подкрепления, вновь вернулись и губернатор вынужден был бежать в загородное свое имение вместе с маленьким сыном и беременной вторым ребенком супругой. Республиканские власти заочно приговорили графа Мональдо к смертной казни. Страхи, правда, были недолгими. Все обошлось благополучно. Последовала общая амнистия. Семья Мональдо вернулась в Реканати. В 1799 году появляется на свет Карло, а в следующем, 1800 году – сестра Паолина. По позднейшему признанию, дружба с братом и сестрой – единственное, что скрашивало жизнь Джакомо Леопарди на протяжении всего реканатского периода.
Политические потрясения усугубили и без того отчаянное положение хозяйства графа. Долговые обязательства были выданы на сорок лет вперед. И тут Мональдо совершает, как кажется, единственный в своей жизни практичный поступок: выдает безоговорочную доверенность на управление всеми своими расстроенными имениями супруге.
Аделаида Античи – добропорядочная, сухая, но крайне энергичная женщина – сумела за пятнадцать – двадцать лет восстановить имущественное положение дома Леопарди, а впоследствии даже улучшить его. Графа это вполне устраивало. Он всецело посвятил себя собиранию библиотеки и литературным опытам. Сочинял он преимущественно моральные и философские трактаты весьма охранительного содержания. Человеком он был на редкость консервативным. Ненависть к любого рода нововведениям он сохранил до конца своих дней. И это не однажды приводило к самым тяжким столкновениям с сыном. Воспитание детей он доверил – разумеется, под неусыпным своим контролем – иезуиту Торресу и аббату Санкини. Образование не выходило за рамки обычного для дворянских детей того времени: начала филологии (на основе латыни), азы математических и естественных наук, богословие. К тому же и наставники не отличались особой эрудицией. Случилось так, что уже к четырнадцати годам Джакомо нечему было у них научиться. Блистательный экзамен, обставленный со всевозможной пышностью тщеславным отцом, обнаружил, что ученик оказался намного ученее ментора. Начиная с восьмилетнего возраста мальчик буквально целые дни просиживал в отцовской библиотеке. Продолжал он заниматься и после ужина, у себя в комнате, дотемна. К этим детским годам относятся и первые литературные опыты Джакомо. Писать он начал с десяти лет: сочиняет сонеты, октавами переводит «Поэтическое искусство» Горация, создает поэму, пишет трагедию «Помпей в Египте» и составляет «Историю астрономии».
В 1813 году Джакомо Леопарди усаживается за самостоятельное изучение греческого языка, да так, что через год ему уже по силам комментирование «Жизни Плотина», перевод с древнегреческого эпиграмм и идиллий Мосха, «Батрахомиомахии» (к ней он возвращается еще трижды в 20-е годы). В 1815 году Леопарди написал поразительный по зрелости мысли трактат «О народных заблуждениях у древних». О возможностях Леопарди-эллиниста можно судить хотя бы по мистификации: он делает поэтический перевод с мнимого греческого текста, будто бы найденного в старинном кодексе. Стихи были опубликованы в журнале «Зритель» (1817) и вызвали благожелательные отклики серьезнейших специалистов.
Работоспособность Леопарди поразительна. Перечислить все его труды, законченные к двадцати годам, в короткой заметке просто немыслимо; важнейшие среди них – перевод второй книги «Энеиды», «Рассуждение итальянца о романтической поэзии», несколько собственных лирических пьес. Первые оригинальные стихи Леопарди обратили на себя внимание такого авторитетного литератора, как Пьетро Джордани. С ним, начиная с 1817 года, у Леопарди завязывается оживленная переписка. Дружба и покровительство Джордани сыграли роль в дальнейшей литературной судьбе Леопарди. Он не только ввел его в круг итальянских литераторов, но многие годы был его деятельным советчиком и руководителем. Это был первый контакт Леопарди с миром.
Целых двадцать лет он был отгорожен от тех политических бурь, которые бушевали за окнами домашней библиотеки. О том, как Наполеон перекраивал Европу и переустраивал Италию, о Священном союзе, о карбонариях, о зревших мятежах он слышал либо бессвязный шепот вышколенных слуг, либо безапелляционные суждения за обеденным столом, где собирались консервативнейшие друзья графа Мональдо, итальянского патриота, скорее предпочитавшего видеть «Италию рабой», чем «свободной владычицей».
Упорная, сумасшедшая работа сильно подорвала здоровье Леопарди. По собственному признанию, к двадцати годам он превратился в полного инвалида: «…я вконец надорвался годами отчаянных занятий в том именно возрасте, когда следовало дать телу развиваться и крепнуть» (письмо к Джордани). К физическим недугам (болезни глаз, позвоночника, легких) прибавились недуги нравственные: «…мое существование не разнообразится даже страданием. Впервые тоска не только меня обессиливает, но гнетет и убивает, словно острая боль; я трепещу перед тщетою человеческой жизни, раз уж потухают страсти, как потухли они во мне. Я просто теряюсь, особливо когда мне приходит на ум, что самое отчаяние – в сущности, тоже ничто». Леопарди всерьез помышляет о самоубийстве.
В 1818 году в Реканати приезжает Джордани. Его кратковременное пребывание подействовало на Леопарди живительно. Произошло как бы личное знакомство с живой литературой. Беседы с Джордани перенесли реканатского затворника в гущу надежд, сомнений, страстей, которыми бурлила тогдашняя Италия. «К Италии» и «Памятник Данте», две патриотические канцоны, написанные в конце 1818 года, – несомненное отражение этих бесед (хотя задуманы они были несколько раньше).
Леопарди вырос из коротеньких ученических штанишек. Его тянуло прочь из затхлой обстановки Реканати. Он твердо решил уехать. Отношения с родителями, и главным образом с отцом, окончательно расстроились. Но отец не отпускал сына, мотивируя это двумя причинами: с одной стороны, он боялся вредного влияния «безбожных либералов», а с другой, жаловался на полное отсутствие денег. Не обошлось и без ханжества: «Не могу дать мало из боязни посрамить имя Леопарди, а должной суммы дать не в состоянии».
Атмосфера сложилась такая, что Леопарди задумал бежать. В июле 1819 года он запросил у губернатора графа Брольо паспорт, написав с этой целью свои приметы: «Возраст – двадцать один год. Рост – маленький. Волосы – черные. Глаза – светло-голубые. Нос – обыкновенный. Рот – правильный. Цвет лица – бледный». Переписка с Брольо получила огласку. После энергичного объяснения с отцом Джакомо пришлось смириться. Предстояло еще три года вынужденного затворничества в Реканати.
Именно в эти годы (1818–1822) обозначился глубокий перелом в воззрениях Леопарди. Его письма, дневниковые записи и лирика свидетельствуют о мучительной духовной ломке.
Традиционное домашнее воспитание, основанное на незыблемых принципах, пришло в противоречие с теми скептическими выводами, которые он черпал как из собственного горестного житейского опыта, так и из усиленного чтения просветительской литературы. Вольтер, «этот знаменосец свободомыслия, столь приверженный истине и враждебный всякой лжи», становится его кумиром. Леопарди приходит от веры к безверию.
Не прошел в эти годы Леопарди и мимо событий, потрясавших общественную жизнь Италии. Личная подавленность усиливалась той гнетущей атмосферой, которая сложилась в Европе в результате повсеместной реставрации старого режима. Создание «союза государей против народов» (так называл декабрист Н. И. Тургенев Священный союз) способствовало усилению реакции. С надеждами, возлагавшимися в Италии и других порабощенных странах на падение наполеоновской империи, было быстро покончено. Освободительные движения подавлялись объединенными усилиями крупнейших европейских монархий. Так задушена была испанская революция Риего, неаполитанская революция и ряд других освободительных движений. Подавление этих революций, а вместе и надежд на скорое освобождение от тирании вызвало чрезвычайное разочарование у многих. Показательна, например, оценка Леопарди, высказанная в стихотворении «Брут Младший»; устами Брута он предает проклятию славу, добродетель и все те великодушные побуждения, которые способны подвигнуть человека на бесцельное самопожертвование. По мнению Леопарди, Италия в политическом отношении обречена на неминуемую гибель, заслуженную постыдным малодушием и рабскою трусливостью выродившихся ее сынов. Исторический пессимизм Леопарди не был побежден и последующими событиями в Европе (ни греческой революцией 1821 года, ни французской 1830-го, ни деятельностью «Молодой Италии»). К концу жизни в «Паралиноменах» и «Батрахомиомахии» он саркастически говорит и о политиканствующих хозяевах, и о политиканствующих рабах. Однако и этот исторический пессимизм следует рассматривать в связи с общим философским пессимизмом Леопарди, его размышлениями над судьбами человечества вообще, над взаимоотношением природы и человека.
С конца 1822 года в биографии Леопарди открывается новая страница. Отец соглашается отпустить его из дома. В уговорах помог дядя Леопарди с материнской стороны, маркиз Карло Античи. Мональдо отпускает сына с шурином в Рим, с тем, однако, условием, что в Риме сын постарается устроить свою карьеру на службе в каком-либо духовном учреждении. Начинается период странствований по Италии (Рим, Болонья, Милан, Флоренция, Пиза, Неаполь) с частыми возвращениями в Реканати, с новыми унижениями, выпрашиванием денежной помощи у отца, личными разочарованиями на почве неизменно безответной влюбленности, нищенскими подачками издателей, унизительными сборами пожертвований со стороны друзей. Во время всех этих странствований утешением для Леопарди служила лишь любовь и искреннее уважение со стороны небольшого круга душевно преданных ему людей (среди них выдающиеся ученые – историк Рима Нибур, химик Бунзен, Пьетро Коллета, Антонио Раньери, поэт Август фон Платен).
В декабре 1833 года Леопарди вместе со своим другом и покровителем Раньери переезжает в Неаполь и там поселяется на вилле друзей. Работает он по-прежнему много. Благотворный неаполитанский воздух порой приносил несчастному страдальцу облегчение. Но облегчение всегда оказывалось временным. Болезнь неуклонно развивалась, и 14 июня 1837 года Леопарди скончался на загородной вилле между Торре-Анунциата и Торре-дель-Греко у подножия Везувия. Похоронен он неподалеку от предполагаемой могилы Вергилия, возле церкви Сан-Витале в Фуоригротта, тогда на краю Неаполя, теперь – чуть ли не в центре города.
«Теоретик скорби и страдания», «проповедник пессимизма» – обычные характеристики Леопарди-мыслителя. «Певец мировой скорби», у которого формула лирического «я» – «человек – один», – так характеризуют поэта. Поэта определил мыслитель, мыслителя – биография. Отчетливее других эту концепцию выразил Олар, писавший: «Мы имеем здесь дело не с системою, открытою в тиши кабинета, – это целая жизнь, весь человек, который мало-помалу уходит в одну мысль», и эта мысль – об «общечеловеческом законе страдания» – единственный источник, вдохновляющий Леопарди-поэта.
Иными словами, поэтическое творчество Леопарди принято рассматривать как непосредственное отражение его биографии. В его «Песнях» вычитывали едва ли не автобиографию. Однако между художественным обнаружением мучений, раздумий и поисков автора и примитивным автобиографизмом лежит пропасть. Если «человек – один» и является формулой лирического «я» Леопарди, то это отнюдь не значит, будто этой формулой исчерпывается содержание его лирических пьес. Стремление разглядеть в стихах автопортрет или интимный дневник Леопарди уже не раз приводило к рискованному утверждению, что-де сохрани он чуть-чуть больше здоровья, устройся на приличное жалованье в папскую библиотеку и испытай он ответную любовь – и мигом исчезли бы самые стимулы к творчеству.
Горестная судьба человечества, одиночество, иллюзорность счастья – действительно частые темы лирики Леопарди, но далеко не единственные. К слову сказать, и эти-то темы никак не могут рассматриваться как производные от его биографии (другое дело – привнесенный в них личный опыт!). Мысль о бренности земного существования, торжестве зла над добром, неизбежности смерти и мстительности природы, сама космическая скорбь давно уже стала в мировой литературе в какой-то степени расхожей. Присутствует она и у древних авторов, столь близких сердцу Леопарди, и у непосредственных его предшественников (Метастазио, Вольтера), и у современников (Уго Фосколо). Следовательно, все дело в том, как поэтически акцентируется эта мысль, какую получает тональность, в какой связи с прочими поэтическими высказываниями она находится.
Во внушительном по размерам литературном наследии Леопарди два памятника – не считая, понятно, «Песен», принесших автору славу одного из крупнейших мировых лириков, – имеют первостепенное значение. Первый из них – его «Дневник» («Zibaldone di pensieri»), свыше четырех с половиной тысяч страниц, исписанных убористым почерком, хранящийся в Неаполитанской Национальной библиотеке и по-настоящему еще не прокомментированный. Леопарди вел его с июля 1817 года по 4 декабря 1832 года. Значение этого уникального документа состоит не столько в тех или иных мыслях, набросках, суждениях, ибо в окончательном виде все это мы находим в отдельных сочинениях Леопарди, – сколько в том, что это лирический vademecum гениального человека, дневник его души, лаборатория поэта, ежедневная исповедь. Второй памятник – «Моральные сочинения» («Operette morali»), задуманные еще в 1820 году, написанные между 1824 и 1825 годами и изданные целиком в 1827 году (не считая отдельных публикаций в повременных изданиях за 1826 год). В издание 1827 года вошли двадцать пять небольших трактатов, семнадцать из которых написаны в форме диалогов-споров. Цель трактатов – потолковать о превратностях и скорбной участи человека и вселенной. Тематически они делятся примерно пополам. Двенадцать посвящены рассуждениям о том, что такое жизнь, чувство, о происхождении материи, конечности всего сущего, о природе, человеческом естестве. В тринадцати трактатах речь идет главным образом о моральных проблемах: человеческих страстях, иллюзиях, добродетелях и пороках, славе, самоубийстве и т. д.
Мысли, высказанные в этих трактатах, выстроились в глазах биографов Леопарди в некую стройную философскую систему «мирового зла и страдания» (чуть ли не подобную доктрине Шопенгауэра); система произвольным образом наложилась на поэтическое творчество Леопарди, и «Песни» оказались как бы поэтической иллюстрацией этих трактатов. Между тем как сами трактаты вовсе не обнаруживают наличия какой-то законченной философской доктрины, так и «Песни» не являются их поэтической иллюстрацией. Леопарди выступает скорее моралистом, чем доктринером-философом. Исходная позиция Леопарди сводится к тому, что «жизнь – зло». И дело не в несовершенстве человека. Природа злее людей. От людей можно убежать, люди перестают преследовать гонимых, но от природы бежать некуда. Она всегда гонит и преследует по пятам. Сознание бесконечной тщеты всех усилий приводит Леопарди к выводу, что нет иной реальной истины, кроме смерти: она – естественный конец и единственная цель бытия. Исходя из такой посылки, Леопарди рассматривает в других трактатах суетность всяких человеческих стремлений, желаний, наслаждения, славы, любви. Всякое наслаждение, по Леопарди, – вещь умозрительная, а не реальная. Однако, несмотря на иллюзорность счастья и наслаждения, человек гонится за ними и дорожит жизнью лишь ради счастья. Строго говоря, мы любим именно счастье, а не жизнь, хотя часто относим к жизни привязанность, питаемую к счастью… Вместе с тем жизнь, «существование – это зло, пропорциональное количеству несчастья». Поэтому стремление к счастью – первая и главная химера. Химерой является и стремление к славе («она рассеивается как дым, если взглянуть на дело хорошенько»). и все другие человеческие стремления и желания. Выход, казалось бы, один: добровольный отказ от жизни. Но ослепленному человечеству этот выход закрывает «умствование» (то есть, по мысли Леопарди, размышления о загробной жизни, мечты о возможных общественных преобразованиях и т. д.).
И вот оказывается, что эти-то «химеры» и примиряют человека с жизнью, делают ее сносной, а того и гляди… сделают ее счастливой.
В «Песнях» Леопарди если и не всегда отходит от начертанной в трактатах теории абсолютного зла, то часто вступает с нею в противоречие, а порой и опровергает ее.
Сборник, вошедший в мировую поэзию под названием «Песен», содержит сорок одно законченное стихотворение. Тридцать девять пьес вышли при жизни автора (флорентийское издание 1831 года и неаполитанское 1835-го). Два стихотворения опубликованы после смерти Леопарди. Все они были написаны в период 1816–1836 годов.
Одна из химер, на которую Леопарди особенно ополчался в своих трактатах, была любовь к славе. И в то же время в канцоне «К Италии» он сетует на современные бедствия своей страны, взывает к прошлому, воспевает героизм предков, любовь к родине, поет воинскую славу, говорит не о напрасном самопожертвовании, а о самопожертвовании во имя отчизны, своих сограждан.
В «Палинодии» (которую нередко делают примером беспросветного пессимизма Леопарди и куски из которой приводят наравне с цитатами из трактатов) Леопарди обрушивается на «умствования» века; на те «лучшие умы», которые, «сил не имея сделать одного счастливым… хотят из множества несчастных, злых людей – довольный и счастливый сделать народ». Строки прочувствованные, но они обращены прежде всего против политиканов, обещающих рай и благоденствие на земле и тут же попирающих права и интересы отдельного человека. Нет сомнения, что инвектива эта обращена не против «химеры» (мечты о счастье), а против зла реально-исторического, свидетелем которого являлся поэт. Это подтверждает множество примет времени, конкретных реалий (распри, раздирающие Европу и Америку, споры, вызванные сбытом перца, корицы, пряностей, денежные выгоды и т. п.). Говорить тут можно разве что об историческом пессимизме Леопарди, который не видел конца и края раздорам, войнам, всяческим утеснениям, но слышал на этом фоне реального зла торжествующие завывания демагогов.
Не кажется основательным и такое чтение «Дрока», когда строки о «смрадной гордыне» человека, бессильного перед природой, но уверенного, что он живет для наслажденья, – толкуются как поэтизация умозрительных положений из «Моральных трактатов». Если их рассматривать как бунт чувства против зла жизни – и отнюдь не только с абстрактно-философской, но и с конкретно-социальной подоплекой, – то рушится еще одно положение Леопарди, его стоическая формула: «Не пытайся быть счастливым и не думай, что возможно избегнуть несчастья».
Леопарди лирик. В своих «Песнях» он не мыслит ни социальными, ни философскими категориями. Всю свою страсть он направляет на сострадание к себе подобным, на мятежный спор с мрачным предназначением человечества. А отсюда – по проницательному замечанию Де Санктиса – вырабатывается понятие о всемирном братстве или солидарности всего человечества как о естественном союзе взаимного сострадания против разрушительного влияния неприкрашенной истины, что, по мнению Леопарди, достижимо путем укрепления и развития чувства в противовес «умствованию». Об этом прямо сказано и в «Палинодии» и в «Дроке».
Леопарди редко говорит о действительности. Тем не менее она присутствует почти в каждом стихе. Заключена она в самочувствии поэта.
Леопарди не был политическим борцом. Но насчет предназначения поэзии он не заблуждался. Когда после поражения революций в Милане и Неаполе гражданский тух итальянской поэзии пошел на убыль и многие увлеклись поэтическими побрякушками, Леопарди написал сердитые строки: «Европа нуждается в более существенной истине, чем поэзия (в вышеупомянутом смысле. – Н. Т.). Гоняясь за пустяками, мы оказываем услугу лишь тиранам, так как сводим к забаве литературу, которая могла бы стать твердою точкой отправления для возрождения нашего отечества» (из «Послания к Карло Пеполи»).
Между трактатами и «Песнями» есть точки соприкосновения как есть точки соприкосновения между умозрительными заключениями Леопарди и собственным его житейским опытом. Но как философский пессимизм Леопарди нельзя отождествлять с его собственным злополучием, так и лирика его не тождественна «Моральным сочинениям». Противоречие чувства и абстрактной мысли у Леопарди очень ощутимо. Поэт в нем часто сокрушал философа. Гражданин превозмогал холодного моралиста. Боль за себе подобных заглушала собственную боль.
Не менее спорный характер носит поэтика Леопарди. Кто он, классик? Романтик? Его ориентация на классическую античность как будто бы склоняет к первому. Его приверженность к национальной традиции несомненна. Общеизвестна и его неприязнь к тем романтическим декларациям, которые появились в Италии сразу же после опубликования в 1816 году знаменитого письма мадам де Сталь. В этом письме она настаивала на приобщении итальянской литературы к европейской (имея в виду прежде всего немецкую и английскую), видя в этом залог ее возрождения, залог того, что она откажется наконец от мертвящей ее классической традиции. Письмо послужило сигналом к оживленной полемике и к появлению целого ряда манифестов. Доводы мадам де Сталь никак не убедили Леопарди. Напротив, единственной панацеей он продолжал считать следование собственному итальянскому пути. Об отношении Леопарди к романтизму см. его статью «Рассуждение итальянца о романтической поэзии», публикуемую в этом издании. Достойный подражания образец – античная поэзия. Именно в ней находил Леопарди истинное равновесие между вымыслом и реальностью, там видел он подлинный полет фантазии. В романтизме же его отталкивали вещественная конкретность словаря, увлечение звуковой стороной стиха.
Поэтический язык Леопарди традиционен. По первому впечатлению кажется, что словарь его, отдельные обороты, поэтические формулы без остатка растворяются в былой традиции. Его лексика разительно напоминает предшественников, зачастую очень далеких по времени. Язык Петрарки и даже Данте ему сродни. Леопарди не скажет «кинжал» или «шпага», но предпочтет «сталь», «железо» и т. д. Как и для Петрарки или Метастазио, «юные годы», «юность» для него «цветы весны», «златая весна»; «глаза» – «очи», «молнии», «звезды». «Красота» для Леопарди всегда будет «божественной», «небесной». Обнаруживается все это и в юношеской, и в зрелой лирике Леопарди. Если изъять из контекста подобные канонизированные традицией слова, обороты, формулы и рассмотреть их в сравнении со словарем таких поэтов-поэтов-романтиковкак Джованни Бершэ или Мандзони (времени «Священных гимнов»), то поэтический язык Леопарди покажется удивительно архаичным, банальным, стертым. Однако, вовлеченное в иную интонационную систему, это многократно опробованное поэтическое хозяйство приобретает совершенно неожиданную новизну. Кажется, что оно впервые введено в литературный обиход. Леопарди вовсе не озабочен поисками редкостного слова, неожиданной, бьющей на эффект метафоры (не говоря уже о словотворчестве). Он вполне довольствуется тем, что накоплено итальянской поэзией веками. Мало того, он предпочитает даже не отдельные слова старого поэтического лексикона, но готовые формулы, уже бывшие в употреблении тропы. В расчете на подготовленного читателя, он как бы использует оставшийся еще в старой лексике и формулах поэтический заряд, сообщает ему дополнительную силу, меняет синтаксические, мелодические, зрительные пропорции. Временами сдается, будто Леопарди бывает особенно рад позаимствовать что-то из этого, казалось бы, запрещенного фонда. Из литературной кладовой он перетаскивает слова в поэзию – и они там оживают.
Иногда он возвращает таким словам, фразам, целостным формулам их первозданное значение, снимая промежуточные наслоения, иногда, наоборот, до предела сгущает веками накопленные ассоциации. Он не стремится опровергнуть традицию, он преобразовывает, обновляет ее. Эффективность традиционного словаря у Леопарди – в соотношении между его почтенной литературной историей и новой жизнью, которую он приобретает в его поэзии.
Отметим еще одно свойство лирики Леопарди – незаменяемость порядка слов. Даже в пределах того же самого интонационного рисунка любая перестановка повлечет за собой нарушение музыкального смыслового начала, где все связано, взаимопроникаемо, незаменимо. В этом отношении Леопарди напоминает Пушкина, где все просто до крайности, но все единственно возможно. Такой стих не может иметь вариантов. Он окончателен. И в этом смысле Леопарди классичен. В его поэтике мало общего с принципиальной растрепанностью романтиков. Он не жертвует целостностью и ясностью в угоду счастливо найденному метафорическому слову, хотя, как правило, и отвергает слова терминологичные, строго понятийные.
Но в то же время преобладание чувства над рассудочностью, тяга к освобождению поэтического языка от жанровой закрепощенности, новшества в ритмической и строфической структуре канцон – все это сближает его с романтиками.
Сейчас вовсе не важно, романтиком ли был Леопарди или классиком. Важно, что поэзия его пережила все литературные распри. Сегодня он один из самых читаемых итальянских поэтов. По словам Де Санктиса, «Леопарди внушает чувства, противоположные своим намерениям: он не верит в прогресс, но заставляет тебя страстно его желать; он не верит в свободу – и заставляет любить ее; славу, добродетель, любовь называет он пустой иллюзией – и при этом возбуждает в твоей груди неуемную к ним тягу».
Н. Томашевский








