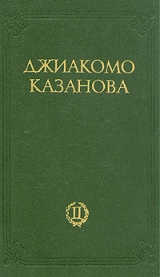
Текст книги "Любовные и другие приключения Джиакомо Казановы, кавалера де Сенгальта, венецианца, описанные им самим - Том 2"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
– Но, согласитесь, их требования вполне умеренны.
– Не возражаю, однако у меня нет ни гроша и ничего, что можно было бы заложить.
– А сколько вас всех?
– Четырнадцать, считая моё семейство. Не могли бы вы ссудить мне десять флоринов? Я верну завтра после представления.
– Охотно, и я приглашаю всех к, ужину в ближайшем трактире. Вот десять флоринов.
Бедняга рассыпался в благодарностях и сказал, что закажет ужин по флорину с персоны, как я ему велел. Мне хотелось развлечься, наблюдая, как четырнадцать голодных ртов с волчьим аппетитом поглощают еду.
На следующий день комедию смотрело не более тридцати-сорока человек, и бедный Басси едва мог заплатить оркестру и за свет. Он был в совершенном отчаянии и не только не возвратил мне деньги, но умолял одолжить ему ещё десять флоринов, рассчитывая единственно на сбор следующего дня. Я утешил его, сказав, что мы поговорим об этом после ужина.
Этот ужин, благодаря возлияниям, продолжался три часа. Меня с самого начала заинтересовала молодая страсбуржанка, субретка труппы, и настолько, что я загорелся желанием обладать ею. Сия девица, лицом весьма привлекательная и с голосом самого обворожительного тона, заставляла меня умирать от смеха, когда говорила по-итальянски со своим эльзасским выговором, сопровождая это жестами, одновременно и комическими, и приятными, что сообщало ей труднопередаваемое очарование. Решившись во что бы то ни стало завладеть этой актрисой не позднее следующего дня, я, перед тем как выйти из трактира, обратился к труппе:
– Дамы и господа, я беру вас на своё содержание по пятьдесят флоринов ежедневно в течение недели. Но при условии, что все сборы пойдут в мою пользу, а расходы по театру оплатите вы сами. Стоимость места должна быть назначена по моему желанию, и, кроме того, каждый вечер пятеро из вашей труппы будут ужинать со мной. Если окажется, что сбор превышает пятьдесят флоринов, вы получите разницу.
Предложение моё было встречено криками радости. Подали бумагу с чернилами, и мы записали нашу взаимную договорённость. “На завтра оставим билеты в прежней цене, – сказал я Басси, – а потом посмотрим. Приглашаю вас с семейством к ужину, а также ту молодую страсбуржанку, которую я не хочу разлучать с любезным ей арлекином”.
Был объявлен самый лучший спектакль, дабы привлечь больше публики. Несмотря на это, в партере сидело всего лишь человек двадцать, да и то каких-то неотёсанных мужланов, а ложи оставались почти пустыми. Перед ужином крайне смущённый Басси подошёл ко мне и подал десять флоринов. Со словами: “Мужайтесь!” я взял их и разделил между всеми присутствовавшими. Мы превосходно поужинали, и я удержал их за столом до полуночи, подливая всем доброго вина, и проделывал тысячу безумств с маленькой Басси и прекрасной страсбуржанкой. Последнюю я усадил рядом с собой, мало заботясь о ревнивом арлекине, который имел весьма кислый вид по причине моих вольностей с его красавицей. Сама она весьма неохотно уступала моим ласкам, ибо надеялась, что арлекин женится на ней, и поэтому не желала доставлять ему неприятности.
Окончив ужин, мы поднялись, и я со смехом заключил её в объятия. Мои жесты показались любовнику слишком откровенными, и он подошёл с намерением высвободить её. Я же счёл его нетерпимость неучтивой и, взяв за плечи, ударом ноги выставил вон, что было принято им с полнейшим смирением. Однако вся эта сцена оставила унылое впечатление, и прекрасная страсбуржанка залилась горькими слезами. Басси и его жена-дурнушка принялись смеяться над несчастной, а их дочка заявила ей, что любовник первым проявил невежливость. Та продолжала рыдать и, в конце концов, сказала, что больше не придёт ужинать со мной, если я не изыщу способа возвратить ей арлекина.
“Обещаю вам устроить всё к общему удовольствию”, – отвечал я, и четыре цехина, вложенные в её руку, сразу же восстановили безоблачное веселье. Она даже хотела убедить меня, что совсем не бесчувственна, а будет и того благосклоннее, если я сумею умерить ревность её любовника. Я обещал всё исполнить, и она старалась доказать, что при первой же оказии мне не встретится никаких препятствий.
Я велел Басси на следующий день объявить афишей, что билеты в партер будут по два флорина, а в ложи – по дукату, но зато парадиз отдаётся бесплатно первым, занявшим места.
– Но тогда никто не придёт, – отвечал он с ужасом.
– Может быть. Посмотрим. Испросите у полиции дюжину солдат для поддержания порядка, я заплачу им.
– Это для черни, которая придёт осаждать даровые места, а остальные...
На следующий день я пошёл к арлекину в его лачугу и, затратив два луидора, подкреплённые торжественным обещанием не обижать страсбуржанку, сделал его податливым, как перчатка.
Над афишей Басси потешался весь город. Его называли сумасбродом, но когда узнали, что всё исходит от владельца, помешанным сочли уже меня. Впрочем, я ничуть этим не беспокоился. К вечеру парадиз был полон за час до спектакля, но в партере, равно как и в ложах, никого не было, за исключением графа Ламберга, генуэзца аббата Боло и одного молодого человека, который показался мне переодетой женщиной. Актёры превзошли самих себя, и рукоплескания парадиза сделали представление отменно весёлым.
Когда мы были уже в трактире, Басси подал мне весь сбор – три дуката, но я, конечно, возвратил их ему, что положило начало общей непринуждённости. Я сел за стол между маленькой Басси и её матерью, оставив прекрасную страсбуржанку рядом с любовником. Директору я велел впредь играть самые лучшие пьесы, предоставив смеяться тем, у кого будет к тому охота.
Ужин и вино развеселили меня, но поскольку я ничего не мог сделать со страсбуржанкой из-за её любовника, то вознаградил себя младшей Басси, которая с готовностью предугадывала все мои желания, мать её только смеялась, а глупый арлекин выходил из себя, что не может проделать то же самое над своей Дульцинеей. К концу ужина я представил его взору мою малютку в природном её виде, а себя подобно Адаму, перед тем как он сорвал роковое яблоко. Глупец сделал движение, намереваясь выйти, и уже взял страсбуржанку за руку. Но я повелительным тоном велел ему оставаться на месте, и он не нашёл ничего лучшего, как повернуться спиной. Зато красавица его, желая как бы защитить девчонку, которая уже совершенно уступила мне, встала столь удобно, что ещё более увеличила моё блаженство и сама старалась получить удовольствие, насколько это было возможно для моей блуждающей руки.
Сия вакханалия воспламенила старушку Басси, и она стала побуждать своего мужа оказать ей знаки супружеского расположения, чему тот и уступил. Скромный же арлекин, подойдя к камину, охватил голову руками и оставался недвижим. Довольная сим счастливым положением, уже загоревшаяся страсбуржанка уступила природе и позволила мне делать с собой всё что угодно. Она заменила на краю стола младшую Басси, и я произвёл великое приношение во всём его совершенстве. Страстные её движения показывали, что испытываемое ею наслаждение никак не менее сильно, нежели моё.
В заключение сей оргии я вывернул на стол содержимое своего кошелька и получил удовольствие от того, с какой жадностью набросились они на две дюжины цехинов.
Через неделю я предоставил Басси самому вести свои дела, снабдив его кое-какими деньгами. Он продолжат представления, хотя и уменьшил цены до прежних и не стал пускать в парадиз без билетов. Положение его существенно поправилось.
В середине декабря я покинул Аугсбург. У меня было очень тяжело на сердце из-за моей милой Гертруды, которая полагала себя беременной, но не могла решиться уехать со мной во Францию. Я охотно взял бы её, тем более что отец совсем не собирался искать ей мужа и согласился бы отдать мне дочь как любовницу.
Я уехал, имея Дюка на месте кучера, но так и не смог простить его. Когда мы прибыли в Париж, я высадил беднягу вместе с его пожитками посреди улицы Сент-Антуан и там оставил, не дав ему, несмотря на слёзные мольбы, никакой рекомендации.
С тех пор я совершенно потерял его из виду и до сих пор жалею о нем, потому что это был превосходный слуга, хотя и наделённый весьма существенными пороками. Мне можно было бы вспомнить о том, что он сделал для меня в Штутгарте, Золотурне, Неаполе, Флоренции и Турине, однако взяло верх возмущение перед его наглостью, которая скомпрометировала бы меня в глазах аугсбургских властей, если бы моя сообразительность не подсказала мне способ уличить его в краже, ибо иначе последняя непременно была бы отнесена на мой счёт. Я и так слишком часто спасал его от рук правосудия и отнюдь не скупился на вознаграждение услуг.
XXXV
ИСТОРИЯ ГРАФИНИ ЛАСКАРИС
1762 год
Из Аугсбурга я направился в Базель через Констанц, где остановился в самой дорогой швейцарской гостинице.
Хозяин, по имени Имхоф, был первейшим мошенником, однако я нашёл его дочерей привлекательными и, посвятив развлечениям три дня, продолжал свой путь. В Париж я приехал в последний день 1761 года и поселился на улице Бак, где мадам д'Юрфэ приготовила мне элегантную и богато обставленную квартиру.
Я провёл в сих прелестных апартаментах целых три недели, никуда не выходя, дабы убедить эту добрую даму, что возвратился в Париж, единственно намереваясь сдержать своё слово и устроить её перерождение в мужчину.
Всё это время мы проводили за приготовлениями, необходимыми для сего таинственного обряда и состоявшими в особом культе гениев всех семи планет, когда каждому из них посвящался свой день. Завершив эти приготовления, а должен был отправиться в некое место, указанное мне самими гениями, привезти оттуда девственницу и способом, известным лишь братьям Креста и Розы, оплодотворить её для рождения сына. Мадам д'Юрфэ предстояло принять этого ребенка при его рождении и держать безотлучно у себя на постели семь дней. По истечении сего срока она 23 была умереть, вдохнув свою душу в уста моего сына. После такого превращения мне надлежало воспитывать дитя до трёхлетнего возраста, когда мадам д'Юрфэ возродится в нём, после чего я должен был начать посвящение её в тайны великой науки.
Сие действо было назначено на апрельское, майское или июньское полнолуние. Мадам д'Юрфэ составила завещание по всей форме в пользу ребенка, а меня определила его опекуном до тринадцати лет. Эта сумасшедшая твёрдо верила в истинность моих обещаний и сгорала от нетерпения увидеть девственницу, предназначавшуюся в качестве сосуда божественного превращения, а посему всё время торопила меня с отъездом.
Я надеялся, что, отвечая через оракула, смогу внушить ей отвращение к сему предприятию, ибо всё-таки речь шла о смерти, и поэтому, как мне казалось, естественная привязанность к жизни поможет затянуть дело до бесконечности. Однако же, обнаружив прямо противоположное, я оказался перед необходимостью хотя бы для вида сдержать слово и ехать за таинственной девственницей.
Итак, мне было нужно найти мошенницу, которая быстро поняла бы, как держать себя, и я вспомнил про Кортичелли. Она уже девять месяцев находилась в Праге, а ещё в Болонье я обещал приехать к ней до конца года. Однако по возвращении из Германии, откуда я привёз не очень приятные воспоминания, мне не хотелось снова пускаться в путь во время холодного сезона, да ещё по столь пустячному поводу. Я решил не затруднять себя и вытребовать её во Францию, послав нужные для этого деньги.
Г-н Фукэ, приятель мадам д'Юрфэ, был интендантом в Меце, и рекомендательное письмо к нему, без сомнения, гарантировало благожелательный приём. Там же со своим полком находился и его племянник граф Ластик, которого я хорошо знал. Сообразив сии обстоятельства, я избрал Мец для встречи девственницы Кортичелли. Мадам д'Юрфэ снабдила меня всеми необходимыми письмами, и 25 января 1762 года я покинул Париж, нагруженный подарками и отягощенный крупным аккредитивом, который, впрочем, я совершенно не использовал, ибо мой кошелёк был и без того достаточно полон.
Я не взял с собой никакой прислуги, так как после воровства Косты и мошенничества Дюка уже не мог никому довериться. Через два дня я был в Меце и остановился у “Короля Дагобера” – превосходной гостинице, где встретился со шведским графом Левенгауптом, с коим познакомился у жившей в Париже принцессы Ангальт-Цербстской, матери русской императрицы. Он пригласил меня отужинать в обществе герцога Дё Пона, направлявшегося инкогнито в Париж для встречи с Людовиком XV.
На следующий день я отправился с письмами к г-ну интенданту, который просил меня обедать только у него. Графа Ластика в Меце не оказалось, и я был весьма огорчён этим, так как он намного увеличил бы для меня приятность жизни в сём прекрасном городе. В тот же день я послал Кортичелли пятьдесят луидоров и в письме просил, как только она освободится, найти себе спутника, который знал бы дорогу и мог бы сопровождать её самоё и её матушку. Кортичелли не могла покинуть Прагу раньше великого поста, и чтобы убедить её, я обещал полностью устроить все денежные дела.
Через пять дней я совершенно освоился в городе, однако манкировал обществом ради театра, в коем меня привлекла одна актриса комической оперы. Её звали Ратон, и ей было лет пятнадцать-шестнадцать, как это принято среди актрис, которые всегда убавляют хотя бы два или три года – вполне простительная и свойственная всем женщинам слабость, ибо молодость составляет для них первейшее преимущество. Ратон была не так красива, сколь привлекательна, однако особенно соблазнительной делало её совсем другое обстоятельство: она назначила за свою невинность цену в двадцать пять луидоров.
Можно было провести с ней ночь и за один луидор, а двадцать пять платить лишь в том случае, если удастся произвести желаемое действо. Стало известно, что многие офицеры и молодые чиновники пытались совершить сей подвиг, однако же безуспешно, и каждый терял только свой луидор.
Необычайность такого положения была слишком пикантной, чтобы и у меня не возникло искушения. Посему я поспешил заявить о себе, но, не желая быть обманутым, принял меры предосторожности. Я сказал этой красавице, что она придёт ко мне ужинать и получит двадцать пять луидоров, если полностью удовлетворит меня, а в противном случае – шесть, конечно при условии, что у неё не обнаружится никакого изъяна.
Ратон пришла вместе со своей тёткой, которая за десертом оставила нас и удалилась в соседнюю комнату, чтобы провести там ночь. Девица оказалась идеалом по совершенству форм, и я не мог спокойно думать о том, что буду иметь в полном своём распоряжении и скоро, подобно Одиссею, завладею руном, правда не золотым, а цвета чёрной смоли, кое не поддалось усилиям самых блестящих юношей Меца. Читатель может подумать, что, не располагая более крепостью молодого возраста, я чувствовал неуверенность после безуспешности предшественников. Но ничего подобного – я не сомневался в себе и только посмеивался. Ведь остальные были французами, которые искуснее в умении штурмом взять неприступную крепость, чем защищаться от проделок молодой мошенницы. Родившись итальянцем, я хорошо знал все их уловки и был уверен в своём успехе.
Однако мои приготовления оказались излишними. Попав ко мне в объятия, Ратон сразу поняла бесполезность притворства и не прибегала ко всем своим фокусам, которые заставляли неопытных претендентов почитать её за то, чем она уже никак не была на самом деле. Девица вполне отдалась мне, а когда я пообещал ей сохранить тайну, ответила на мои чувства с неменьшим пылом. Конечно же, ей не пришлось испытать ничего для себя нового, и поэтому можно было не давать ей двадцать пять луидоров. Однако я остался доволен, да и вообще не придавал значения подобного рода обстоятельствам, а посему вознаградил её так, словно мне первому выпало вкусить сего плода.
Я содержал Ратон по луидору в день до прибытия Кортичелли, и она оставалась верна мне, так как неотступно находилась возле меня. Общество сей милой девицы было столь приятным, что я немало раскаивался в необходимости ждать мою итальянку, о приезде которой мне сообщили в ту минуту, когда я выходил из ложи, собираясь идти домой. Наёмный лакей громким голосом объявил, что моя супруга с дочерью и ещё одним господином прибыли из Франкфурта и ожидают меня в гостинице. “Дурак, – ответил я ему, – у меня нет ни жены, ни дочери”. Впрочем, это не помешало всему Мецу узнать о приезде моего семейства.
Кортичелли бросилась мне на шею, хохоча, по своему обыкновению, а старуха представила человека, сопровождавшего их от Праги. Это был наш соотечественник по имени Монти, давно обосновавшийся в Праге и зарабатывавший на хлеб обучением итальянскому языку. Я с удобством поместил синьора Монти и старуху, а молодую ветреницу отвёл к себе в комнату. Я нашёл её изменившейся в лучшую сторону – она выросла и приобрела более округлые формы, а грациозность манер окончательно делала из неё замечательно красивую особу.
– Сумасшедшая, зачем ты позволила матери назваться моей женой? По-твоему, это очень лестно для меня?
– Она страшно упряма и скорее даст себя высечь, чем назовётся моей гувернанткой, потому что для неё гувернантка и сводня одно и то же.
– Какое невежество! Но мы заставим её согласиться, по доброй воле или силой. Я вижу, ты роскошно одета, значит, тебе повезло?
– В Праге мне удалось обольстить графа Н., и он был щедр. Но, мой друг, я прежде всего хочу просить, чтобы вы отпустили синьора Монти. У сего честного человека в Праге осталось семейство, и он не может долго задерживаться.
Франкфуртская карета отправлялась тем же вечером. Я велел позвать Монти и, поблагодарив его за услуги, щедро наградил, так что он уехал вполне удовлетворённый.
Мне было незачем оставаться долее в Меце, и я простился со своими новыми знакомыми. На следующий день я заночевал в Нанси, откуда отправил письмо к мадам д'Юрфэ с сообщением, что везу девственницу – последний отпрыск фамилии Ласкарисов, некогда правивших в Константинополе. Я просил принять её из моих рук в загородном доме, где мы остановимся на несколько дней для кабалистических церемоний.
Она отвечала, что ждёт меня в Пон-Карэ, старом замке за четыре лье от Парижа, и примет молодую принцессу со всеми знаками самого дружеского внимания. “Я тем более чувствую себя обязанной к этому, – писала моя помешанная, – что фамилия Ласкарис связана родственными узами с домом д'Юрфэ, не говоря уже о моём предназначении сделаться плодом сей счастливой девственницы”. Из её послания я понял необходимость если не охлаждения её пыла, то, во всяком случае, сдерживания внешних оного проявлений и отписал ей в этом смысле с разъяснениями, почему гостью следует титуловать лишь графиней. В конце письма я сообщал, что мы приедем в понедельник на святой неделе и нас будет сопровождать гувернантка юной Ласкарис.
Я провёл около двух недель в Нанси, давая наставления девице и уговаривая её матушку удовлетвориться ролью покорнейшей слуги графини Ласкарис. В последнем я только с большим трудом добился успеха, и то лишь живописуя неисчислимые блага при условии беспрекословного повиновения, а в противном случае угрожая отослать её обратно в Германию без дочери.
Мне пришлось скоро раскаяться в своей настойчивости. Упорство этой женщины следовало бы почитать за предупреждение моего доброго гения, который хотел отвести от меня самую тягостную из совершённых мною ошибок!
В назначенный день мы прибыли в Пон-Карэ. Мадам д'Юрфэ велела опустить мост, а сама стояла у ворот в окружении слуг, как генерал, приготовившийся к сдаче крепости по всем правилам военного этикета. Сия милейшая дама, помешавшаяся лишь от чрезмерного ума, устроила для самозванной принцессы столь торжественный приём, что последняя не смогла бы сдержать удивления, если бы не мои предварительные наставления. Мадам д'Юрфэ трижды обняла её с величайшей нежностью и назвала своей любимой племянницей. Она тут же пересказала всю свою генеалогию, а потом и происхождение дома Ласкарисов, дабы показать своё право называться её теткой. Я немало подивился достойным манерам и совершенной серьезности моей итальянки во время сей смехотворной церемонии.
Взойдя в комнаты, фея произвела священные воску рения и окропила новоприбывшую благовониями, что было принято последней со скромностью оперной богини. За столом графиня своей весёлостью и грацией покорила мадам д'Юрфэ. которая ничуть не удивлялась плохому французскому выговору гостьи. О даме Лауре не стоило и упоминать – она знала лишь свой итальянский. Ей отвели хорошую комнату, куда всё приносили, и она выходила оттуда только к мессе.
Замок Пон-Карэ – это настоящая крепость, выдерживавшая осады во времена религиозных войн. Он имеет форму прямоугольника с зубчатыми башнями по углам и со всех сторон окружён глубоким рвом. Комнаты там просторны и роскошно обставлены, но по старинной моде. Везде роились тучи комаров, кои заживо поедали нас, оставляя на лицах болезненные волдыри. Однако я обещал провести здесь восемь дней, и мне было бы затруднительно найти предлог, чтобы сократить сие время. Мадам велела поставить около своей кровати ещё одну, для племянницы. Дабы она не вздумала удостовериться в её девственности, оракул запретил это под страхом лишить благословения то действо, которое было назначено на четырнадцатый день апрельской луны.
В сей день мы отужинали без вина, после чего я пошел и лёг в постель. Через четверть часа мадам привела ко мне девственницу Ласкарис. Она раздела её, натёрла благовониями и уложила рядом со мной, но сама не удалилась, а пожелала видеть собственными глазами таинство, благодаря которому ей предстояло перевоплотиться ровно через девять месяцев.
Акт был совершён по всем канонам, и мадам оставила нас вдвоем на целую ночь, проведённую нами сравнительно с остальными наилучшим образом, так как графиня ночевала потом у тётки до самого последнего дня луны, когда я должен был узнать у оракула, произошло ли зачатие. Это вполне могло случиться, ибо ничто не осталось упущенным для достижения сей цели. Однако же я счёл более разумным получить отрицательный ответ, и мадам д'Юрфэ была в отчаянии, хоть я и старался утешить её другим изречением оракула, согласно которому то, что не осуществилось в апреле в пределах Франции, может быть произведено в мае за границами королевства.
Теперь самым важным было назначить место для повторного совершения таинства. Мы выбрали Экс-ля-Шапель, и за пять-шесть дней все приготовления к поездке полностью завершились. Опасаясь неприятностей, я постарался ускорить наш отъезд. Мы отправились с наступлением мая в берлине, куда, кроме мадам д'Юрфэ и меня, поместились также самозванная Ласкарис со своей любимой камеристкой. Вслед за нами следовал двухместный кабриолет, занятый синьорой Лаурой и ещё одной служанкой. На козлах берлина восседали два лакея в роскошных ливреях. Один день мы отдыхали в Брюсселе и другой в Льеже. В Эксе оказалось множество знатных иностранцев, и во время первого же бала мадам д'Юрфэ представила мою Ласкарис как свою племянницу двум мекленбургским принцессам. Фальшивая графиня принимала знаки их внимания с непринуждённой скромностью и особенно заинтриговала маркграфа Байрейтского и его дочь, герцогиню Вюртембергскую, которые не отпускали её до самого разъезда. Я был как на иголках, опасаясь, как бы моя героиня не выдала себя каким-либо номером из закулисного репертуара. Однако же она танцевала с отменной грацией, чем заслужила рукоплескания всех собравшихся. Отовсюду ко мне стекались комплименты. Я же чувствовал себя настоящим мучеником, ибо сии похвалы казались для меня полными скрытой насмешки, словно каждый угадал в ней оперную танцовщицу, переодетую графиней.
Улучив минуту поговорить с этой безумной, я стал заклинать её, чтобы она танцевала как благородная девица, а не фигурантка балета. Однако же она чрезвычайно возгордилась своими успехами и осмелилась ответить, что и благородная девица может танцевать как актриса, и уж во всяком случае она никогда не согласится ради моего удовольствия танцевать дурно. Её слова были мне столь противны, что я тут же прогнал бы эту наглую авантюристку, если бы знал, как это сделать. Но я поклялся себе, что, хотя и с некоторой задержкой, она получит по заслугам. Не знаю, почитать ли это пороком или достоинством, но желание мести исчезает во мне лишь после его удовлетворения. На следующий после бала день мадам д'Юрфэ подарила ей шкатулку, где оказались украшенные бриллиантами часы, алмазные серьги и перстень с камнем в пять карат. Всё это стоило не менее шестидесяти тысяч франков. Я отобрал у неё сии драгоценности, дабы она не вздумала сбежать с ними.
Тем временем, ожидая назначенного срока, я, чтобы рассеять скуку, занимался картами и сводил дурные знакомства. Самым недостойным из них был один французский офицер по имени д'Аше, имевший красивую жену и ещё более прелестную дочь. Сия последняя не замедлила занять в моём сердце то место, которое принадлежало Кортичелли лишь по названию. Однако, когда мадам д'Аше поняла, что я отдаю предпочтение дочери, она перестала принимать мои визиты.
Поскольку я ссудил д'Аше десять луидоров, то почел себя вправе пожаловаться ему на неучтивость его супруги. Однако же он возразил с некоторой резкостью, что раз я ходил ради дочери, она поступила вполне резонно, ибо для девицы надобно подыскивать мужа, а при честных с моей стороны намерениях мне следовало бы прежде всего объясниться с матушкой. Во всём его рассуждении не было ничего обидного, кроме самого тона, и поэтому, зная его как отъявленного грубияна и пьяницу, готового драться по любому поводу и без повода, я решил смолчать и оставить в покое его дочь, не желая компрометировать себя с подобным человеком.
Находясь в таковом положении, я уже почти излечился от своих фантазий в отношении его дочери, и как-то раз, дня через четыре после нашего объяснения, случайно зашёл в биллиардную, где увидел д'Аше, игравшего с одним швейцарцем, по имени Шмит, который состоял на шведской службе. Заметив меня, д'Аше предложил пари на те десять луидоров, что был должен мне. Я отвечал ему. “Согласен, но пусть будет двадцать или ничего”.
К концу партии д'Аше, видя неизбежный проигрыш, сделал столь явственно нечестный удар, что даже слуга сказал ему об этом. Однако же сей шулер, коему такая уловка позволяла выиграть, не обращая внимания на это замечание, взял со стола деньги и положил в карман. Тогда партнёр его размахнулся и кием ударил нахала по лицу. Д'Аше смягчил удар, закрывшись рукой, и, схватив шпагу, бросился на безоружного Шмита. Молодой слуга, человек изрядной силы, успел задержать нападавшего и отвратил кровопролитие. Швейцарец же со словами “до свидания” направился к выходу. Один офицер, по имени де Пиэн, отвёл меня в сторону и сказал, что заплатит мне из собственных денег те двадцать луидоров, которые присвоил д'Аше, но Шмит должен дать последнему сатисфакцию со шпагой в руках. Я без колебаний отвечал, что швейцарец исполнит свой долг, и обещал доставить ему на следующий день утвердительный ответ.
На сей счёт у меня не было ни малейших сомнений – благородный человек, носящий шпагу, должен всегда быть готов воспользоваться ею, дабы защититься от посягательств или же искупить нанесённую им самим обиду. Конечно, это предрассудок и, может быть, правы те, кто назовёт его варварским. Но он составляет неотъемлемую принадлежность общества, и человек чести, за коего я с несомненностью почитал Шмита, не может исключить себя из общепринятых правил. На другой день с рассветом я отправился к швейцарцу и застал его ещё в постели. Он встретил меня такими словами:
– Вы, конечно, явились с вызовом от д'Аше. Я готов сделать ему удовольствие и обменяться несколькими выстрелами. Но прежде он должен вернуть мне украденные двадцать луидоров.
– Завтра утром вы получите их. Я буду на вашей стороне, а секундантом д'Аше согласился быть г-н де Пиэн.
Через два часа я встретился с де Пиэном, и мы назначили поединок на шесть часов утра в саду за полу-лье от города. С первыми лучами солнца швейцарец уже ждал меня у дверей своего дома, насвистывая пастушескую песенку. Мы отправились, и по дороге он сказал мне:
– До сих пор я всегда дрался с честными людьми, и мне будет тяжело отправить на тот свет шулера. Это дело, достойное палача.
– Понимаю, насколько неприятно рисковать жизнью из-за подобных людей.
– Для меня здесь нет никакого риска, – возразил Шмит, улыбнувшись, – я ни минуты не сомневаюсь, что убью его.
Д Аше и де Пиэн уже ждали нас, а оказавшиеся поблизости ещё пять или шесть персон были всего лишь любопытствующими бездельниками. Д'Аше вынул двадцать луидоров и подал их своему противнику со словами;
– Мне было невозможно ошибиться, и вы дорого заплатите за эту наглость. – Затем, повернувшись в мою сторону, он присовокупил: – Я должен вам двадцать луидоров.
Я ничего не ответил ему. Шмит с совершеннейшим спокойствием положил деньги в карман и, молча подойдя к двум деревьям, находившимся не более чем в четырёх шагах друг от друга, встал между ними. Затем достал из кармана пару пистолетов и сказал д'Аше:
– Извольте отойти на десять шагов и стреляйте первым. Я буду прогуливаться между деревьями. Ваше право поступить точно так же, когда наступит моя очередь.
– Но надо ещё решить, за кем право первого выстрела, – вмешался я.
– Это совершенно излишне, – отвечал Шмит, – я никогда не стреляю первым.
Де Пиэн поставил своего приятеля на указанное расстояние, и д'Аше выстрелил в швейцарца, который неторопливо прохаживался, поглядывая по сторонам, а потом остановился и сказал:
– Я был уверен, что вы промахнётесь, сударь. Можете продолжать.
Такое поведение показалось мне чистым безумием, и я приготовился было к переговорам. Однако они не понадобились. Д'Аше выстрелил второй раз и снова неудачно. Противник его всё с той же уверенностью сделал первый выстрел в воздух, потом, взяв второй пистолет, прицелился и поразил д'Аше прямо в середину лба. Тот замертво повалился на землю. Шмит спрятал пистолеты в карман и удалился один, словно продолжал свою прогулку. Через пару минут и я последовал за ним, удостоверившись в смерти несчастного д'Аше.
Меня ошеломила сия дуэль, скорее похожая на сон или романтический вымысел. Я поехал завтракать к мадам д'Юрфэ, которая страшно сокрушалась, так как наступил уже день полнолуния, когда я должен был в четыре часа три минуты произвести мистическое действо, а божественная Ласкарис, предназначенная служить вместилищем избранника, билась у себя на постели, изображая конвульсии, кои непреодолимо препятствовали акту оплодотворения.








