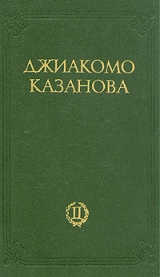
Текст книги "Любовные и другие приключения Джиакомо Казановы, кавалера де Сенгальта, венецианца, описанные им самим - Том 2"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
– Коли вы, сударь, не желаете разговаривать в моих комнатах, я вынужден сам прийти к вам.
С этими словами он запер дверь. Я приготовился к защите.
– Не горячитесь, – продолжал он, – ваш внезапный отъезд был бы для меня оскорблением, и поэтому вы никуда не поедете.
– Любопытно, каким образом вы собираетесь помешать мне. Полагаю, в ваши намерения не входит держать меня здесь силой?
– Мои намерения состоят в том, чтобы не позволить вам уехать одному. Мы должны покинуть замок вместе, этого требует моя честь.
– Превосходно, я понимаю вас. В таком случае извольте взять шпагу или пистолеты, и я к вашим услугам. В том экипаже, который приедет за мной, хватит места для двоих.
– Ни в коем случае, вы поедете только в моей карете и лишь после того, как мы отобедаем.
– И не надейтесь на это. Я был бы сумасшедшим, если бы после всего происшедшего взял в рот хоть крошку вашего хлеба.
– Хорошо, мы будем обедать без свидетелей, и об этом никто не узнает, даже мои слуги. Ведь и вам ни к чему новый скандал, не так ли? Единственное средство к этому – отослать ваш экипаж.
После тысячи препирательств пришлось уступить. Я отправил фермера домой, а этот каналья Торриано до часу дня рассыпался в извинениях, пытаясь убедить меня, что я не имел никакого права препятствовать ему отлупить подлую бабу, в которой я совершенно не заинтересован. Его рассуждение заставило меня рассмеяться, но я сразу взял себя в руки и ответил ему:
– О каком праве вы осмеливаетесь говорить, сударь, применительно к свободному человеку? Я был бы ещё худшим, чем вы, чудовищем, если бы из трусости позволил калечить у себя на глазах несчастную женщину, которая, к тому же, лишь несколько минут назад оставила мою постель, что, полагаю, прекрасно вам известно.
Он изобразил удивление и, как бы желая покончить дело, стал говорить, что эта история не делает чести ни одному из нас, даже если один сложит свою голову.
– А вы знаете, синьор Казанова, я имею обыкновение драться до последней капли крови.
– Это мы ещё проверим. Вы можете выбирать любое оружие, я же считаю себя удовлетворённым и сохраняю вам возможность оставаться в числе живых.
– Тем не менее, мы будем драться.
– Согласен. Что вам угодно выбрать – шпагу или пистолеты?
– Шпагу.
Я словно светился с облака, увидев вдруг, как этот несдержанный человек стал вежлив и предупредителен, когда неизбежность смертельной дуэли привела в замешательство его рассудок, ибо я не сомневался, что оригинал подобного сорта не может быть храбрецом. Сам я нисколько не терял хладнокровия, будучи уверен в неотразимости моего излюбленного выпада, и поэтому обещал себе отпустить его лишь с проколотым коленом.
Изрядно пообедав, мы отправились. Он – без багажа, а я со своим чемоданом, привязанным позади кареты. Граф велел кучеру ехать по дороге в Гёртц, но каждую минуту я ожидал, что он распорядится свернуть налево или направо, дабы найти под покровом леса подходящее место. Однако Торриано хранил глубокое молчание. Когда вдали уже показался Гёртц, он сказал мне:
– Послушайте, лучше остаться добрыми друзьями. Поклянёмся, что сохраним в тайне это грязное дело.
– Согласен, – отвечал я, – но больше ни слова об этом. В своей низости он дошёл до того, что при расставании
хотел поцеловаться со мной.
Я нанял небольшую комнатку на самой тихой улице Гёртца, намереваясь завершить вторую часть моей “Истории смут в Польше”. Тем не менее, потребное для сего время не мешало мне появляться в обществе до того самого дня, который назначил я для возвращения в Триест, где должно было ожидать обещанного мне синьором Загури помилования. Все только и говорили о моём приключении в Спёссе и первое время беспардонно надоедали мне. Я отговаривался, что всё это пустые сплетни. Наконец, видя, что Торриано изъявляет мне прежние знаки приязни, языки умолкли. Сам же граф пытался снова заманить меня к себе, но я каждый раз уклонялся от сего. Это была одна из тех несуразных личностей, от коих надобно бежать со всех ног, как только они появляются. Он женился на той молодой даме, о которой я упоминал, и сделал её совсем несчастной. После пятнадцати лет супружества Торриано умер в нищете, лишившись рассудка, и его приходилось привязывать.
По прибытии в Гёртц я узнал, что в начале октября приступил к делам новый Совет Десяти, а девять новых инквизиторов заменили своих предшественников. Мои усердные покровители, синьор Моросини, сенатор Загури и мой верный Дандоло извещали меня, что надеются выхлопотать мне прощение, но ежели сие не удастся им в течение года, надобно будет совершенно оставить надежду на это. По счастливой случайности в Трибунале оказались приятели моих заступников. Сагредо, один из инквизиторов, был близким другом прокуратора Моросини. Читатель знает, что я был вынужден непременно и как можно скорее возвращаться в Триест. Только в этом городе я мог оказать некоторые услуги Республике. Там представлялась возможность подогревать рвение тех, кто покровительствовал мне, и вырвать, в конце концов, столь вожделенное для меня разрешение возвратиться, которое я более чем заслужил двадцатилетними скитаниями по всей Европе. Достигнув – увы! – сорока девяти лет, я с полной ясностью понял, что уже нечего ждать от фортуны, сей неблагосклонной к зрелому возрасту богини. Но, как я надеялся, жизнь в Венеции позволит мне умилостивить судьбу и, благодаря моим талантам, я смогу обеспечить себе скромное, но пристойное существование. Обширный опыт сделал меня недосягаемым для искушений тщеславия, и я не стремился более ни к титулам, ни к почестям, ни к блеску высших сфер. Я хотел лишь найти какое-нибудь неприметное занятие, доходы от которого обеспечили бы меня самым необходимым, ибо отныне я твердо решился не претендовать ни на что большее.
Я неустанно занимался своей “Историей смут в Польше”. Первая часть уже была напечатана, вторая почти завершена, и у меня оставалось достаточно сведений, чтобы выпустить издание в семи томах. По окончании сего труда я предполагал сделать последние исправления моего итальянского перевода “Илиады”, каковой положил бы начало и другим подобным сочинениям в будущем. При самом худшем раскладе мне можно было не опасаться нужды в сём городе, который доставляет тысячу возможностей многим людям, коим пришлось бы в любом другом месте просить милостыню.
В Гёртце я стал свидетелем кончины графа Карло Коронини, приключившейся вследствие нарыва на голове. Он оставил завещание, написанное восьмисложным итальянским стихом, и отдал мне сей документ, который я свято сохранил, но, по правде говоря, с не меньшей признательностью воспринял бы и само наследство. Трудно вообразить что-либо оригинальнее сего творения, исполненного пыла, утончённости и иронии. Никогда ещё не говорили о собственной смерти с большим свободомыслием. Граф Карло, сочиняя своё завещание, знал, что умрёт ещё до конца месяца. Несомненно, зёрна сумасшествия созревали в его голове, ибо только законченный безумец мог смеяться, думая о своей смерти.
Я выехал из Гёртца накануне Нового года и 1 января уже остановился в большом трактире на самой красивой площади Триеста. Приняли меня даже лучше, нежели я ожидал. Барон Питтони, венецианский консул, члены Торговой Палаты, завсегдатаи казино, равно как и молодые люди, дамы и девицы, все они казались счастливы снова видеть меня. С превеликим удовольствием провёл я карнавал, хотя и продолжал заниматься моей историей, вторая часть которой была отпечатана ещё до великого поста.
В Триесте выступала тогда группа комедиантов. Среди них я встретил Ирэну, ту самую, в которую был когда-то влюблён, дочь самозванного графа Ринальди. Я знал её в Милане и Генуе и хотя после сего пренебрёг ею, но впоследствии, будучи в Авиньоне, помог ей выбраться из весьма неприятного положения. Мы не виделись уже двенадцать лет, однако я с первого взгляда понял, что она может ещё прельщать. Но в то же время нельзя было не напомнить себе об осторожности, ибо я уже не мог себе позволить былые безумства. О, где вы, мои дни счастия!
Милейшая Ирэна встретила меня криками радости. Она ждала моего визита и сказала: “Я ведь узнала тебя в партере”. Значит, время не так уж обезобразило мою внешность. Ирэна представила мне своего мужа, занятого в роли Скапена, и дочь, которая, несмотря на её восемь или десять лет, числилась танцовщицей. Вот в двух словах история Ирэны. Когда она жила в Авиньоне, то поехала вместе с отцом в Турин и там влюбилась в этого Скапена. Она сбежала с ним, также избрав карьеру комедиантки. Отец её скончался от несварения, а мать умерла с горя, тем более, что эта несчастная женщина осталась буквально нищей. Ирэна уверяла меня, будто ни разу не нарушила супружеский долг, хотя и не отпугивала чрезмерной строгостью тех воздыхателей, кои были достойны послаблений. Все её удовольствия в Триесте ограничивались тем, что она приглашала к ужину четырёх-пятерых близких друзей. Сии собрания были лишь предлогом для карточной игры, в которой сама Ирэна держала банк и превосходно с этим управлялась. Она пригласила и меня, на что я обещал прийти в тот же вечер после театра, намереваясь ограничиться мелкими ставками, ибо сие развлечение было строжайше запрещено полицией.
Все собравшиеся, кажется, семь или восемь юношей, были влюблены в Ирэну, что мешало им видеть, с какой ловкостью сия принцесса срывала банк. Я чуть было не рассмеялся, приметив, что она хотела испытать этот свой талант на мне, но, впрочем, не произнёс ни слова и, лишившись нескольких флоринов, спокойно удалился вместе со всеми. Это была сущая безделка, но мне не понравилось, что Ирэна обошлась со мною, как с неопытным новичком. Утром следующего дня я пошёл в театр на репетицию и сделал ей комплимент по поводу вчерашней ловкости. Вначале она притворилась непонимающей, а на мои дальнейшие настояния отвечала, что я ошибаюсь.
– Коли так, моя милая, вы пожалеете, что солгали мне. После сего она переменила тон и хотела возвратить проигранные мною деньги, приглашая даже войти наполовину в её банк. Я отверг оба эти предложения и заявил, что никогда более не появлюсь в её собраниях.
– Остерегайтесь делать вашим приятелям чрезмерные кровопускания, – сказал я ей. – Первый же скандал кончится для вас очень плохо. То ремесло, которым вы теперь занимаетесь, приносит беду.
Через несколько дней Ирэна явилась ко мне в сопровождении Питтони, увлечённого ею. Для неё это было истинным счастием, ибо в скором времени один из близких её друзей обвинил её в шулерстве, и без могущественного вмешательства директора полиции она попала бы в тюрьму.
К середине великого поста Ирэна уехала из Триеста вместе со всей труппой. Читатель встретится с нею через пять лет, в Падуе, когда я вступил в близкие отношения с её дочерью...
Заключительное примечание французского издателя
На этом кончаются Мемуары Казановы, написанные им самим. То ли он не продолжал своё повествование, то ли посчитал уместным изъять из него последнюю часть. Во всяком случае, это всё, что осталось от него.
Бонами Добре
КОНЕЦ ОДИССЕИ
Глава из книги Бонами Добре “Три фигуры восемнадцатого столетия. Сара Черчилль, Джон Весли, Джиакомо Казанова”, Лондон, 1962 г.
Так и продолжались эти бесконечные странствия... Казанова не признаётся, что уже устал, хотя друзья и говорят ему безо всякой жалости, что он выглядит поразительно старше своих лет. Но что может ждать стареющего мужчину, который непременно желает оставаться молодым? Куда ехать изгнанному почти изо всех европейских столиц? Конечно же в Венецию! Во время бесцельной перемены мест его компас неизменно указывал на любезное отечество. Продолжая карточную игру, беседы с философами, рассуждения о поэзии и всё ещё любовные дела (хотя его рассказы об этом становятся всё менее и менее убедительными), он одновременно писал и, в частности, выпустил “Опровержение венецианской истории Амело де ла Уссэ”, что должно было возвратить ему милость правительства. И, наконец, в 1773 году, после шести лет беспорядочных скитаний, когда удавалось перебиваться лишь с величайшим трудом, и былая удача возвращалась уже совсем редко, он почти достиг своей цели и обосновался в Триесте. А осенью 1774 года в награду за какую-то тайную услугу ему к великой радости было позволено вновь плавать по счастливым каналам, которые так долго преследовали его в сновидениях. А нам лучше всего как можно быстрее, не поднимая глаз, пробежать следующие восемь лет, когда утонченный авантюрист, миллионер-метеорит, фантастический любовник добывал себе хлеб как агент Инквизиции! И во всей Венеции только одна бедная торговка соглашалась любить его. Но даже эти унижения оставались тщетны. Напрасно в доносах обличал он ужасающую безнравственность города и перечислял все богохульные и непристойные книги, обращавшиеся среди жителей. Хозяева оставались недовольны и ничем не вознаграждали его, кроме жалких подачек. Правда, он был принят в домах патрициев, благодаря тому, что его беседа оставалась неподражаемо занимательной. Он пытался использовать труппу французских комедиантов; начал издавать театральный журнал “Курьер Талии”, но неудачно; шумно осуждал деизм Вольтера; принялся переводить гомеровскую “Илиаду” итальянскими восьмистишиями, однако иссяк после восемнадцати песен; написал обширный труд о смутах в Польше, но напечатал из семи томов только три. Он так и не преуспел, хотя одно время был даже секретарём у маркиза Спинолы. “Или я не гожусь для Венеции, или Венеция не создана для меня”, – жаловался он. И, наконец, последовала неизбежная катастрофа. Будучи в одном патрицианском доме, он во время ссоры оказался перед выбором – или предстать в глазах общества трусом, или злоупотребить гостеприимством хозяев. Дабы отомстить за это невыносимое положение, он выпустил пасквиль против обеих сторон. Книга была задержана, а дружеские дома закрылись для него. Ему объявили, что вряд ли он найдёт себе какое-нибудь применение в Венеции.
И вот, во второй раз, уже в пятьдесят восемь лет, с пожелтевшими зубами, в каштановом парике взамен собственных волос, потрёпанный авантюрист отправляется без гроша к седеющей неизвестности. Он возлагает все надежды на Париж, особенно, по некоторым причинам, на д'Аламбера. Однако тот недавно умер, а сама столица изменилась, и отнюдь не в лучшую сторону. Всё-таки Казанова изобразил уверенность, посещал заседания Академий, но скоро уехал в Дрезден вместе с братом Франческо, королевским живописцем, а оттуда – в Вену, где брат, благодаря князю Кауницу, вполне преуспевал. Но Джиакомо не был столь удачлив. Некоторое время он служил секретарём у венецианского посланника, однако такое существование было не по нему даже на старости лет. Он всё ещё любил развлекаться искусствами, делать новые знакомства и поддерживать старые и вообще вести рассеянную жизнь. Среди его новых друзей был Да Понте, [9]9
Лоренцо Да Понте (1749-1838). Венецианский авантюрист. Сочинил текст к моцартовским операм “Дон Жуан” и “Свадьба Фигаро”. Оставил любопытные мемуары о своих разнообразнейших похождениях в Европе и Америке.
[Закрыть]человек такого же толка, как и он сам. Да Понте рассказывает, что когда однажды они гуляли с Казановой, тот вдруг искривился лицом, заскрипел зубами и бросился через улицу на какого-то человека с криком: “Негодяй, я поймал тебя!” Это был Коста, тот самый лакей, который похитил у него шкатулку с драгоценностями мадам д'Юрфэ. Да Понте оттащил Казанову, но Коста вскоре стал распространять стишки, в коих утверждал, что научился воровать у самого Казановы, и тому лучше прикусить язык. Казанова рассмеялся и сказал: “А ведь мерзавец прав”. Он дружески расстался со своим бывшим слугой, который подарил ему перстень с камеей – последнюю драгоценность из шкатулки маркизы.
И всё же, несмотря на подозрительные знакомства и незавидное положение, Казанова оставался ещё фигурой, пользовавшейся благосклонностью великих мира сего. Ему даже привелось беседовать с императором Иосифом II чуть ли не на равной ноге. Когда монарх сказал: “Я не очень высокого мнения о тех, кто покупает титулы”, г-н де Сенгальт с наивностью спросил: “А как же те, кто продаёт их?” Но подобные мелкие триумфы не доставляют средств к жизни, равно как и учёный труд о вражде между Венецианской и Нидерландской республиками. Казанова потерял даже место секретаря, когда умер посланник. Однажды, обедая у своего аугсбургского приятеля графа Ламберга, он познакомился с молодым графом Вальдштейном и очаровал его. Вальдштейн заговорил о магии. “О ней мне известно решительно всё”, – вмешался Казанова. “Тогда приезжайте жить ко мне в Дукс. Как раз завтра я еду туда”, – ответил граф. Но Казанова не спешил похоронить себя в богемской глуши и ещё целый год продолжал бороться с немилостивой судьбой. Ездил, например, в Берлин, надеясь получить место при Академии. Но, в конце концов, он сдался и стал библиотекарем Вальдштейна за вполне достойное жалованье и на том условии, что с ним будут обходиться, как с благородной особой.
Как заметил Хэвлок Эллис, “во всём мире найдётся немного книг, доставляющих большее удовольствие, чем мемуары Казановы”. Однако ни одно другое сочинение подобного рода не вызывало столь ожесточённых споров как среди тех, кто считает их паутиной лжи, так и среди апологетов. Впрочем, неясности благодаря стараниям учёных мало-помалу разрешаются, и там, где Казанову можно проверить, он большей частью оказывается правдивым. А ведь он писал свои воспоминания между 64 и 73 годами. Конечно, хотя множество заметок и поразительная память позволили ему создать связное повествование, он часто путает даты, смешивает последовательность событий и неправильно их объясняет.
Несмотря на всю свою откровенность, он иногда слишком благоприятно для себя комментирует некоторые обстоятельства. Часто, сознаваясь в сомнительных делах, он тут же умалчивает о других неприятных фактах. Может быть, память была слишком добра к нему, чего нельзя сказать о беспощадных критиках. Там, где невозможно проверить его утверждения – ведь даже науке не всегда удаётся проникнуть сквозь занавеси алькова – его версию нужно принимать такой, как она есть, конечно, с некоторыми ограничениями. Естественно, он похваляется своими доблестями и гордо распушает хвост, но это не должно вызывать излишнего скептицизма. И если великий авантюрист приукрашивает кое-какие сцены (ведь он, в конце концов, был художником, и его труд одно время даже приписывали Стендалю), нам следует с благодарностью принимать его вымысел.
Итак, неужели приключения всё-таки пришли к концу, завершившись в тихой библиотеке мелкого принца, и отныне паутина и пыль будут обволакивать дряхлеющее тело, а ум станет добычей ржавчины?
Теперь он изгнан, забыт миром – тигр загнан в клетку. Никогда уже блестящий кавалер де Сенгальт не пронесётся метеором по европейским столицам, а игрокам у столов фараона не придётся дрожать в надежде или страхе при его появлении. И Венера навсегда потеряла самого постоянного, самого страстного своего поклонника. Невероятно! Но разве нельзя устроить жизнь сообразно своим желаниям? Впрочем, первоначально, пока сам граф жил в замке, ещё выпадали светлые дни – торжественные обеды с обильной едой и изысканными винами, на которые Казанова набрасывался с волчьим аппетитом; беседа, напоминавшая прежние времена; и балы с их одурманивающей близостью красивых женщин, от которых исходил аромат будуара. Иногда приезжали гости пить соседние теплицкие воды, например, добродушно-цинический принц де Линь, дядюшка Вальдштейна, человек большого света; или Лоренцо Да Понте, или другие; все они любят посплетничать, послушать его поразительные рассказы. Ведь, в конце концов, во всей компании никто не мог сравниться с Казановой блестящим остроумием и замечаниями убийственной мудрости. Это – мгновения иллюзорного счастья, за которые старый авантюрист был так признателен Вальдштейну. Однако уже с самого начала ему пришлось узнать, что даже сахар бывает горьким: если приезжало много гостей, графский дворецкий Фельткирхнер, ненавидевший Казанову, давал ему место лишь за боковым столом. Возможно, это было и справедливо – ведь он не принадлежал к этому обществу ни по возрасту, ни по положению, и лишь немногие знали язык, на котором он говорил. Казанова пытался говорить по-немецки – его не понимали, а когда он сердился, вокруг только смеялись. Смеялись и когда он показывал свои французские стихи или, жестикулируя, читал своего любимого Ариосто. Его поклоны при входе в залу, выученные у знаменитого парижского балетмейстера Марселя, его манера танцевать по-старинному менуэт, его бархаты, перья и застёжки, всё, вызывающее восхищение в прежние времена, теперь служило лишь поводом для насмешек, и он, не умея сдержаться, кричал: “Все свиньи, все якобинцы!”
Было хуже, когда граф уезжал, и старик оставался во власти дворецкого и подобных ему слуг. Они даже не пытались скрыть свою неприязнь. Да и Казанова, раздражённый столь противным его натуре бездействием, преувеличивал мелкие уколы до фантастических размеров. Он сделался жертвой мании преследования. Все были в заговоре против него! Повар испортил его кофе и погубил макароны; суп подавали или холодным, или обжигающе горячим; ему нарочно дали плохую лошадь, когда надо было ехать в Теплиц; всю ночь лаяла собака, а охотничий рог просто сводит с ума. И всё это – козни дворецкого. Кто научил служанку зажигать огонь его рукописями? Фельткирхнер. Кто подговорил курьера толкнуть его на улице? Фельткирхнер. А кто уж, как не Фельткирхнер, выдрал из книги его портрет и повесил в отхожем месте с непристойной надписью? Этот дворецкий настраивает против него даже самого графа. Почему Вальдштейн первый не поздоровался с ним и дал кому-то книгу без его ведома? Граф не представил его знатному иностранцу, приехавшему посмотреть шпагу, которой был заколот Валленштейн, и даже не разбранил грума, не снявшего шляпу перед библиотекарем. Разве это можно терпеть? И случалось, Казанова не выдерживал. Вооружившись рекомендательными письмами принца де Линя к какому-нибудь владетельному герцогу или берлинским евреям, он исчезал, оставив прощальное письмо, на что граф лишь смеялся и говорил: “Всё равно вернётся”. И действительно, поиски старых друзей, попытки возобновить былую жизнь или же отыскать родственников кончались неудачей. Уже через несколько недель он приезжал обратно.
Но, как он сам любил говорить, пока есть жизнь, всё хорошо. Его неиссякаемая энергия, не в силах удовлетвориться склоками с прислугой, искала другого выхода. Любовник, дуэлянт, карточный аферист теперь взялся за перо. Он покажет миру, что нисколько не хуже Вольтера! Затмит этого шарлатана Руссо. И если не ему суждено блистать в поэзии, политике, математике, то кому же другому? И вот в 1790 году он издаёт работу об удвоении куба, признанную математиками хотя и не выходящей из ряда, но вполне серьёзной; затем рассуждения о грегорианском календаре; посылает императору “Трактат о ростовщичестве”, предмете несомненно ему знакомом; разражается длинным критическим эссе о нравах, искусствах и науках. Побуждаемый отвращением к якобинцам, разорявшим столь любезную ему помпадуровскую Францию, пишет “Размышления о Французской Революции”. Демон сочинительства овладевает им. Он нашёл, что единственный способ избавиться от чёрной меланхолии, сводившей его с ума, – это марать бумагу десять-двенадцать часов в день. Он писал и писал, то набрасывая трагикомическую драму, то музыкальную комедию, то балет. Он всё время делал заметки, записывал на обрывках бумаги наблюдения и мысли, начиная от своего воображаемого диалога с Богом до рецепта винного бисквита. Оставшееся после него громадное количество рукописей энциклопедично по своему разнообразию: наброски рассказов, грамматическая лотерея, отрывки из Гомера, “Изокамерон” – совершенно нечитаемая философская фантазия, на которую ему удалось собрать 345 подписчиков, но ни один экземпляр которой не был продан. Далее: сочинение о безумствах рода человеческого, “Размышление о сне”, проект идеального языка, длиннейшая критика Бернардена де Сент-Пьера, трактат о страстях. Единственное, на что у него хватило духа – это на замышлявшийся им “Словарь сыров”, который показался ему слишком уж обширным предприятием. Рядом с этим кипы итальянских и французских стихов, часто с многочисленными поправками. А когда философия и поэзия уже не успокаивали его раздражённые нервы, оставались письма: ответы поэтам и литераторам, учёным и философам, которые ещё писали ему, а также Генриетте, брату, старой графине Вальдштейн, матери его патрона, которой он жаловался на притеснения подлого Фельткирхнера. И, наконец, письма самому Фельткирхнеру, где, незаметно для себя становясь смешным, Казанова давал волю своей ярости.
Подобные труды всецело заняли бы время и энергию любого другого человека, но для него это были лишь побочные плоды, создававшиеся в свободные минуты между главным делом – мемуарами. И они становятся чем-то большим, чем просто воспоминания. Это настоящая исповедь. Он так бы и назвал их, если бы не “этот шарлатан”, похитивший у него заглавие. Казанова уже написал небольшую часть и выпустил приватным изданием только для друзей: “История моего бегства из Свинцовой Тюрьмы”. Его часто просили рассказать об этом, но рассказ требовал не меньше двух часов, а ему уже становилось трудно говорить подолгу. Это, однако, было лишь приключение и оставляло мало места для ума и души. Но в его признаниях будет всё. Он скажет правду и не пощадит себя.
Казанова несколько раз переписывал вступление, в одном варианте даже упоминал о своём родстве со вселенским духом. Но, отбрасывая мало-помалу претенциозную философию, он сделал предисловие истинным произведением искусства. И всё-таки он переписывал его снова и снова, и последний вариант правил совсем незадолго до смерти.
Вспоминая прошлое, Казанова словно возвратил себе молодость. Он забыл болезни и оскорбления Фельткирхнера. Он непрерывно работал. Вскакивал с постели, чтобы писать и переписывать заново. Как он сообщал одному из своих всё ещё многочисленных корреспондентов, даже в сновидениях книга не оставляла его.
И когда работа была уже наполовину сделана, им вдруг овладело желание опубликовать её, хотя прежде он во всеуслышание заявлял, что ни одна строка не появится до его смерти. Некоторые части мемуаров были прочитаны друзьями и прежде всего принцем де Линем, который, восхитившись откровенностью автора, советовал непременно выпустить их в свет. Казанова не колебался более и послал один том рукописи в Дрезден графу Марколини. Однако осторожный и величественный граф, бывший к тому же министром саксонского короля, побоялся напечатать его записки. Ведь Казанова позволял себе слишком резкие выражения и упоминал о многих ещё живых персонах.
Возможно, по причине этой неудачи Казанова заболел и оказался лицом к лицу с единственной по-настоящему неприятной в жизни вещью – со смертью. Его грехи возвратились к нему в виде неизлечимой тогда болезни предстательной железы. За ним ухаживал племянник и некая чопорная дама, Элиза фон дер Реке. Одним из его последних удовольствий был визит дочери Малерба. Казанова знал, что умирает; книга была написана только до 1774 года; и он сжёг большую часть черновых записей, ибо понимал, что его мемуары – произведение искусства, наиболее полно раскрывающее человека из всего, когда-либо написанного, и не хотел оставлять ничего незавершённого. Нераскаявшийся старый язычник умер 4 июня 1798 года.
Долгое время его могила оставалась в неизвестности, да и какая у легенды может быть могила? Сохранялось лишь предание, что железный крест на ней зацепляет юбки девушек, идущих в церковь. Всё же и могила, и даже его кости были найдены. А совсем недавно их потревожили, чтобы перевезти и с почётом похоронить в той самой Венеции, которую Казанова так любил и которая при жизни столь упорно отвергала его.
B.Dobree.Three eighteen century figures. Sarah Churchill, John Wesley, Giacomo Casanova. London, 1962.








