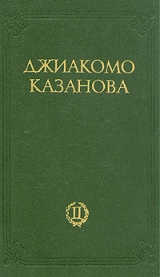
Текст книги "Любовные и другие приключения Джиакомо Казановы, кавалера де Сенгальта, венецианца, описанные им самим - Том 2"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
– Может быть, догадывается, но ведь она любит меня. Мы поедем в Варшаву, и там я женюсь на ней ещё до родов.
– Достойное намерение. Но как ты осуществишь его? Или у тебя полные карманы?
– О, если тебе нужны деньги, мой кошелёк к твоим услугам. Не подумай, что нужда заставит меня отдать и эту женщину.
Я был доволен его предложением, но не воспользовался им, а только сказал, что перестал играть, получив прибыль в четыреста луидоров, и, поскольку он тоже в выигрыше, советую последовать моему примеру. Однако же Кроче продолжал искать простаков и, не находя таковых, пустился на риск, увлёкшись зелёным сукном больших банков, и стал проигрывать всё больше и больше. Тем не менее, его расположение нисколько не соответствовало состоянию дел: он не терял аппетит и наслаждался своей прелестницей, которая, впрочем, ни о чём не подозревала.
Через три недели исчез его секретарь, это было началом всеобщего бегства. По прошествии ещё двух дней уволилась камеристка, последовавшая примеру двух лакеев. Я предвидел судьбу Кроче и его жены и уже не мог покинуть их. Буквально за несколько дней Кроче проигрался до последнего экю. Было потеряно всё: кольца, часы, столовое серебро, драгоценности. Он продал все свои пожитки и даже платья бедной женщины, желая в последний раз испытать судьбу, однако, несмотря на явное плутовство, происходившее к тому же в моём присутствии, фортуна отвернулась от него. Проиграв последнее экю, Кроче сделал мне знак, приглашая следовать за ним. Мы вышли и минут десять прогуливались в молчании. Наконец, он сказал с отчаянием в голосе:
– Одно из двух – или я прострелю себе голову, или же надо немедленно скрыться.
– Куда ты поедешь?
– В Варшаву. Я знаю, ты позаботишься о моей жене. Не утаивай от неё моих бедствий. Скажи, что я отправился искать удачи в другом месте, и если счастье улыбнётся мне, сразу же вернусь к ней.
– Я собирался в Париж.
– Она последует за тобой. Я буду писать на адрес твоего брата.
– Несчастный! Что ты будешь делать в Варшаве? Ведь ты лишился буквально всего.
– Ещё не знаю, но я лучше умру, чем возьму у тебя хоть одно экю. Мне остаются только эти четыре луидора, и, может быть, с ними я богаче, чем два месяца назад. Прощай! Оставляю тебе Шарлотту. Бедное дитя, зачем только она встретилась со мной!
Прослезившись, он расцеловал меня и удалился. Без белья и без плаща, в шёлковых чулках и с тростью, он отправился, словно на прогулку, прямо в Варшаву! Здесь был весь Санта-Кроче. Я же оставался безмолвным от удивления и печали. Как явиться с сей ужасной новостью к молодой женщине накануне родов? Как сказать, что она может быть никогда не увидит этого несчастного, составляющего для неё предмет обожания? И всё-таки я благодарил небо, устроившее так, что я познакомился с ней до катастрофы, и тем самым оставившее средства для её спасения.
По возвращении я сказал, что нам придётся обедать без Санта-Кроче, потому что он в самом разгаре партии, которая окончится не раньше полуночи. После трапезы я предложил ей руку для прогулки и по дороге спросил, подготавливая почву для тяжкого известия, что она подумала бы о своём возлюбленном, если бы он, оказавшись случайно скомпрометированным в деле чести, предпочёл гибель бегству.
– Ему нужно было бы, не колебаясь, бежать, сударь. Боже мой, да ведь вы говорите о Санта-Кроче! Пусть он немедленно уезжает! Прежде всего, жизнь! Удар жесток, но я вынесу, ведь у меня есть друг, не правда ли? – и она взяла меня под руку.
– Да, у вас есть истинный друг. Я не могу сообщить вам ничего более о Кроче, вы уже всё угадали. Он скрылся, и его последние слова были: “Оставляю на тебя Шарлотту, лучше бы она никогда не знала меня”.
Пока я говорил, у неё лились слёзы, затуманивавшие лазурь её прелестных глаз. Волнение лишило её дара речи. Наконец она сказала:
– Ах, даже в несчастии мне сопутствует удача, ведь вы не покинете меня?
– Клянусь вам, прекрасная Шарлотта, не оставлять вас до тех пор, пока вы не соединитесь с избранным вами супругом.
– А я обещаю вечную признательность и послушание любящей дочери.
Мне удалось устроить продажу оставшегося от Санта-Кроче немногого белья и его кареты, после чего мы поехали в Париж. Моя прелестная воспитанница оказывала мне полное доверие, на которое я отвечал отеческой нежностью, что премного ободряло её, поскольку репутация моя могла породить некоторые сомнения. Дабы укрепить меня в подобном расположении, она часто повторяла:
– Я никогда не любила никого, кроме Кроче, и пока он жив, не буду принадлежать никому другому.
Её чувство признательности ко мне было столь же искренне, как и любовь к Кроче, и сознание, что я действительно достоин его, вызывало во мне неведомое до сих пор удовольствие. Я с изумлением убеждался, что целомудренные радости сердца сильнее чувственных наслаждений, хоть иногда и мечтал о более существенной награде и с опьянением отдавался надежде на счастливое будущее. Однако судьба решила иначе, и оставалось уже недолго до того часа, когда мы должны были расстаться навеки.
Шарлотта приближалась к последним дням беременности, и в начале октября я поместил её на пансион к одной повивальной бабке в предместье Сен-Дени. Мне сие крайне не нравилось, но она настаивала. Когда я отвозил её на новое местожительство, наш экипаж был задержан похоронной процессией. Шарлотта задумалась и, положив свою прелестную головку ко мне на плечо, произнесла с печальной улыбкой:
– Вам это покажется ребячеством, но я не могу не видеть в этой встрече дурного для себя предзнаменования.
Я отнёс её предчувствие к обычным у женщин в таковом положении суевериям и сказал:
– Жизни угрожает опасность совсем не в конце беременности. Если в это время и умирают, то лишь из-за болезни.
– Увы! – отвечала она со слезами на глазах. – Я чувствую, что больна.
– Конечно, у вас тяжело на сердце, и вам необходимы развлечения и удовольствия. После того, как вы разрешитесь от бремени, мы отправимся в Мадрид, а ребёнок будет оставлен кормилице.
– Бедное дитя!
Она произнесла лишь эти два слова, но с такой болью в голосе, что сердце у меня невольно сжалось. Мне пришлось отнести её к повивальной бабке на руках – она была без чувств. 13 октября у неё начался жесточайший приступ горячки, которая уже не отпускала страдалицу. 17-го она произвела на свет мальчика, и я окрестил его на следующий же день. Она сама написала его имя: Жак-Шарль, сын Антуана делла Кроче и Шарлотты де Л. По непонятной для меня причине она настоятельно требовала, чтобы повивальная бабка сама отвезла дитя в Приют Найдёнышей вместе с конвертом, где лежало свидетельство о рождении. Я напрасно умолял оставить мне её сына, она ни за что не соглашалась и упорно повторяла: “Кроче вернётся за своим ребёнком и возьмёт его”.
В тот же день повивальная бабка отдала мне свидетельство о приёме в Приют, подписанное 20 октября 1767 года королевским советником Доривалем. Если кто-нибудь пожелает узнать имя матери, сии сведения будут вполне достаточны.
С сего дня горячка у Шарлотты усилилась. 24-го она впала в беспамятство, а 26-го в пять часов утра испустила дух у меня на руках. В последнюю минуту она простилась со мной и уже холодеющими пальцами пыталась поднести мою руку к своим губам. Эта безмолвная сцена скорби произошла на глазах у священника, исповедовавшего её. И даже сейчас, когда я пишу сии строки, мои глаза полны слёз, конечно же не последних, при воспоминании об этой нежной и очаровательной женщине, которая была достойна лучшей участи.
Из-за Шарлотты я манкировал всеми старыми парижскими знакомствами, которые, впрочем, и без этого было бы довольно затруднительно возобновить. Даже город и тот значительно переменился: повсюду явились новые строения, во многих кварталах дома и улицы выглядели совершенно обновлёнными. Зато старые мои приятели изменились совсем в другую сторону.
В двух местах меня ждал радушный приём: у мадам дю Рюмэн и у моего брата. Мне выпала честь быть представленным княгине Любомирской и, поскольку по дороге в Португалию я намеревался задержаться в Испании, то с благодарностью принял от неё рекомендательные письма к всесильному министру графу Аранде. От Карачиоли я получил три письма к особам лиссабонского двора.
Не знаю, какой злой рок преследовал меня во всех европейских столицах, но Париж мне пришлось покинуть так же, как Вену и Варшаву. В те времена в одном из парижских тупиков, неподалёку от тюильрийской оранжереи, давали концерты. Однажды я в одиночестве прогуливался там по залу, когда услышал своё имя, произнесённое каким-то молодым человеком невысокого роста, и по глупому любопытству решил прислушаться. Его выражения, относившиеся ко мне, были самого оскорбительного свойства. Он осмелился утверждать, что я оставил его без миллиона, который украл у маркизы д'Юрфэ. Я без промедления подошёл к беззастенчивому клеветнику и сказал: “Вы молокосос, которому в другом месте я ответил бы пинком под зад”.
Мой незнакомец встал, бледный от гнева, с явной решимостью броситься на меня, но оказавшиеся вблизи дамы удержали его. Я тут же вышел из зала и, сочтя храбрость своего обидчика соответствующей его вспыльчивости, с четверть часа прохаживался в ожидании около дверей. Однако он не появился, и я пошёл домой. На следующий день мой камердинер доложил, что некий кавалер Святого Людовика желает вручить мне королевский приказ. В этом приказе мне повелевалось покинуть Париж за двадцать четыре часа. В качестве единственной причины сей скоропостижной опалы Его Величество изволил только упомянуть, что “таково его милостивое желание”. Повеление оканчивалось словами, кои при других обстоятельствах я счёл бы весьма забавными: “За сим я молю Бога, дабы Он сохранил вас в добром здравии и приличествующем благополучии”. Меня посылали к чёрту, вручая защите самого Господа!
– Я не замедлю доставить Его Величеству это удовольствие и уеду, – спокойно ответствовал я. – Но ежели случай помешает мне покинуть столицу за двадцать четыре часа, то пусть Его Величество делает со мной всё, что угодно.
– Эти двадцать четыре часа, сударь, всего лишь формальность. Распишитесь на приказе, и тогда вы можете уезжать, когда заблагорассудится. Единственно прошу вашего честного слова не показываться ни в каких спектаклях, ни других общественных местах.
Поставив свою подпись, я проводил посланца к своему брату, которого тот хорошо знал, и кавалер рассказал о причине своего ко мне визита.
– К чему этот приказ, – со смехом возразил мой брат, – если ты и так уезжаешь через два-три дня? Но в чём причина опалы?
– Говорят, – ответствовал кавалер, – об угрозах некой персоне, которая, несмотря на свой молодой возраст, отнюдь не привыкла их выслушивать.
– Эта персона позволяла себе выражения неразумного дитяти, и я, вместо того, чтобы удовольствоваться презрением, не смог сдержать гнев.
– Может быть, вы и правы, но вполне естественно, что полиция желает предотвратить подобные сцены.
Добрейшая мадам дю Рюмзн хотела съездить в Версаль похлопотать об отмене приказа, однако в этом для меня было бы мало утешительного, поскольку я всё равно уже собрался ехать. Я покинул Париж только 20 ноября, хотя в королевском приказе значилось 6-е – французская полиция понимает, как лучше устраивать жизнь. Я уезжал из столицы без сожалений. У меня было крепкое здоровье и увесистый кошелёк – рядом с сотней луидоров наличными лежал аккредитив в 8000 ливров на один из бордосских банков, который я переписал в этом городе на Мадрид.
XLI
ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСПАНИЮ
1767-1768
В Сен-Жан-Пье-де-Пор я продал свою карету и нанял погонщика мулов, сопровождавшего меня до Памплоны. Там другой погонщик взялся доставить меня в Мадрид. Путешествие показалось мне крайне неприятным. Первую ночь пришлось провести в дурном трактире, хозяин которого, отведя меня в какой-то чулан, сказал:
– Здесь можно хорошо выспаться, если вам удастся добыть соломы, а если разживётесь дровами, то можно зажечь огонь и обогреться...
– И, может быть, – добавил я, – мне сварят что-нибудь, когда я найду провизию.
Оказалось, что даже за деньги ничего нельзя получить. Я провёл всю ночь на ногах, сражаясь с комарами. На следующий день я заплатил хозяину несколько маравиеди и ещё одну монетку за произведённый мною шум. Эти жалкие трактиры запираются на одну щеколду, и я сказал своему проводнику, что не хочу больше останавливаться в таких заведениях, которые открыты любым проходимцам и в которых невозможно защищаться против ночного нападения.
– Сеньор, ни в одном испанском трактире вы не увидите даже задвижки.
– Так угодно королю?
– Наш король не имеет к сему никакого отношения. Всё дело в святой инквизиции, которой принадлежит право в любое время входить в комнаты к путешествующим.
– А что не даёт покоя вашей инквизиции, будь она проклята?
– Решительно всё.
– Это слишком много. Приведите какой-нибудь пример.
– Вот вам сразу два. Больше всего она боится, как бы во время поста не ели жирного, и чтобы мужчины не спали вперемежку с женщинами. Всё это ради спасения душ. Днём меня ожидали новые препоны. Если на нашем пути попадался священник, шедший к умирающему со святыми дарами, мне приходилось становиться на колени, причём нередко посреди самой грязи. В то время всех ортодоксов обеих Кастилии занимал один великий вопрос: можно ли носить панталоны с гульфиком? Победила та сторона, которая была против, и тюрьмы наполнились беднягами, осмелившимися надеть сии богопротивные штаны – запрещавший их эдикт возымел обратную силу. Дошли до того, что стали наказывать даже портных. И, однако, люди в пику монахам и их проклятиям продолжали носить это одеяние, объявленное святой инквизицией образцом безнравственности, и из-за гульфика едва не случилась революция. Я видел на дверях церквей развешенные эдикты, воспрещавшие всем, за исключением особо привилегированных персон, носить такие панталоны. Конечно, сами инквизиторы включили себя в это число, и тогда никто уж не захотел пользоваться сей привилегией.
По прибытии в Мадрид я был подвергнут на таможне самому тщательному досмотру. Прежде всего удостоверились, что на мне нет этих знаменитых панталон: перебрали и прощупали моё бельё; перетрясли весь остальной скарб; открывали книги или, вернее, книгу, поскольку я взял с собой в Испанию одну “Илиаду” по-гречески. Этот язык с буквами дьявольского вида показался чинам таможни подозрительным. Набожно перекрестившись, они стали принюхиваться к моему тому и подносить его к ушам. В конце концов, он был конфискован, но через три дня возвращён обратно. Таможенник, не нашедший в моих вещах ничего подозрительного кроме “Илиады”, вздумал попросить из моей табакерки понюшку, после чего со словами: “Сеньор, этот табак провозить запрещено”, схватил табакерку, высыпал её содержимое и возвратил мне.
Я остался доволен своей квартирой на улице Крус, если не считать того, что там не было камина. Мадридские холода сильнее парижских, несмотря на разницу в широте. Впрочем, следует принять в соображение, что из всех европейских столиц Мадрид расположен выше других. Испанцы настолько чувствительны к холоду, что при малейшем северном ветре, даже в самое жаркое время, не выходят без плаща. Я не видел народа, более подверженного предрассудкам, чем они. Испанец, как и англичанин, ненавидит иностранцев, что проистекает из тех же побуждений, к коим присовокупляется ещё и непомерное тщеславие. Женщины менее заносчивы и, понимая всю несправедливость такой неприязни, мстят за иностранцев, влюбляясь в них. Таковая их склонность хорошо известна, но они предаются ей с осторожностью, потому что испанец ревнив не только по природному нраву, но и просто из обычной спеси.
Опрометчивые поступки жены, даже совершенно незначительные, представляются ему истинным оскорблением. И сей недостаток ума прикрывается к тому же покровом рассудка. Галантность в этой стране – таящаяся и тревожная, поскольку цель её составляют абсолютно запрещённые наслаждения. В некотором смысле это делает их более сильными и острыми, благодаря таинственности и риску. Сами испанцы довольно низкорослы, часто плохо сложены и не отличаются красотой лица. Женщины же, напротив, очаровательны, миловидны и полны изящества, с которым соединяется пламенность чувств. Они способны на самую опасную интригу, их рассудок целиком поглощён одной мыслью – обмануть бдительность мужа или дуэньи. Изо всех воздыхателей они, не колеблясь, предпочтут того, кто не отступит перед многочисленными опасностями, без которых немыслимо добиться полного обладания. Они охотно опережают случай и готовы на всё, дабы способствовать его возникновению.
В театре, на променадах, и особенно в церквах, они без стеснения отвечают на взгляды мужчин, и если у вас будет желание воспользоваться оказией, то даже при небольших трудах успех вполне обеспечен. Вы не встретите ни малейшего сопротивления, и будут предупреждаться даже самые смелые ваши домогательства. Но если вы проявите неловкость и упустите случай, дело проиграно, второй такой возможности уже не представится.
Я говорил, что в моей комнате не было камина. После великих трудностей и бесконечных расспросов удалось найти работника, взявшегося сделать из железа жаровню. Если Мадрид может теперь похвалиться мастером этого дела, то исключительно благодаря моим попечениям, так как именно я был вынужден сделаться учителем сего работника. Я не воспользовался советом ходить греться к Пуэрто дель Соль – месту, куда приходят закутанные в плащи горожане и подставляют себя лучам солнца. Мне просто хотелось согреться, а отнюдь не поджариваться заживо.
Кроме того, надобно было сыскать слугу, который говорил бы по-французски. Я нашёл одного из тех плутов, коих называют здесь пажами. Обычно они занимаются тем, что сопровождают знатных женщин во время прогулок по городу. Мне попался мужчина лет тридцати, заносчивый, как и полагается испанцу, и поэтому ни за какие деньги не соглашавшийся встать на запятки кареты или отнести пакет.
Я вспомнил о полученном от княгини Любомирской рекомендательном письме к графу Аранде, занимавшему тогда пост президента Кастильского Совета и бывшему в большей степени королём, чем сам законный монарх. Именно он одним росчерком пера изгнал всех иезуитов за пределы Испании. Его боялась и ненавидела вся страна, что, впрочем, нимало его не трогало. Это был весьма одарённый муж, очень предприимчивый и почитавший выше всего собственные удовольствия. Что касается внешности, то мне никогда не приходилось видеть более отталкивающего безобразия. Я застал его за туалетом.
– Зачем, – холодно спросил он, смерив меня взглядом с головы до ног, – вы приехали в Испанию?
– Для увеличения своих познаний, монсеньор.
– И у вас нет никакой другой цели?
– Никакой, кроме того, чтобы предоставить себя в распоряжение Вашего Высочества.
– Вы можете вполне обойтись без меня. Соблаговолите только исполнять предписания полиции, и никто вас не потревожит. Что касается использования ваших талантов, обратитесь лучше к венецианскому посланнику господину де Мочениго. Представляться надо было ему, потому что мы совершенно не знаем вас.
– Надеюсь, мнение посланника не будет для меня неблагоприятным, но всё же не скрою от вас, монсеньор, что я в опале у правительства своей страны.
– Если так, не рассчитывайте добиться чего-нибудь при дворе, поскольку вы можете быть представлены королю только посланником. Устраивайтесь по собственному разумению и ведите как можно более тихую жизнь. Это всё, что я могу вам посоветовать.
Следующий визит я сделал неаполитанскому послу, и он сказал мне в точности то же самое. От маркиза де Моры, к которому направил меня Карачиоли, я не услышал ничего нового, а фаворит короля герцог Лассада перещеголял их всех, заявив, что, несмотря на всё желание помочь мне, не имеет для сего ни малейшей возможности. Он посоветовал отправиться к венецианскому посланнику и просить его покровительства. При этом герцог добавил: “А не может ли он сделать вид, что ничего не знает про вас?”
Я написал Дандоло в Венецию и просил хотя бы несколько строк рекомендации послу, после чего отправился во дворец синьора Мочениго. Меня принял его секретарь Гаспардо Содерини, умный и талантливый человек, который сразу же выразил своё удивление по поводу того, что я позволил себе неуместную вольность.
– Синьор Казанова, разве вы не знаете, что вам запрещено появляться в венецианских владениях, к которым относится и посольский дворец?
– Мне это известно, сударь, но соблаговолите принять мой поступок за то, чем он является на самом деле – знаком почтения к господину послу и актом благоразумия. Согласитесь, было бы непростительной дерзостью с моей стороны оставаться в Мадриде, не явившись сюда. Однако если Его Превосходительство не считает возможным принять меня из-за моей ссоры с инквизиторами, вызванной неизвестными Его Превосходительству причинами, то это, по меньшей мере, удивительно. Ведь синьор Мочениго представляет Республику, а не инквизиторов. И поскольку я не совершил никакого преступления, мне кажется, я имею право на его покровительство.
– Почему бы вам не написать обо всём этом самому посланнику?
– Я хотел лишь узнать, примет ли он меня. Но если это невозможно, тогда придётся писать.
И я тотчас же изложил на бумаге всё, о чём говорил секретарю. На следующий день ко мне приехал граф Мануччи, молодой человек с обходительнейшими манерами. Посланник поручил ему известить меня, что я никак не могу быть принят в посольстве. Тем не менее, было сказано о желании Его Превосходительства иметь со мной конфиденциальную беседу.
Имя Мануччи показалось мне знакомым, и я сказал об этом юному графу. Он ответствовал, что прекрасно помнит, как его отец много и с большим интересом говорил про меня. Тут я сразу понял, что сей блистательный граф сын того самого Мануччи, который своими зловредными показаниями во многом способствовал моему заключению в Свинцовую Тюрьму.
Естественно, я умолчал об этом неприятном для нас обоих обстоятельстве. К тому же, матушка молодого графа была служанкой, а отец, прежде чем из доносчиков превратился в аристократа, зарабатывал на хлеб трудом простого ремесленника. Я только спросил у Мануччи, титулуют ли его в посольстве.
– Конечно, ведь у меня есть диплом, – отвечал он и тут же рассказал о своеобразных отношениях, сложившихся между ним и посланником.
– Мне уже давно известно, – сказал я, – насколько Его Превосходительство привязан к особам, обладающим вашими достоинствами.
Наконец, он откланялся, пообещав использовать для меня всё своё влияние, что само по себе было уже немало, так как подобный Алексис мог добиться от своего Коридона чего угодно. Графу пришлось возвратиться, чтобы напомнить мне:
– Не забудьте, завтра в полдень я жду вас к кофе. Синьор Мочениго тоже будет.
На следующий день я не заставил себя ждать и при встрече был обласкан послом выше всякой меры. Он выразил сожаление, что не может публично объявить себя моим покровителем, хотя и не ведает, в чем моя вина перед правительством, Я отвечал ему:
– Надеюсь в скором времени представить письмо, которое от имени правительства уполномочит вас оказать мне самый достойный приём.
– Добудьте такое письмо, и я сразу же представлю вас министрам.
Мочениго пользовался в Мадриде благосклонностью, хотя его причудливые вкусы не составляли ни для кого секрета. Мануччи повсюду сопровождал посла, или, вернее, тот сам следовал за юным графом. Сему любимчику недоставало только титула наречённой метрессы.
Оставим на минуту мои дипломатические хлопоты и поговорим о мадридских развлечениях. Придя впервые в театр, увидел я насупротив сцены большую зарешеченную ложу, которую занимали отцы-инквизиторы, имевшие власть подвергать цензуре не только представляемые пьесы, но и актёров. Мне говорили, что сие распространяется даже на зрителей. Внезапно услышал я, как стоявший при входе в партер служитель закричал: “Dios!” [5]5
Господь Бог наш! (исп.)
[Закрыть]и в ту же минуту все без различия возраста и чина пали ниц и оставались в таком положении, пока с улицы не донёсся звук колокола. Его звон возвещал, что мимо театра проследовал к умирающему священник со святыми дарами. Даже среди удовольствий испанцы не расстаются со своими обычаями набожности. Позднее я укажу ещё более разительный тому пример.
Напротив моего дома стоял красивый особняк, принадлежавший богатому и влиятельному вельможе, которого я не называю из-за того, что он, может быть, ещё жив. В одном из окон первого этажа часто показывалась маленькая белая ручка, и, как это всегда случается, моё разыгравшееся воображение рисовало прекрасную кастильянку с чёрными глазами, белоснежной кожей и гибким станом. На сей раз оно не обмануло меня – однажды жалюзи раздвинулись, и появилась чрезвычайно красивая особа, бледная и задумчивая. Я незамедлительно впал в восторженное созерцание, но меня как будто не замечали, хотя окно и оставалось всё время открытым, а сеньора не отходила от него. Я прижимал руку к сердцу, подносил пальцы к губам и старался принять вид человека, онемевшего от восхищения. Но, увы, на девственном лице невозможно было уловить ни малейшего следа чувства или интереса. Целых четверть часа я изощрялся в своих безмолвных излияниях. Внезапно лицо незнакомки оживилось, глаза сверкнули, словно зажжённые глубоким волнением, и она опустила жалюзи. Изумлённый сим непредвиденным фактом, я мог предположить, что только боязнь быть застигнутой врасплох вынудила её удалиться. Однако уже наступала ночь, как всегда в Испании, светлая и звёздная. На улице не раздавалось ни звука, и я заметил одинокую фигуру, завернувшуюся в коричневый плащ, которая торопливо отворила маленькую дверцу и тотчас же исчезла. Дверца принадлежала соседнему с особняком дому, и можно было догадаться, что визит предназначается именно моей незнакомке. Иначе чем объяснить её внезапное исчезновение как раз в ту минуту, когда под окнами появился кавалер в плаще?
Я терялся в догадках, но вдруг через четверть часа к моему величайшему удивлению жалюзи снова поднялись, и девица облокотилась о балюстраду. На сей раз она пристально посматривала в мою сторону, и я возобновил свои немые уверения в любви. Мне показалось, что на устах у неё промелькнула улыбка. Наконец, я отважился на многозначительный жест, который не остался без ответа, после чего она сделала знак, предписывающий молчание, и опустила жалюзи. В мгновение ока я был на улице под окном незнакомки, и тотчас же ко мне в шляпу упали ключ и записка. Возвратившись к себе, я прочёл написанное по-французски:
“Достаточна ли в вас благородства, храбрости и умения молчать? Можно ли довериться вам? Я надеюсь на это. Приходите в полночь. Ключом вы отопрёте маленькую дверь в стене соседнего дома. Я буду ждать там. Храните всё в глубочайшей тайне и не появляйтесь до полуночи”.
Я осыпал записку поцелуями и спрятал около сердца – хотя жалюзи и были опущены, за мной могли наблюдать. Ещё один знак прелестной руки подтвердил, что меня ждут. Голова моя кружилась от радости и любви. Для туалета оставалось не более двух часов, и я занялся им с уместной в подобных обстоятельствах тщательностью. И всё же моя радость, сколь она ни была велика, не могла рассеять всех сомнений. Действия молодой женщины не казались мне подозрительными, напротив, самолюбие моё охотно объясняло их, но я говорил себе: “Если отец или другой родственник застигнут меня в доме, я погиб”. Чувство предстоящей опасности было столь сильно, что я отказался бы от сего счастливого случая, если бы не мысль о чести.
Я дал слово, и отступать уже невозможно. Взяв карманные пистолеты и свой шестидюймовый венецианский кинжал, я с первым полуночным ударом открыл маленькую дверцу. В полной темноте я ждал появления сеньоры. Прошло немного времени, и нежный голос спросил очень тихо: “Вы здесь?”
Потом рядом зашуршало женское платье, меня взяли за руку и повели. Мы прошли по длинному коридору с большими окнами, которые выходили в сад. При виде моей незнакомки я совершенно забыл обо всех опасностях и чувствовал лишь опьянение счастьем близкого обладания. Мы поднялись по роскошно украшенной лестнице и вошли в комнату, отделанную чёрным деревом с многочисленными серебряными пластинами, на которых сверкал вензель знатного рода. Апартамент освещался двумя канделябрами. В глубине я заметил постель, завешенную со всех сторон пологом. Незнакомка, которую я буду называть Долорес, пригласила меня сесть, но я бросился к её коленям, покрывая поцелуями прелестные руки.
– Так вы любите меня? – спросила она.
– Люблю ли! Как вы можете сомневаться? Моё сердце, моя жизнь, всё, чем я обладаю, принадлежит вам.
– Я верю. А теперь поклянитесь на этом распятии сделать то, о чём я сейчас попрошу вас.
– Клянусь.
– Вы благородный человек. Идите сюда.
И она повлекла меня к постели. Мы одновременно взялись за полог, и в этот миг я был поражен ее лицом: никогда мне ещё не приходилось видеть столь сильного выражения боли и отчаяния.
– Что с вами, – спросил я, сжимая её в объятиях, – вы дрожите?
– О, совсем не от страха. А вы не боитесь? Нет? Тогда смотрите!
И она резким движением раздвинула занавеси. На постели лежал труп. Труп юноши с прелестным лицом. Беспорядочность одежд и сама поза свидетельствовали, что смерть застала его в одну из тех минут, когда её ждут менее всего.
– Что вы сделали? – вскричал я.
– Исполнила долг справедливости. Этот кавалер был моим возлюбленным, и я убила его. Пусть меня ждёт смерть, но я защитила свою честь. Послушайте же, одного слова достаточно, чтобы вы поняли – он изменил мне! Вы благородный человек и обещали хранить тайну. Не забывайте этого. К тому же, вы только что поклялись на теле Иисуса исполнить мою просьбу.
– Что вы хотите от меня, мадам?
– Уберите его отсюда. Позади дома течёт река. Оттащите туда тело, чтобы я ничего не видела, умоляю вас!
И она бросилась к моим ногам. Какая сцена! Она, в полном отчаянии, с остановившимся взором, ещё более прекрасная. Я, в своём изысканном одеянии, оледеневший от ужаса, И окровавленный труп промеж нами!
– Мадам, – тихо проговорил я, чувствуя, как ко мне возвращается необходимое в столь крайней опасности хладнокровие, – вы требуете моей жизни. Извольте, она ваша!
– О, я недостойна вас, – отвечала она печальным голосом и вдруг, разрыдавшись, упала на постель.
Каждый миг промедления мог погубить нас.
– Мадам, сейчас не время для слабости. Поспешим.
Я решительно приподнял тело, и когда моя юная спутница накрывала его плащом, вспомнил о человеке, которого всего лишь несколько часов назад видел входящим в маленькую дверь. Эта мысль заставила меня пошатнуться от ужаса. Как раз в эту минуту Долорес, понявшая опасность, которой я подвергал себя ради неё, воскликнула:








