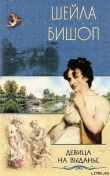Текст книги "Маленький друг"
Автор книги: Донна Тартт
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
«Нет, учитель, нет! – с восторгом взвизгивали все, включая Хилли, который по сценарию играл Иуду Искариота. Хилли был фаворитом Харриет, поэтому у него была возможность играть сразу несколько ролей: святого Иоанна, святого Луку и святого Петра. – Никогда мы не предадим тебя!»
После трапезы все шли в Гефсиманский сад, который располагался под сизо-серым платаном, что рос на краю лужайки. Здесь Харриет (Иисуса) захватывали римские воины. Конечно, смешно было даже подумать, что Харриет сдастся римлянам без боя, и схватки обычно получались очень жаркими – бывало, доходило и до разбитых носов. Для мальчишек, однако, основная прелесть игры заключалась в том, что она происходила под «тем самым деревом», на котором был когда-то повешен брат Харриет. Хоть убийство и случилось еще до их рождения, все они много раз слышали о нем, и у каждого в голове сложилась своя ужасающая картина, составленная из тайком подслушанных разговоров родителей и ужасающих подробностей, которые им нашептывали по ночам старшие братья и сестры.
Кстати, никто не мог понять, почему дерево до сих пор не срубили. Уж не говоря о тоскливых воспоминаниях, которые оно навевало, старый платан начал гнить изнутри – верхушка его высохла, и черные ветки торчали над пожухлой кроной, придавая ему сходство с человеком, в отчаянии вскинувшим руки к небесам. Осенью на несколько дней листва платана приобретала яркий, кроваво-красный цвет, но быстро опадала, а появляющиеся весной новые листья были темно-зелеными, почти черными, и блестели как отполированные. «Это дерево слишком неустойчиво и растет слишком близко к дому, – сказал Шарлот специалист-лесоруб, которого она вызвала, чтобы проконсультироваться по поводу старого платана. – Сильный ветер может повалить его прямо на вашу веранду». («Не говоря уж о несчастном мальчугане, – пробормотал он помощнику, усаживаясь в кабину своего грузовичка, – не понимаю, как бедная женщина может каждый день, просыпаясь, глядеть в окно на этого монстра?») Даже соседка Кливов, миссис Фонтейн, проявила инициативу и предложила оплатить спилку дерева. Такое предложение было на нее настолько не похоже, что все изумились – ведь у миссис Фонтейн была репутация жуткой скряги, она даже полиэтиленовые пакеты никогда не выбрасывала, – но Шарлот лишь покачала головой.
– Нет, благодарю вас, миссис Фонтейн, – ответила она таким тихим голосом, что старая леди сначала даже не расслышала ее слов.
– Да ты послушай меня, – разгорячилась старуха, – я предлагаю заплатить за то, чтобы его спилили. Ты меня понимаешь? Заплатить! В конце концов, это ведь угроза и моему дому тоже! А вдруг налетит торнадо…
– Нет, благодарю вас, миссис Фонтейн.
Она не глядела ни на соседку, ни на злосчастное дерево, где на черном суку сиротливо притулился полусгнивший домик, который Дикс когда-то соорудил для сына. Ее невидящий взгляд был устремлен через улицу на участок, заросший сорняками и ивняком, среди которого маленькие птички вили свои гнезда и выводили птенцов.
– Послушай меня, девочка, – сказала миссис Фонтейн, ободренная ее молчанием. – Ты думаешь, я не знаю, что значит потерять сына? Будь уверена, и дня не проходит, чтобы я не вспоминала моего бедного Линей… У тебя хоть дочки остались, а он был у меня единственный, и, когда мне сообщили, что его самолет подбили и что он сгорел прямо в воздухе, я чуть разума не лишилась. Но на все божья воля, надо принимать удары судьбы со стойкостью. Помнится, тогда почтальон пришел к нам с утра, хотя всегда являлся после обеда, и я сказала моему Портеру (он еще здоров был, мой Портер): «Поди открой, как сегодня рано газету принесли…».
Ее голос сорвался, и она взглянула на Шарлот. Но Шарлот уже не было рядом, она медленно брела назад к своему дому, все так же глядя в пространство широко раскрытыми, пустыми глазами.
Это было много лет назад, и дерево стояло так же, как и раньше, и все так же гнил на ветке старый домик Робина. Зато сейчас миссис Фонтейн уже не была так доброжелательно настроена по отношению к Шарлот.
– Знаете ли, что я вам скажу, – заявила она как-то раз дамам, собравшимся у миссис Нилли на стрижку и укладку, – она не обращает на своих бедных дочек ни малейшего внимания. Вся в себе, ходит как сомнамбула в ночной рубашке целыми днями. Куда это годится, я вас спрашиваю? А дом? Весь зарос грязью, каким-то жутким барахлом. В окно поглядеть – там газеты до потолка сложены в каждой комнате.
– Да, дела, – протянула сухонькая, остроносая миссис Нилли, – интересно, а не закладывает ли она, что называется, за воротник?
– Я ничуть не удивлюсь, если так оно и есть! – отрезала миссис Фонтейн.
Поскольку миссис Фонтейн постоянно кричала на друзей Харриет и бранила их, когда та приводила их к себе играть, они с удовольствием рассказывали о ней страшилки. В их историях старая соседка Кливов похищала и жарила на вертеле маленьких детей, а косточки их потом перемалывала в муку и удобряла ею свои грядки – недаром у нее так хорошо росли розы! Потасовка в Гёфсиманском саду была тем более интересна, что она проходила прямо под носом у старухи-людоедки. Но само дерево пугало мальчишек даже больше, чем людоедское соседство, – было в нем что-то мрачное, угрожающее, трагическое, от чего хотелось бежать без оглядки, но к чему их, наоборот, непреодолимо тянуло. В этом старом дереве была скрыта непостижимая тайна, сравнимая с черным бездонным дуплом, ведущим в преисподнюю.
Над Алисон в школе немилосердно потешались, постоянно напоминая ей о несчастье с Робином («Мамочка, мамочка, можно мне поиграть с братиком?» – «Ни в коем случае, ты сегодня его уже три раза выкапывала!») Она застенчиво молчала и отворачивалась, никак не реагируя на издевательские вопросы, частушки и дразнилки, пока однажды их не услышала учительница и не положила этому конец.
Харриет же избежала насмешек в школе, отчасти из-за своей резкой и задиристой натуры (мало кто ушел бы без синяков, вздумай он дразнить ее), но отчасти и потому, что все ее друзья были слишком малы, когда случилась та давняя трагедия. В их глазах погибший брат придавал Харриет ореол мрачного очарования, против которого они были не в силах устоять. Харриет часто рассказывала им о Робине, причем с таким видом, будто он до сих пор был жив. Снова и снова мальчики ловили себя на мысли, что, может быть, она и есть Робин, восставший из могилы невинно убиенный ребенок, переселившийся в ее тело, видящий то, что от них было скрыто. По крайней мере, в ее жилах текла та же кровь, что и в его, и хотя внешне они были совершенно непохожи, через нее мальчишки могли получить представление о том, каким Робин был при жизни.
Дети, конечно, не замечали горькой иронии, по которой древняя трагедия предательства и смерти, которую они с таким восторгом разыгрывали под старым платаном, отчасти напоминала трагедию реальную, случившуюся двенадцать лет назад. Хилли важничал: ему, как лучшему «актеру», выпала честь представлять Иуду, выдавшего Иисуса римлянам, и одновременно играть апостола Петра, отсекшего ухо римскому солдату. Немного нервничая, но чрезвычайно довольный обеими ролями, он отсчитал тридцать орехов арахиса, за которые ему предстояло предать своего Учителя, а потом, под свист и смешки сотоварищей, сделал еще один глоток виноградной фанты и повернулся к Харриет. Для совершения обряда предательства Хилли должен был поцеловать ее в щеку. Однажды, уступив подначкам друзей, он набрался смелости и поцеловал Харриет прямо в губы. Холодная ярость, с которой подруга стерла с губ следы его поцелуя – тыльной стороной ладони, а потом и рукавом, – восхитила его даже больше, чем сам процесс.
Завернутые в простыни, как в саваны, маленькие фигурки Харриет и ее апостолов выглядели диковато на залитой солнцем лужайке. Бывало, что, когда Ида Рью отрывалась от мытья посуды и бросала взгляд в окно, она видела эту нелепую процессию, бредущую то по направлению к платану, то к заднему двору. Она не могла рассмотреть подробностей, поэтому не понимала смысла разыгрываемых сцен, однако каждый раз при виде закутанных по глаза белых фигур ее охватывало дурное предзнаменование. Возможно, то же самое почувствовала и прачка в древней Палестине, когда, оторвав взгляд от колодца, у которого она полоскала белье, она заметила тринадцать одинаковых фигур с закрытыми капюшонами лицами, тихо бредущих мимо нее по пыльной дороге в сторону оливковой рощи на вершине холма. Кто были эти люди, куда они направлялись? Их миссия явно была важной, об этом свидетельствовала и твердость поступи, и решительность жестов, но тут воображение ей отказывало. Может быть, они шли на похороны? Или спешили к ложу умирающего? Может быть, совершали религиозный обряд? В процессии было что-то непонятное и слегка пугающее, отчего прачка на мгновение застыла, подняв руку к глазам, но потом опять вернулась к своей стирке, не подозревая, что стала свидетельницей события, которому суждено было перевернуть мировую историю.
– И что это вы всегда топчетесь около этого старого дерева? Места на дворе мало, что ли? – спросила Ида Рью, когда Харриет вернулась в дом.
– Мы играем там, потому что под платаном темно, а во дворе слишком светло, вот почему! – сурово ответила на это Харриет.
С раннего детства Харриет обожала археологию. Ее одновременно страшили и привлекали сооруженные ацтеками курганы; разрушенные, заросшие джунглями города, погребенные под вековыми слоями земли обломки древних цивилизаций. Все началось с маниакального интереса к динозаврам, который Харриет проявила года в четыре, но постепенно он перерос в нечто большее. Кстати, сами динозавры не особенно интересовали «малышку», особенно те их карикатурные версии с длинными, загнутыми кверху ресницами и голубыми глазами, что показывали по субботам в популярных мультиках. Эти глупые ручные динозавры, которые якобы катали на своих спинах детишек и ели мороженое из их рук, не привлекали Харриет совершенно. Собственно, ее воображение будоражил только тот факт, что динозавров больше не существует.
– Но как же ученые узнали, – допрашивала она Эдди, которую к тому времени тошнило от одного слова «динозавр», – скажи мне, как они могли узнать, что динозавры выглядели именно так?
– Они нашли кости, сколько можно повторять…
– Но если бы я нашла твои кости, Эдди, разве я бы узнала, как именно ты выглядишь?
Эдди была занята – она очищала персики от бархатистой розовой кожуры, – поэтому ничего на это не ответила.
– Эдди, пожалуйста, ну посмотри сюда. Вот здесь написано, что они нашли только кость ноги. – Харриет влезла на табуретку и с надеждой протянула бабушке через стол раскрытую книгу. – А на рисунке нарисован весь динозавр. Целый!
– Ты что, не знаешь эту песенку, детка? – вступила из угла кухни Либби – она вынимала из персиков косточки. Старушка подняла вверх очищенный персик и запела дрожащим голосом: – От коленки, от коленки кость идет к бедру… От бедра, от бедра кость идет…
– Подожди ты, Либби, я хочу спросить: откуда они знают, как выглядит динозавр? Почему они нарисовали его зеленым? Может быть, он был черный или серый. Ну погляди же, Эдди. Смотри же!
– Я смотрю, – пробормотала Эдди, не поднимая глаз от персика.
– Нет, ты не смотришь.
– Я уже посмотрела в этой книге все, что хотела. Сядь на стул и успокойся, в конце концов! Прости меня господи, этот ребенок выведет из себя кого угодно.
Когда Харриет было девять или десять лет, она страстно полюбила археологию. В этом новом увлечении она, неожиданно для себя, нашла себе компанию в лице тетушки Тэт. Правда, интерес Тэт был несколько ограничен, поскольку из всех загадок древности Тэт обожала только Атлантиду. Тетушка более тридцати лет проработала в местной школе, преподавая латынь, а когда ушла на пенсию, всецело посвятила себя изучению предмета своей страсти. По ее мнению, многие из загадок древних цивилизаций были так или иначе связаны с Атлантидой. Тэт объясняла, что и египетские пирамиды, и каменные изваяния на острове Пасхи построили именно жители Атлантиды, даже электрические батареи, которые недавно нашли в пирамидах, были подброшены туда ими же. Книжные полки Тэт ломились от псевдонаучных трудов на эту тему, начиная с книг, изданных в конце девятнадцатого века, которые собирал при жизни еще ее отец, и кончая дешевыми современными брошюрами. Вообще-то, ее отец, старый судья Клив, когда-то был уважаемым человеком, однако к восьмидесяти годам тронулся рассудком и последние годы жизни провел в запертой на ключ спальне, придумывая разнообразные способы побега. Свою скрупулезно собранную, достаточно богатую библиотеку он завещал дочери Теодоре, уменьшительно Тэт.
Сестры Тэт не одобряли ее увлечения – Аделаида и Либби считали, что изучение реально никогда не существовавшей страны противоречит христианскому верованию, а Эдди говорила, что все эти россказни про Атлантиду – просто полный бред.
– Но, Тэт, ведь не было такой страны, Атланты, – нерешительно произнесла Либби, нахмурив лобик и глядя на сестру ясными глазами (сестры сидели на кухне у Либби и лущили горох). – Если она существовала, почему же о ней нет упоминания в Библии?
– Потому что Атланту к тому времени еще не построили, – с жестким блеском в глазах сострила Эдди. – Атланта – столица Джорджии, Либби. Помнишь? Шерман сжег ее дотла во время Гражданской войны.
– Ох, Эдит, не надо быть такой злюкой!
– Атланты были предками древних египтян, – сказала Тэт.
– Ну вот, видишь, а древние египтяне были безбожниками, – торжествующе закончила Аделаида. – Помнится, они еще поклонялись кошкам, собакам и другой домашней твари…
– Господи, Аделаида, какая же ты глупышка! Как они могли быть христианами – Христос-то еще не родился!
– Ну и что. Зато Моисей уже родился, и водил своих евреев по пустыне, и соблюдал десять заповедей. И уж кошкам не кланялся, это точно.
Сестры рассмеялись, их руки заходили еще быстрее.
– Атланты, – сказала Тэт высокомерным тоном, – знали так много разных вещей, что современным ученым остается только ахать. Папа мне об этом рассказывал. Папа знал все про Атлантиду, а он был хорошим христианином, и образования у него было больше, чем у всех нас вместе взятых.
– Папа, – пробормотала Эдди, – каждую ночь будил меня часа в три и кричал, что кайзер Вильгельм наступает и чтобы я опустила фамильное серебро обратно в колодец.
– Эдит, перестань сейчас же!
– Эдит, ты сама знаешь, что это неправда. Папа так говорил, когда был уже серьезно болен.
– Я и не говорю, что папа был плохим человеком, Тэтти. Просто почему-то заботилась о нем в основном я.
– Папа всегда узнавал меня, – мечтательно сказала Аделаида. Она была самой младшей сестрой и всегда считалась отцовской любимицей. – До самого конца узнавал. А в день, когда он умер, он вдруг поднялся на постели, посмотрел на меня грустно-грустно и сказал: «Адди, золотко мое, что же они со мной сделали?» Не могу понять, почему он только меня всегда узнавал? Так странно…
Харриет обожала читать тетины книги; кроме многочисленных томов, посвященных Атлантиде, у Тэт были и серьезные научные труды – Гиббон, к примеру, и «Всемирная история» Ридпата. Ее полки также пестрили дешевыми изданиями исторических любовных романов в бумажных обложках с изображениями гладиаторов, обнимающих полуголых девиц.
«Это, конечно, не настоящие исторические романы, – объясняла ей тетушка Тэтти. – Просто легкие такие романчики, которые приятно читать на ночь, к тому же действие в них происходит на фоне исторических событий. Я их даже давала своим ученикам, чтобы расшевелить у них интерес к Древнему Риму. – Она провела тонким пальцем с разросшимся от артрита суставом по выстроенным на полке разноцветным корешкам. – Вот смотри, X. Монтгомери Сторм, у меня полно его книг. Кажется, он писал также романы об эпохе Возрождения, только под другим псевдонимом, а впрочем, я уже не помню».
Харриет не интересовали романы о гладиаторах. Она презирала любовные истории так же сильно, как и все, что было связано с романтическими отношениями вообще. Ее любимой книгой в библиотеке Тэт был огромный, тяжелый том под названием «Помпеи и Геркуланум – забытые города», богато иллюстрированный цветными вклейками.
Тэт с удовольствием рассматривала картинки вместе с Харриет. Вдвоем они усаживались на синий плюшевый диван Тэт и переворачивали страницу за страницей, обсуждая увиденное и строя собственные предположения и догадки относительно того, кто жил в том или ином доме и успели ли хозяева спастись от гибели. Изящные фрески на стенах разрушенных вилл, пощаженный временем прилавок уличного булочника («Ты только погляди, тетя, даже булки сохранились!»), безликие гипсовые слепки погибших римлян, скорчившихся в последних судорогах в безвоздушном пространстве пепла, заполнившего город более двух тысяч лет тому назад, будили воображение Харриет и могли занимать ее часами.
– Не понимаю, почему люди не ушли из города раньше, чем началось извержение? – рассуждала Тэт. – Полагаю, в те годы они еще не понимали, какую опасность представляет вулкан.
Думаю, там все обстояло примерно так же, как во время урагана «Камилла», который когда-то пронесся над побережьем Залива. Когда же это было? Впрочем, неважно. Харриет, ты можешь себе представить такой идиотизм? Многие местные жители отказались эвакуироваться и остались в городе, чтобы полюбоваться на ураган! Они устроились на террасе отеля «Буэна-Виста», включили музыку и заказали себе текилу, ожидая, что сейчас им будет очень весело. Так вот что я тебе скажу: когда вода спала, спасатели потом несколько недель стаскивали их тела с верхушек деревьев. От отеля не осталось ни кирпичика. Ты, конечно, не помнишь, дорогая, но когда-то это был шикарный отель. Они даже на стаканах ставили свой фирменный знак – маленькую коралловую рыбку, красненькую такую. – Тэт перевернула тяжелую страницу. – О, смотри, какой бедный маленький песик. И лапки сложил. Гляди, у него изо рта торчит кусочек печенья. Знаешь, я где-то читала историю про этого пса: будто его хозяином был маленький бродяжка и песик побежал раздобыть ему еды, потому что они собирались вместе бежать из Помпей. Как это трогательно, верно? Может, это и неправда, но почему нет? Такое вполне могло случиться, как ты думаешь?
– Может, этот песик сам хотел съесть печенье.
– А почему же он тогда его не съел? Нет, ему явно было не до еды, особенно когда с неба повалились огненные шары и раскаленные камни.
Тэт наслаждалась тихими вечерами, проведенными бок о бок с племянницей за перелистыванием страниц, но никак не могла понять, почему Харриет больше интересовали такие неромантичные, тривиальные подробности, как осколки разбитых черепков, куски ржавого металла неопределенного назначения и обрывки истлевшего холста. Ей было невдомек, что для Харриет исторические реконструкции означали нечто большее, чем простое перелистывание страниц, – девочка с такой же мучительной жадностью по крупицам восстанавливала историю собственной семьи или того, что от нее осталось.
Кливы, как и большинство старинных семей, проживавших в штате Миссисипи чуть ли не со дня освоения Новой Англии, когда-то были гораздо богаче, знатнее и влиятельнее. Как и о сгинувшем с лица земли городе Помпеи, о былом богатстве Кливов сейчас можно было только догадываться, хотя оно и служило любимой темой семейных разговоров. Кое-какие подробности, которые тетушки так обожали муссировать за вечерним чаем, несли в себе зерна истины – к примеру, во время Гражданской войны янки действительно похитили семейные реликвии и драгоценности, подчистую смели все, что хозяева не успели вовремя закопать на заднем дворе. Однако то были вовсе не огромные сундуки, доверху набитые золотыми монетами, на которые намекали сестры, многозначительно посматривая друг на друга и поднимая тонкие брови. Судья Клив тоже и вправду пострадал во время Великой депрессии, однако основной, непоправимый вред он нанес своему состоянию сам, когда, будучи уже в маразме, вложил почти все свои деньги в разработку «автомобиля будущего», оснащенного крыльями, чтобы летать, и специальными полозьями, чтобы передвигаться по воде.
После его смерти большой дом, в котором сестры родились и выросли, а до них родились и умерли и судья, и его родители, и еще три поколения предков, пришлось продать, чтобы уплатить долги. Сестры до сих пор оплакивали этот дом. Их семейное гнездо, построенное еще в 1809 году, пошло с молотка, более того, новый владелец, купивший дом на аукционе, тут же вновь перепродал его еще кому-то, кто переоборудовал старый особняк в приют для престарелых. Потом владелец приюта то ли обанкротился, то ли лишился лицензии – так или иначе, дом отошел государству и превратился в убежище для бедных негров, а через три года после смерти Робина вообще сгорел дотла.
– Эх, даже Гражданскую войну пережил наш дом, – с горечью говорила Эдди, – и все-таки черномазые с ним в конце концов расправились.
Вообще-то «расправился» с домом судья Клив собственной персоной, а вовсе не «черномазые», – это он не ремонтировал усадьбу в течение семидесяти лет, как не притрагивалась к дому и его благородная матушка. Ко времени смерти судьи деревянные полы уже давно прогнили, перекрытия были изъедены термитами, да и вся конструкция шаталась так, что готова была вот-вот обвалиться. Однако в тетушкиных рассказах все обстояло иначе – они в красках описывали мраморные камины, люстры из богемского стекла и чудесные, вручную разрисованные розово-голубые обои, которые когда-то им доставили прямо из Франции. На второй этаж вели две лестницы – для девочек и для мальчиков отдельно, а весь второй этаж был разделен глухой стеной, чтобы ретивые мальчики не лазали к девочкам по ночам после особенно веселого бала. Конечно, при этом тетушки «забывали» упомянуть, что последний бал их семья давала, по крайней мере, пятьдесят лет тому назад, что лестница для мальчиков давно уже сгнила и обрушилась, что некогда великолепная гостиная почти полностью выгорела, когда судья пытался отбиться парафиновой свечой от напавшей на него посреди ночи армии воинственных пруссаков, и что знаменитые обои свисали со стен длинными, покрытыми плесенью полосами.
Усадьба именовалась «Домом Семи Невзгод» – довольно странное название для особняка, однако прадед судьи Клива клялся, что именно столько треволнений и неприятностей досталось ему при строительстве дома как в материальном, так и физическом смысле. Сейчас от старой усадьбы не осталось ничего, кроме двух черных печных труб да заросшей травой подъездной дороги. Уцелели также ступеньки парадного крыльца – на них до сих пор виднелось слово «КЛИВ», выложенное белыми и синими изразцовыми плитками.
Для Харриет эти плитки представляли гораздо больший интерес, чем какая-то мертвая собачка с печеньем во рту. Они олицетворяли еще одну ушедшую в небытие цивилизацию – некогда существовавшее богатство собственной семьи, погребенное под пепелищем со знаковым названием «Семь Невзгод».
Харриет представляла себе, как ее брат бродил по не существующим ныне залам семейного гнезда. Дом пошел на продажу, когда ей еще не было года, но в свое время Робин часто гостил у тетушек. Он проводил там почти все выходные, съезжал по перилам парадной лестницы (по свидетельству тети Либби, однажды даже чуть не въехал в зеркальную горку, стоявшую в холле); играл в домино на персидском ковре под распростертым крылом мраморного серафима; засыпал рядом с чучелом медведя, которого когда-то застрелил его двоюродный дедушка; и даже видел стрелу, с потускневшими синими перьями сойки, которую индеец из племени команчи выпустил в его прапрапрадеда.
Но кроме изразцовых плиток, от «Дома Семи Невзгод» не осталось практически ничего. Большая часть наиболее ценных вещей – ковров, мебели, люстр, торшеров – была продана оптом скупщику антиквариата, который дал тетушкам едва ли половину ее настоящей стоимости. Изъеденное молью чучело медведя обрушилось, едва к нему прикоснулись, и пришлось выкинуть его на помойку, где его тут же обнаружили какие-то негритянские дети и с восторгом поволокли по грязи к себе домой.
И Харриет оказалась перед сложной проблемой: как ей воссоздать стертые с лица земли «Помпеи» собственной семьи? Где найти обломки, осколки, ископаемые остатки ушедшего великолепия? Харриет была на пепелище всего один раз несколько лет назад. Тогда обгоревший фундамент показался ей огромным, пригодным скорее для города, чем для одного дома. Она помнила, как Эдди, раскрасневшаяся, похожая на мальчика в своих узких брючках цвета хаки, прыгала по кирпичному основанию, возбужденно жестикулируя: «Смотри, Харриет, смотри, вот там у нас была гостиная, а здесь столовая, тут холл, а здесь библиотека. Правда, Либби? Что с тобой, Либби? Ну не надо, ну успокойся, не плачь!» Помнила горькие рыдания Либби и как она в своем хорошеньком красном пальто села прямо на грязные ступеньки несуществующего больше крыльца.
После этого визита Харриет занялась реконструкцией дома со свойственной ей основательностью. Она начала со сбора уцелевших реликвий. Их оказалось достаточно много: фамильное серебро и сервизы, полотенца с вышитыми монограммами и салфетки, китайские вазы, фарфоровые часы и старинные стулья – она находила их как в собственном доме, так и в домах тетушек. Воссоздаваемый ею макет «динозавра», которого она собирала по кусочкам – здесь кость ноги, там позвонок, тут подобие черепа, – так же далеко отстоял от оригинала, как и картинки в книгах о древнем мире, что вызывали у нее такое негодование. Все без исключения старинные вещи, обнаруженные в процессе поисков, казались Харриет намного красивее, богаче и изящнее, чем окружающие ее современные предметы быта. Однако главную прелесть для нее составляли истории, которые тетушки наперебой рассказывали племяннице, – эти великолепные, пышные свидетельства роскоши ушедших времен подвергались дальнейшей обработке в голове Харриет и в окончательном варианте представляли собой отточенные до последнего слова легенды о некоем сказочном, почти мистическом дворце невероятной красоты и богатства. Харриет в полной мере обладала свойством Кливов изменять историю по своему усмотрению – с легкостью забывать то, о чем не хотелось вспоминать, и широкими, яркими мазками разрисовывать то, что невозможно было забыть. В пылу стремления собрать воедино скелет исчезнувшего монстра, который когда-то был символом семейного благополучия, Харриет не замечала, что некоторые из найденных ею костей оказались поддельными, другие принадлежали иным существам, а наиболее крупные, на которых, собственно, держалась вся конструкция, вообще оказались не костями, а грубо слепленными гипсовыми имитациями. (Например, люстра из богемского стекла, по поводу утраты которой так скорбела Либби, не была привезена из Франции, да и вообще не была сделана из хрусталя – мать судьи Клива когда-то заказала ее в местной лавке.)
Она также не замечала, что в процессе поисков постоянно натыкалась на уродливые, старые, пыльные предметы или обломки предметов, которые, если бы она взяла на себя труд проанализировать их, в действительности были истинным ключом к воссозданию подлинного облика сгоревшего дома. Но Харриет они были ни к чему – ее целью не была историческая правда, она стремилась построить себе сказочный замок и вполне преуспела в этом.
Харриет проводила целые дни, рассматривая старый альбом с фотографиями, который она нашла в доме Эдди (этому маленькому бунгало на две спальни, построенному в 1940-х, было очень далеко до «Дома Семи Невзгод»). На старинных фотографиях было запечатлено Есе семейство Кливов: худенькая, бесцветная Либби даже в восемнадцать лет выглядела старой девой, в ее лице проступали черты Алисон. Рядом с ней мрачно хмурилась девятилетняя Эдди – точная копия отца, возвышающегося за ее плечом. Необычная Тэт с лунообразной физиономией полулежала в плетеном кресле, держа на коленях котенка, а малышка Аделаида, которой впоследствии суждено было пережить трех супругов, лукаво прищурившись, усмехалась в камеру. Аделаида была самой хорошенькой из четырех сестер, но даже в двухлетнем возрасте уголки ее смеющегося рта словно таили в себе капризность и раздражительность. Снимок был сделан прямо на ступенях «Дома Семи Невзгод», и под ногами позирующих Харриет с замирающим сердцем каждый раз различала заветное слово «КЛИВ». Оно одно осталось неизменным с тех далеких пор.
Но больше всего Харриет любила фотографии, на которых был изображен ее брат. После смерти Робина их все забрала к себе Эдди – матери Харриет было слишком больно смотреть на фотографии сына. Эдди спрятала их в коробку из-под шоколадных конфет и засунула ее в чулан на самую верхнюю полку. Она, конечно, не предполагала, что внучка найдет коробку, но Харриет обшаривала чулан со свойственной ей основательностью, и, когда она впервые обнаружила фотографии, ее волнение было сравнимо только с эмоциями археологов, наткнувшихся на гробницу Тутанхамона.
Конечно, Эдди и не подозревала, что Харриет нашла фотографии, – откуда бедной старушке было знать, что именно поэтому внучка проводит в ее доме столько времени. Вооружившись карманным фонариком, Харриет усаживалась в чулане, занавесившись старыми платьями Эдди, и часами перебирала снимки. Иногда она перекладывала фотографии в свой розовый кукольный чемоданчик с изображением Барби и относила в сарай, где Эдди позволяла ей играть. А один раз Харриет даже принесла фотографии домой, чтобы показать Алисон.
– Смотри, – сказала она, – вот наш брат.
На лице Алисон отразился такой неподдельный ужас, что Харриет слегка опешила.
– Да ты взгляни, не бойся, – пробормотала она, – ты там тоже есть на некоторых фотках.
– Не хочу! – выдохнула Алисон, отталкивая ее руку и забираясь под одеяло по самые брови.
Все снимки были цветными, вот только краски со временем поблекли, стали какими-то неестественными. Многие фотографии были захватаны грязными пальцами, порваны по краям и обтрепаны, как будто их не раз доставали из альбома и вставляли назад, у некоторых на обороте черным фломастером были написаны номера (видимо, эти фотографии использовались в полицейском расследовании).
Харриет могла рассматривать их часами. Их слегка размытые контуры и выцветшие краски переносили ее в магический, безвозвратно ушедший, замкнутый в себе мир, откуда не возвращаются. Вот маленький Робин спит, обеими руками прижимая к себе рыжего котенка; а вот он скачет на палке на крыльце «Дома Семи Невзгод», машет рукой, смеется; вот пускает мыльные пузыри и косит в объектив хитрым глазом. На этом снимке он важно серьезен, видимо в первый раз надел форму бойскаутов, а тут он еще совсем малыш, одет для детсадовского представления «Имбирного пряника».[1]1
«Имбирный пряник» – американская версия сказки о колобке. (Здесь и далее прим. перев.)
[Закрыть] В том спектакле он играл жадную ворону, и его костюм произвел настоящий фурор. Этот легендарный костюм сшила Либби из черного трикотажа, она сама придумала выкройку, украсила его сзади от лопаток до бедер черными бархатными ленточками и пришила два больших бархатных крыла, которые завязками прикреплялись к сгибам рук. На голове у Робина была маленькая бархатная шапочка, с которой свисал оранжевый картонный клюв. Это был прекрасный костюм – Робин надевал его на Хэллоуин два года подряд, а потом его носили и Алисон, и сама Харриет. Даже сейчас каждый год кто-нибудь из соседских мамочек приходил попросить костюмчик для своего маленького чада.