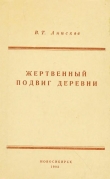Текст книги "Вишнёвое дерево при свете луны"
Автор книги: Додо Вадачкориа
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Звёзды в подарок, или Пятёрка имени Пушкина
Лето ушло, но тёплые, безветренные, солнечные дни продолжались. И ласточки не спешили улетать. Перечёркивая чистое небо, они проносились стремглав, будто и не собирались в дальнюю дорогу, а только что прилетели и радуются родине.
Тополя и чинары стояли зелёные, но под лучами солнца они постепенно стали менять окраску. Верхушки деревьев прощально зеленели листвой, а нижние ветви уже янтарно желтели и наливались красным. Казалось, ещё немного, и деревья вспыхнут ярким пламенем.
Склоны Мтацминды запестрели, как палитра художника, вишнёвым, оранжевым и зелёно-золотистым. В солнечную погоду листва больше и больше начинала сверкать червонным золотом. Деревья становились похожи на сохранивших красоту пожилых людей.
Но однажды приплыла необъятно огромная чёрная туча и закрыла солнце. Откуда ни возьмись, налетел ураганный ветер, свистящий, злой, сильный, и пыль поднялась столбом. Он срывал с тополей листву и завивал в воздухе карусель, потом опять дул беспощадно и раскидывал их в разные стороны. Жёлтые листья чинары валялись на земле, как отрубленные лапы льва. А ветер всё дул и дул, продолжая расстилать на земле пёстрый ковёр из листьев. Он обворовал и оголил все деревья и кусты, потом так же внезапно исчез, как и явился.
На некоторое время всё замерло. Потом с неба пошёл проливной дождь. Он лил целых три дня, смывая и унося в грязных потоках воды лиственный ковёр.
Стало холодно, все ходили озябшие, подняв воротники.
Неприятно было смотреть на опустевшие улицы.
Я плечом толкнула коричневого цвета дверь школы: лень было вытаскивать руки из тёплых карманов. Портфель держала под мышкой. В школе меня захлестнул шум голосов, затем дядя Арчи́л дал звонок, и я, смешавшись с учениками, быстро взбежала по лестнице на второй этаж. Перед учительской стоял мальчик и искоса наблюдал за мной. Я быстро прошла мимо, за мной следили его грустные и странные глаза, как будто бы он улыбался и одновременно хмурился. На нём был надет полосатый свитер, из-под свитера выглядывал воротник белой сорочки. Точно так одевался и мой брат, отметила я.
В классе кто-то громко пел.
– Учитель! – раздался крик, и вмиг воцарилась тишина.
– Знаешь урок? – спросила Тина.
Я молча кивнула головой.
На кафедру поднялся Иван Фёдорович и посмотрел на нас поверх очков. Иван Фёдорович преподавал русский язык, он был низкий и полный мужчина. Ноги у него были короткие, а спина длинная, он всегда улыбался и мурлыкал себе что-то под нос, руки по привычке держал на животе и притом крутил большими пальцами. Напевал чаще всего из оперы «Евгений Онегин».
Мурлыча, он раскрыл маленькую книжку.
– Посмотрим, кто из вас больше всех любит Пушкина! Посмотрим, посмотрим! – сказал и сошёл с кафедры. Прошёлся между партами, потом спиной прислонился к доске.
– Ты так улыбаешься, что любишь, наверное, – сказал и подошёл ко мне короткими шажками. – Ты до конца прочитала «Евгения Онегина»? – тут он вдруг нахмурился. Наверное, подумал, что я прочитала «Онегина» не до конца, но, увидев, что я спокойна, обрадовался и сказал: – Я так и знал… Ну, рассказывай. Но прошу, если наизусть не помнишь, пожалуйста, не мекай и не бекай, а лучше прочти по книжке. – Он протянул мне томик Пушкина.
– Благодарю, у меня своя, – сказала я тихо.
Учитель взял у меня книгу и поднял брови.
– О, какое старинное издание! Береги её, – с этими словами он вернул мне книжку и сказал: – Начнём, пожалуй!
– «…И жить торопится, и чувствовать спешит», – прочитала я эпиграф к первой главе.
Иван Фёдорович повернулся всем телом, раскинул руки, подошёл ко мне и посмотрел как-то косо, поверх очков. Таких радостно-нахмуренных глаз у него я ещё никогда не видела.
– Чьи это слова? – спросил он торжественно.
– Вяземского, – ответила я тихо.
– Иди к доске и повтори громко для всего класса.
У старика осветилось лицо. Погладив меня по плечу, он дал мне дорогу и сам занял моё место.
– Слушаем! Все! – снова торжественно произнёс он.
В классе воцарилась гробовая тишина. Свой голос я слышала откуда-то издали. Я читала наизусть своим товарищам, которые смотрели на меня во все глаза. Учитель слушал меня, и я видела, как он счастлив, в одном месте он исправил мне ударение и извинился.

Я читала, и меня пробирала дрожь; наверное, я побледнела от волнения, потому что несколько раз Иван Фёдорович напоминал мне: спокойнее, спокойнее!
…Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман…
В это время в класс вошёл директор. Мои товарищи встали.
Поднялся из-за парты и учитель, быстрыми шагами направился к директору.
– Что случилось? – спросил Иван Фёдорович, и по его тону видно было, что ему неприятно, что прервали не просто урок, а Пушкина. Великого Пушкина!..
Директор сказал что-то тихо Ивану Фёдоровичу и ушёл.
Учитель подошёл ко мне и положил руку на моё плечо:
– Прервали нас не вовремя…
Я кивнула учителю, улыбнулась и почувствовала, что между нами возникло что-то такое, чего раньше не было. Моё волнение, и не только моё, но всего класса, вызванное стихами Пушкина, было так велико, что ни нежданное появление директора, ни его разговор с Иваном Фёдоровичем нисколько не нарушили нашей общей зачарованности, поэтому после ухода директора я с прежним вдохновением продолжила своё выступление, ни разу не запнувшись и не заглянув в учебник.
– Вот это характер, мои дорогие, вот это ха-рак-тер! – сказал учитель и улыбнулся мне.
– А при чём здесь характер, Иван Фёдорович? – спросил своим глухим басом строгий Джамле́т.
– При том, что Джанико ничто не сбило с той высокой поэтической ноты, с которой она начала своё выступление, – пояснил Иван Фёдорович и добавил: – Не каждый из вас пропел бы так свою песню.
Сказав это, Иван Фёдорович снова повернулся ко мне. Его глаза засветились любопытством, и он спросил:
– Может быть, ты уже и сама пишешь? А?..
Я покраснела.
– Может, в нашем классе учится будущий писатель?
Я покраснела ещё больше от смущения, что сейчас так просто раскроется моя тайна.
– А косы тебе не мешают? – перевёл всё в шутку Иван Фёдорович, понимая моё состояние. – Не отнимают много времени? – Он улыбнулся, и я тоже улыбнулась, и мне стало легче. – Ты, наверно, много читаешь?
– Папа любит, – ответила я тихо.
– Как это замечательно: папа любит! – повторил он и, довольный, сошёл с кафедры. – Мы все получили большое удовольствие, не так ли? – Он посмотрел на класс.
– Да! – хором выдохнули мои товарищи.
– Дай дневник, я поставлю тебе самую большую пятёрку, какую когда-либо ставил в жизни. Видишь, как тебе желает её весь класс? Сейчас им для тебя ничего не жалко! И мне тоже!..
Иван Фёдорович упёрся языком в щеку и так надул её, будто орешек у него был во рту, затем медленно и старательно стал выводить отметку. Протянув мне дневник с обещанной самой большой пятёркой, он сказал:
– Если тебе будет нужна моя помощь… – и тихо добавил: – Я буду следить за твоими успехами, девочка!..
Иван Фёдорович посмотрел на меня поверх очков, и я увидала, что на глаза у него набежали слёзы.
С дневником в руках я подошла к парте и села, но на самом деле мне показалось, что я улетела во вселенную к звёздам, мне хотелось срывать их с неба одну за другой!.. Набрать полную пазуху, а потом раздавать их по одной всем моим товарищам, всему миру!..
Начался следующий урок.
«Хоть бы меня не спросили», – подумала я. После пережитого на уроке Ивана Фёдоровича отвечать мне не хотелось.
– Выходи, милая, – сказал мне с кафедры учитель грузинского языка.
Я быстро взяла общую тетрадь в коричневой обложке и подошла к доске.
«Иван Фёдорович, наверное, рассказал в учительской о моей пятёрке, и теперь все будут вызывать меня, горе мне!» – подумала я.
– Ну! Ты по русскому, оказывается, большую пятёрку получила. Посмотрим теперь, как ты выучила грузинскую грамматику… – Учитель улыбнулся мне серыми глазами и опёрся обеими руками о кафедру. Потом оглядел класс: кто там ещё разговаривает. – Тетрадь у тебя красивая, значит, начнём… Правильно, так, молодец! – говорил он, слушая меня, и кивал при этом головой. – Очень хорошо! А ты знаешь, кто автор той книги, по которой ты учила этот урок? – посмотрел лукаво на меня учитель.
– Сихарули́дзе, – ответила я.
В классе раздался смех.
Я удивлённо посмотрела на Тину. Она делала мне какие-то знаки, показывая на учителя.
– А ты видела когда-нибудь Сихарулидзе? – опять спросил учитель и засмеялся.
– Нет, – призналась я честно.
– А тебе интересно увидеть его? – Движением руки он утихомирил класс.
Я пожала плечами.
– А ты не читала никогда стихи Сихарулидзе?
Я задумалась и стала вспоминать.
– Учитель, она читает только Байрона и Гёте, – вскочил Джамлет.
– Ну, ставить меня рядом с Байроном и Гёте, конечно, нельзя, но… знаете… – неловко улыбнулся учитель, – есть люди, которые читают и Байрона, и Гёте… и Сихарулидзе…
– Нет, учитель… Джамлет шутит, – сказала я быстро и засмеялась, успев уже обо всём догадаться.
– Садись, моя дорогая, садись…
Теперь у доски стоял худой, чуть сутулый Джамлет и отвечал урок на прекрасном грузинском языке. У Джамлета были орлиный нос и чёрные умные глаза, он всегда смотрел куда-то вдаль, слова лишнего не говорил. Написал на доске несколько примеров, а потом вытер доску.
– Теперь можете сесть, Байрон, и вот вам ваша пятёрка, – сказал учитель, возвращая ему тетрадь в голубой обложке.
Открылась дверь. В класс вошёл рассерженный завуч.
Класс с шумом поднялся.
– Кто ходил по потолку? – свирепым голосом спросил он, и все посмотрели наверх. Только сейчас мы заметили, что на потолке были действительно видны отпечатки калош.
– Ну, отвечайте, классики, кто ходил по потолку? – Он почему-то повернулся ко мне.
Я посмотрела на учителя грузинского языка. Наверное, у меня было такое удивлённое лицо, что это ещё больше рассердило завуча.
– Отвечай ты, девчонка!
– Во-первых, у меня есть имя и фамилия. А потом, как человек может ходить по потолку? – сказала я и рассмеялась. – Может, это муха надела калоши и…
Класс расхохотался.
– Вы только посмотрите на эту дерзкую девчонку, она ещё и острит!.. Кто ты такая, чтоб поднимать взрослого, всеми уважаемого человека на смех?
– Как кто? – ответила я завучу. – Я – человек!
От гнева у меня так забилось сердце, что я думала, оно выскочит из груди. Я быстро села и, не рассчитав, сильно хлопнула створкой.
– Посмотрите, как она безобразно ведёт себя! – закричал завуч.
В классе раздался стук парт.
– Встань! – приказал он мне, но я продолжала сидеть, упрямо сжав губы.
– А у этой волосы накручены, как у барана! – напустился он теперь на Тину.
– Что произошло, уважаемый? – Удивлённый и побледневший учитель грузинского языка вплотную подошёл к завучу.
Тот не ответил и выскочил из класса, хлопнув дверью, а наш учитель долго сидел молча, опустив голову в ладони. Мы смотрели на него затаив дыхание.
Тина плакала.
– Не плачь, девочка! Всё это одна глупость, – вдруг, так по-домашнему и так мягко, как он умел, сказал Илья Сихарулидзе. – А волосы завивать не надо, они у тебя и без завивки красивые.
– При чём тут волосы, учитель? Очень даже хорошо они уложены, – пробормотал Ванико.
– Это модно, учитель, – сказал Гиви.
– А ты молчи, макаронина! – засмеялся учитель. – Ты только о моде и думаешь, а ещё мужчина… Кстати, это не твои ли длинные ноги в калошах оставили следы на потолке? – Учитель с подозрением посмотрел на Гиви, тот помрачнел и, побледнев (как, мол, могли на него подумать!), отвернулся в сторону.
Класс зашумел.
Учитель обвёл всех нас испытующим взглядом и сказал, повышая голос:
– Значит, кто-то жонглировал в классе калошами?.. Думаю, что этим удобнее заниматься в цирке… Одним словом, тому, кто это сделал, я советую прийти вечером в класс, когда в школе никого не будет, и уничтожить свои следы…
В это время дядя Арчил дал звонок.
Дядя Арчил всегда был одет в поношенный, но очень чистый коричневый вельветовый халат. Был он низеньким, с красными щеками и блестящими чёрными глазами. Он всегда всем улыбался и всех любил.
– Позвони чуть раньше, пожалуйста, дядя Арчил!
Если кто-нибудь просил его об этом, он смеялся, к губам прикладывал палец и отвечал таинственно и сердито:
– Ты иди на урок, дорогой, и учись, а дядю Арчила не учи…
И всё же мы были уверены, что дядя Арчил звонил всегда раньше времени…
Однажды мы узнали, что отец Тины скоропостижно умер. В тот день на уроках стояла гробовая тишина. Никто не шутил, и никто не смеялся. На перемене в коридор не выходили, сидели на партах и беседовали тихо. В классе было грустно, как на кладбище. Тина в школу не пришла.
Дядя Арчил заглянул в класс и сделал мне знак. Я вышла в коридор.
– Тебя зовёт секретарша, – сказал мне дядя Арчил.
Тётя Кето работала у нас в школе секретаршей. Тина была её племянницей.
– Заходи, Джанико, заходи, – сказала тётя Кето. – Тина хочет повидать тебя.
Закончились уроки. Я одна вышла из школы. Задумавшись, шла я к дому Тины.
Тина жила в одноэтажном доме. У них были красивые комнаты с разрисованными потолками. В одной стене поблёскивала зелёная с изразцами голландская печь. Мы любили стоять, прислонившись щекой и руками к тёплой печке.
Дядя Ге́но, отец Тины, приносил шумевший самовар, в фарфоровый с голубыми цветочками чайник наливал клокочущий кипяток, потом ставил чайник на самовар, из разноцветных вазочек, как цапли, стоявших на столе на длинной ножке, выкладывал в розетки варенье, приговаривая: «Засахарилось варенье, засахарилось, помогите, люди!»
Он любил персики. Нежно брал он в руки румяный плод, чуть наклонялся и протягивал нам: «А ну, отведайте. Сладкий, как сахар». Он так любезно угощал, что отказаться было трудно.
Тётя Тамара была одета красиво, а руки у неё волшебницы, к чему бы она ни прикасалась, всё оживало и становилось красивым. Если накрывала стол к любому, даже самому непраздничному обеду, нельзя было не залюбоваться.
Наконец я подошла к Тининому дому.
В комнате горел тусклый, необычный жёлтый свет. Так светят электрические лампочки, когда на дворе ещё светло. В комнате было, как всегда, прибрано, чисто и уютно.
На постели с широкими спинками, уткнув лицо в подушки, лежала Тина.
– Заходи, детка, – тихо сказала тётя Тамара.
Тина подняла голову и заплакала ещё сильнее.
Оказывается, я так крепко держала ручку портфеля, что тётя Тамара с трудом разжала кисть моей руки. Мне было трудно дышать, я слышала гулкое биение своего сердца. Мне казалось, ещё немного и я задохнусь. Тина посмотрела на меня, и мы, кажется, сквозь слёзы улыбнулись друг другу.
Тётя Тамара расстелила белоснежную скатерть с бахромой, поставила красивые тарелки, масло и ломтики чёрного хлеба. Миску с горячим супом она поставила посередине стола, возле тарелок положила полотняные салфетки. Младшая сестра тёти Тамары внесла запотевший стеклянный кувшин. В большой чашке дяди Гено лежала серебряная ложка с витой ручкой… Казалось, в комнату вот-вот войдёт дядя Гено и сядет на своё привычное место. Нервная дрожь пробрала меня с ног до головы. Словно поняв, что происходит со мной, Тина встала и убрала чашку в шкаф.
– Садитесь за стол. Потом будете заниматься, – тихо сказала тётя Тамара и поправила красивую косу, уложенную вокруг головы. – Что нового в школе?
– Ничего такого… – сказала я бессмысленно, уставясь в тарелку. Мне хотелось скрыть свои слёзы. На дне тарелки плавали нарисованные парусные лодки… «Они утонули…» – почему-то подумала я с грустью.
– Ешьте, ешьте… Вы голодные, – тихо говорила тётя Тамара, и слова её походили то ли на плач, то ли на причитание.
Я ничего ей на это не отвечала, я знала, что она говорила просто так, надо было о чём-то говорить за столом. Но говорить в такой день о пустяках мне не хотелось.
…Мы с Тиной не выучили ни одного урока. Сидели у стола, покрытого плюшевой скатертью, учебники раскрытые лежали на коленях, и очень тихо шептались.
Было уже темно, когда я вернулась домой.
– Ты была у Тинико? – спросила мама.
Я уткнулась маме в тёплое плечо и разревелась. Хотя я не видела мамино лицо, но я чувствовала, что она тоже плачет. Вместе с ней мы сели на диван, с другой стороны к маминому плечу прижался Котэ..
Так, в обнимку, сидели мы на диване – мама, я и Котэ – и молчали и думали каждый о своём и все вместе о чём-то нашем общем.
На уроке истории вошёл секретарь комитета комсомола, извинился перед учителем и обратился к нам:
– Кому исполнилось тринадцать лет, встаньте.
Весь класс встал.
– После уроков приходите в комитет комсомола. Будем вас принимать в комсомол. Заполните анкеты. Кто хорошо учится и, конечно, достоин, тех примем.
– В этом классе все достойны, – сказал учитель Абесало́м.
Мы с большим усердием стали заполнять анкеты.
Утром шёл снег. На улицах была слякоть и дул свистящий ветер.
В школе было тепло. Красивыми транспарантами мы украсили школьную лестницу и дверь комсомольской комнаты. На пороге стояли мои одноклассники. Кто-то тронул меня за плечо. Это был Мито́. Он принёс наши фотокарточки для билетов. Накануне мы всем классом ходили фотографироваться.
А после уроков мы пошли в райком комсомола. Нам пожимали руки, поздравляли.
Было холодно, но на проспекте Руставели было много народу. На углу улицы молодой мужчина громко рассказывал что-то, окружавшие его люди смеялись от души. К остановке подкатил новый троллейбус. Дверь открылась с грохотом. Люди поспешили к входу, они мешали друг другу, и войти никто не мог. Потом все успокоились, и пробка рассосалась. Троллейбус тронулся. Мы были так счастливы в этот день, что все нам казались радостными и счастливыми.
– Знаете, что идёт в «Спартаке»? «Три танкиста», – сказал Гизо.
– Собираю деньги. – Мито снял шапку и подошёл к красивой Меде́е.
Медея достала из кармана полную горсть семечек и выбрала из них блестящие пятнадцатикопеечные монетки.
– Маловато! Маловато! – кричал Гизо.
– Свои добавишь, – пошутила Медея.
В кинотеатре было тепло. Кучу́ и Мола́ уже сидели на местах.
– Когда успели?! – удивился Гизо.
Мы заняли почти два ряда.
Свет потух. Экран засветился. Началась музыка. Перед нашими глазами завертелся земной шар, опоясанный лентой… И экран вдруг потух. Нас это тоже развеселило.
– Сапожник! – закричали зрители.
– Почему ты грустная? – спросила шёпотом Тина. – Смеёшься, но грустная?
– Не знаю, – сказала я.
– А почему твой брат не любит Лескова? – снова спросила Тина.
Я пожала плечами.
– И ты не любишь?
– Я люблю Бараташви́ли, Байрона… и Сихарулидзе…
– А Пушкина? – напомнила Тина.
– Конечно, а ты? – удивлённо спросила я.
– Сс! – зашипел кто-то с задних рядов.
– Шш! – шумели все, кому не лень.
– Фу-ты, пропадите вы пропадом! – Кто-то встал и громко хлопнул сиденьем.
Все смеялись, и я со всеми вместе.
– Ты даже когда смеёшься – думаешь, – сказала Тина.
– После уроков все останьтесь, – объявил нам вожатый Леонид, – будет спевка.
В учительской никого не было. У открытого рояля сидел старик. На рояле лежала скрипка.
– Петь – это, конечно, хорошо, но у меня же нет голоса, отпустите меня, – просил Джамлет. – Отпустите. Ой, мамочки, нет у меня голоса! Какая может быть спевка, если у человека нет голоса?
Остальные мальчики тоже отказались петь, и учитель Юстине всех выгнал вон. Они вышли молча, и вдруг в коридоре раздалось такое слитное и слаженное пение, что мы сразу же навострили уши.
– А ещё говорят, что не умеют петь! – учитель засмеялся.
Мальчишки снова вошли в класс.
Стены учительской были разрисованы мифическими героями. Каждый выбрал себе своего героя. Я тоже.
Тина спросила меня в перерыве:
– О чём ты всё время думаешь?
– Не знаю, – ответила я честно.
Я действительно ловила себя в эти дни на том, что и вправду всё время о чём-то думаю, а о чём, не могла ответить никому, даже самой себе.
В этот вечер, придя после спевки домой, я села за стол, чтобы позаниматься, но уроки мне совсем не шли на ум. Мне было не до них. Что-то совсем другое и незнакомое решалось в моём уме. И вдруг я поняла, что мне хочется не готовить уроки, а первый раз в жизни выразить словами то, что я уже видела, о чём думала, что пережила и прочувствовала в моём совсем недавнем прошлом.
Я вспоминала о том, что случилось почти одновременно: и о большой пятёрке, полученной на уроке русского языка, и о кончине Тининого отца, и о приёме в комсомол, и о спевке, и о фильме «Три танкиста», и ещё об очень-очень многом и задавала себе вопрос: как это всё вместе называется?.. Думала навязчиво: как же это всё называется вместе и по отдельности? Я поискала у себя в душе это слово, каким можно было бы всё определить, и не нашла его… Слёзы и смех, смех и слёзы соседствовали рядом, как дома в старом Тбилиси. Я вспомнила, как однажды сказала мама: «Если бы я снова стала молодой, я всегда бы была весёлой!»
Я сидела над чистой тетрадкой и думала: как же это всё назвать и определить одним-единственным словом? И вдруг я увидела его, это одно-единственное слово. Оно поплыло перед моими глазами. И я написала на чистом листе: «Жизнь!..»
В слово это входило всё, что накатывалось на меня сейчас, как накатываются волны на берег во время прибоя: и сладкая каша из кислого винограда! и олень в обмороке! и Панкиса! и венценосец в колючках, и все, что я уже пережила! и всё, что я переживаю! и всё, что я буду переживать!.. Всё, всё объясняло одно-единственное слово «жизнь». Поэтому я тут же поставила тире и дописала: «Единственное слово!» Потом я зачеркнула слово «жизнь!». Оставив незачёркнутым «единственное слово!», на следующей строке вывела: «Рассказ»…
Потом я обмакнула перо в чернильницу и первый раз в жизни стала обдумывать первую фразу своего первого рассказа…