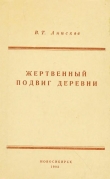Текст книги "Вишнёвое дерево при свете луны"
Автор книги: Додо Вадачкориа
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Додо Вадачкориа
Вишнёвое дерево при свете луны


Дорогая память
Я приехал в гости к Додо́ Вадачко́риа в город Тбилиси, чтобы продолжить работу над переводом её книги рассказов о детстве. Хотелось своими глазами увидеть те места, где прошли юные годы автора, подышать воздухом её далёких воспоминаний. Ведь почти каждый писатель в отличие от людей других профессий проживает, как минимум, две жизни вместо одной: первый раз – наяву, второй раз, когда пишет воспоминания о своих, уже прожитых днях детства.
Вскоре после приезда вместе с Додо мы гуляли по улицам Тбилиси. «Вот новый город, – говорила она, – а вот таким он был в дни моего детства: старые дома, отремонтированные и покрашенные в яркие тона, и бесконечные балконы и балкончики, придающие постройкам воздушность и даже какую-то своеобразную невесомость!..» На машине мы объезжаем окрестности города – окрестности тоже изменились, но меньше, чем сам город… Едем в местечко Каджо́ри!.. Местечко, где Додо была ещё не Додо, а Джанико́. Едем в детство. Местечко тоже изменилось, но ещё меньше, чем сам город и его окрестности. Родительский дом, в котором была аптека, совсем обветшал (хотя и сегодня в нём, как и прежде, местная аптека). Говорят, что и аптеку снесут, а жаль. Можно было бы сохранить. Чужая жизнь встречает Додо в её когда-то родном доме. Переступаем порог. В комнатах живёт сотрудница аптеки. Додо пытается понять и уяснить значение всего, что попадается на глаза. Взгляд её грустнеет. Что видят сейчас её глаза? Что с чем сравнивают? Узнают и не узнают? Я замечаю, как сосредоточена Додо. «Что она сейчас переживает? – спрашиваю я сам себя и сам себе отвечаю: – Как что?.. Те рассказы, которые она уже написала, и те рассказы, что она ещё напишет о своём детстве и юности…»
Я вспоминаю слова из письма, которое получил от Додо перед самым отъездом из Москвы. «…Дорогой Валерий! – писала она. – У каждого человека бывает в жизни нечто желаемое и заветное, где бы он ни находился, эта мечта всегда с ним, во сне и наяву, она становится неотделимой частью его существования…»
Мы идём по улочкам Каджори, и Додо то улыбается, то смеётся, то становится серьёзной это значит, что постоянные спутники её детства, верные друзья безвозвратно ушедших лет и сейчас рядом с нею. Это они вместе с нею по-прежнему смеются, поют, мечтают, влюбляются, смотрят на ослепительно бирюзовое небо, подёрнутые дымкой тумана синие горы. Радуются белоснежным ландышам и нежным фиалкам, снова вместе составляют огромные букеты маков. В трескучие зимние морозы прокладывают путь в хрустящем снегу и замёрзшим пальцем выводят на снегу знакомые имена. Так же бережно повязывают друг другу красные пионерские галстуки и, не переводя дыхания, взбираются на высокие, очень высокие горы, чтобы оттуда, может быть, дотянуться до сверкающей луны…
Иногда воспоминания Додо как бы материализуются, когда на её пути встречается какой-нибудь или пожилой мужчина, или женщина – друзья детства!.. Есть о чём поговорить!.. Есть что вспомнить! Начинается оживлённый разговор на грузинском языке. Я с удовольствием прислушиваюсь к его звучанию и жалею, что эту грузинскую музыку не услышат русские читатели…
Под вечер мы возвращаемся в Тбилиси. Полный благотворных и всё оживляющих впечатлений, я сажусь за работу.
В. Медведев
Белое платье в синий горошек

Ну, как же это я не догадалась загодя нарядиться в своё любимое белое платье в горошек, а теперь поезд уже подходил к станции с оглушительным свистом и остановился, будто еле сдержал себя.
С правой стороны показались кудрявые горы моей деревни. Не совсем нормальный Шали́киа с таким счастливым выражением на лице встречал поезд, будто каждый вагон был набит его родственниками.
– Доброго вам здоровья, батоно![1]1
Ба́тоно – вежливая форма обращения к старшему, незнакомому, вообще к уважаемому человеку.
[Закрыть] – поздоровался он с дядей Гри́голи и взял у него багаж. – Опять привёз к нам эту девочку? – Он раскрыл огромный рот и, скосив глаза, обнажил свои жёлтые длинные, как у лошади, зубы. – На фаэтоне поедете или автомобилем? – спросил Шаликиа, словно его и фаэтон, и автомобиль стоят у вокзала и он повезёт вас, на чём вы пожелаете.
– Кто нас раньше встретит, на том и поедем, Шаликиа мой, – ответил дядя и сунул деньги в его огромный разорванный карман пиджака.
– Халодни вода, халодни вода, каму нада!
Босоногий мальчишка с запотевшим кувшином ворвался на перрон, в одной руке он держал что-то съедобное и уплетал за обе щеки; подвёрнутые до колен брюки его были мокрыми. Он так туго завязал свой пояс, что выцветшая сорочка длинными, как у фрака, фалдами висела сзади. Грудка у него выпирала, как у лани, карие глаза разбегались. Увидев нас, он отшвырнул недоеденный кусок за спину и крикнул ещё громче:
– Каму нада, халодни вода!
– Ах, если ты словами не объяснишь, то мы ведь так и не поймём, что у тебя в этом кувшине вода! В такую рань кому нужна, парень, твоя тёплая вода? – стал издеваться над ним Шаликиа.
– Дай-ка выпить пару глотков, сынок, – сказал мой дядя. Он, если б даже до этого выпил и большой кувшин, всё равно от родниковой воды не отказался бы ни за что.
– Сейчас, батоно. – Мальчик поставил кувшин на согнутое колено, вынул из кармана чистый гранёный стакан, сполоснул водой, вылил, потом, осторожно держа стакан двумя пальцами, наклонил кувшин. Пока вода лилась, журча, стакан успел весь запотеть.
– Тебе не хочется пить? – спросил меня дядя и даже протянул мне стакан.
Я хотела пить, но отказалась, потому что в который раз пожалела, что на мне не было надето белоснежное платье в горошек и оно праздно лежало на дне чемодана.
Дядя с удовольствием выпил всю воду из стакана, разгладил усы.

– Дай бог тебе здоровья, какая вкусная вода! – Сунул руку в карман, чтобы достать гривенник, но мальчик отскочил, как чертёнок, в сторону:
– Что вы, батоно?!
Мальчик с достоинством взрослого удалился. Послышалось уже издали:
– Холодни вада, каму нада…
Не думайте, что этот мальчуган так просто продаёт воду, он собирает деньги на учебники. Одна бабушка у него на этом свете и такая слабенькая. Она когда с козой идёт, то делает вид, что тащит козу, а на самом деле коза её тащит.
Так мы стояли у вокзала и ждали машину, а я искоса поглядывала на Шаликиа и первый раз заметила, какая глубокая печаль и тоска затаилась в его всегда раскосо-весёлых глазах.
Потом мы сели в длинную, голубого цвета машину, покрытую тентом, и стали медленно подниматься в гору. Долго бежал за нами Шаликиа, звал нас куда-то, а куда – одному ему известно, смеялся, чему-то радовался, а чему, было известно только ему.
Ту́та уже поспела в деревне и, осыпаясь, стукалась о землю. Объевшиеся и разжиревшие воробьи еле передвигались в тени туты.
– Хорошо, детка, что ты приехала, а то я не хотел без тебя насыпать туту в кувшины, – сказал мне дедушка Лука, сосед дяди Григоли, и стал перебирать чётки.
Дедушка расстегнул ахалухи[2]2
Ахалухи – поддёвка, мужская одежда.
[Закрыть], под ним была надета розового цвета ситцевая сорочка, застёгнутая на одну пуговицу. За год его голубые глаза будто бы потускнели, но они по-прежнему были улыбчивыми.
– Смотри, дедуля, – сказала я, – твой рябой цыплёнок.
Под деревом, действительно подняв хвост, ходил цыплёнок в белую крапинку и разгонял воробьёв.
Так было каждый год, будто один и тот же цыплёнок встречал меня на дедушкином дворе.
– Не соскучилась по кашице? Или уже выросла и не хочешь, – смеялась бабушка Машико и стряхивала в подол синего, в белую крапинку платья спелую туту.
В доме всё было в крапинку: и цыплёнок, и бабушкино платье, и я снова вспомнила о своём наряде и решила надеть его.
– Как это я не соскучилась по кашице! – закричала я. – Очень даже соскучилась!
Бывало, сварит кто-нибудь из соседей кашу, подойдёт к забору и крикнет мне: «Иди кашку есть!» Я и иду. Я и сейчас готова пойти есть кашу по первому приглашению. Когда я была помладше и боялась идти в темноте, то обычно слышала слова: «Не бойся, я здесь!» – и меня встречал кто-нибудь посреди дороги или маленький Шотико́ протягивал мне худую ручку, а сам, кажется, ещё больше меня боялся темноты.
…Горит очаг. Дым поднимается медленно к небу. Тучи светлеют от луны. Из огня сыплются искры. У очага, как ослики стоят стулья-треножки. С высокого горшка скалится молодой сыр. Терпеливо висит почерневший, важно раздутый котёл, и в нём закипает каша.
Каждый поглядывал на тарелку другого, кому дали больше. С обеих сторон облизывали ложку. Луна плыла меж редких туч. И она была похожа на полную кашей тарелку. Ветерок шелестел листьями среди окроплённого голубыми гроздьями виноградника, поднявшегося на ажурный балкон. По лестнице дома тихо поднималась собака. Корова сопела. Журавль скрипел так, будто чертёнок вскочил на него и раскачивал. Цикады старались перетрещать друг друга, а лягушки старались их переквакать. Потом становилось так тихо, что хотелось слушать только таинственную тишину и чтоб её никто не нарушал.
– Дедушка Лука трясёт туту! – крикнули мне Шотико́ и Ме́тиа со двора. Они вместе с воробьями облепили тутовое дерево.
Тогда я наконец-то вытащила из чемодана своё любимое белое, в синюю горошину платье и надела его.
«Хорошо, что вспомнила. На сборе шелковицы я должна быть одета в красивое платье!» – успокоила себя, гордо повернулась перед зеркалом и вышла с важным видом во двор.
Мягкая, как ежевика, чёрная, сладкая тута таяла во рту. Дедушка Лука был в хорошем настроении. Он не мог дождаться минуты, когда насыплет туту в большую носатую кастрюлю, когда зажжёт костёр у ручья, поставит на огонь кастрюлю, задымит трубкой и скажет:
– Журчи, журчи, сладкий сок, всем на радость… – потом улыбнётся, и мы с ним сядем на плоские камни, согретые за день солнцем.
До тех пор пока тута не иссякла на дереве, пока был слышен гомон детей и птиц, о моём платье никто и не вспоминал…
Наевшись туты, дети разошлись. Только теперь я посмотрела на свои сладкие, почерневшие руки и что я увидела: моё красивое белоснежное, в синий горошек платье всё испачкано тутовым соком чернильного цвета.
Огорчённая, я спустилась по косогору, незаметно вошла в дом и бросилась ничком на тахту. Косы упали на постель. Через минуту я почувствовала, что кто-то дёргает меня за волосы. Конечно, это кошка, но я была так огорчена, что не погладила её. Удивлённая кошка села и, жмуря глазки, стала обиженно смотреть на меня.
Наши сидели под грушевым деревом. Я вскочила, быстро сняла платье, бросила в тазик и залила тёплой водой из кувшина, который стоял у очага. Стала мылить и тереть испачканное тутовым соком платье, но скоро поняла, что всё это напрасно.
«Его лучше покрасить», – решила я.
В ящике шкафа стала перебирать кульки с красками. Какой цвет лучше? «Оранжевый» – было написано на одном пакетике. Оранжевое платье! Какое оно будет красивое! Завтра в оранжевом платье я пройду по селу, и все сойдут с ума. «Прощай, моё любимое в синий горошек платье!» С этими словами я опустила платье в таз. Когда я вынула платье из воды… О, что я увидела! Я вообще его не узнала, оно стало какого-то грязного и совсем не оранжевого цвета. Отжав его, я пошла на огород. Под забором выкопала ямку и там похоронила своё платье.
Скоро ко мне подошли мои подружки Метиа и Чапу́ло.
– Что ты делаешь?
– Платье похоронила. – Я указала девочкам на ещё свежий могильный бугорок.
– Она сошла с ума, – решила Метиа и прикрыла рот рукой.
– Что? Что ты похоронила? – спросила Чапуло.
– Платье! – сказала я со слезами на глазах.
Метиа нагнулась, раскопала землю и двумя пальцами вытащила моё мокрое платье.
Наверное, у меня было очень грустное лицо и моим друзьям стало жаль меня: совсем недавно они гладили моё красивое платье и «носи на здоровье» говорили, а теперь…
– Знаешь, наш сосед умер, а его вдова выкрасила в чёрный цвет всё, что имеет. Во дворе ещё стоит полная кастрюля краски, – сказала Метиа и убежала с моим платьем.
На другой день наши ушли на панихиду. Раздумывать не было времени. Я надела выкрашенное теперь уже в чёрный цвет платье.
Я никак не могла растолковать бабушке, для чего мне были нужны её чёрные чулки. Потом вместо резинок подвязала чулки лоскутиками и догнала своих уже у порога чужого дома. Увидев нас, вдова раскричалась.
– Разве ты так встречал этих почтенных гостей!.. Вставай, вставай! – говорила она покойнику, лежавшему в широком и длинном гробу.
У неё были красные от слёз глаза, а на лбу чёрная повязка.
Впереди шёл дядя, и он с огорчением качал головой. Следов за ним шла тётя. Она тоже качала головой и вытирала слёзы. Потом шла я, но я была в страшном затруднении из-за своих чулок. Они сползали с ног, и я то и дело подтягивала то один чулок, то другой.
Кто-то засмеялся, кто-то посмотрел в мою сторону. Сначала я не могла понять, что происходит, а потом подумала, что жизнь, просто она сильнее любой смерти. Эту мысль подтвердила вдова, когда она вдруг улыбнулась и сказала:
– Расти большой у своих родителей, давно я так сладко не смеялась, – она благословляла меня, успевая в горе ударять себя кулаком в грудь.
И все заулыбались…
Дерево, как жизнь, или Жизнь, как дерево
Красива моя деревня, окружённая кудрявыми горами. Посередине деревни течёт река, она делит её на две части. Хевисцка́ли местами такая мелкая, что и младенец может в ней барахтаться без опасности для жизни, а местами и взрослого человека с лошадью может покрыть с головой. Вот какая коварная эта речка. Погода в нашей деревне обычно хорошая, но случаются и проливные дожди. Сколько раз, бывало, убегали мы в горы, спасаясь от дождя, врывались в ворота, потом с криком бежали вверх по лестнице и… дождь со страшным шумом начинал затемнять наш двор, словно затмение солнца начиналось…
Быстро поднимается Хевисцкали, начинает шуметь, словно сердится на дождь, что замутил её. В хорошую же погоду она сладко журчит, а переполнится от дождя водой – ревёт, шумит. Наверное, потому, что омывает глинистые берега, вода в реке становится розовой. Течёт и несёт разрушенные заборы, подпорки, кукурузу с початками. Однажды даже корову несла на волнах. А по берегу, подняв хвост, бежал телёнок и жалобно мычал.
Варде́н, сосед дяди, бросился в воду, схватил корову за рога и вытащил. Варден вообще-то очень сильный. Его только один раз вместе с жалобно мычавшей коровой перевернула волна. Как только корова очутилась на берегу, телёнок побежал к ней. Корова стала его облизывать. Видно было, что она очень испугалась и устала, но всё же сил приласкать телёнка у неё хватило. Телёнок тут же нашёл вымя и принялся жадно сосать.
В речке Хевисцкали и рыба хорошая. Нет большего удовольствия, чем стоять по колено в воде и ловить рыбу руками, прыгать по скользким камням и искать в тине рыбу!
Мальчики рыбачат сетями, они не любят брать девочек на рыбалку: только, мол, рыбу мешают ловить! А чем мы хуже их!.. Мы тоже отменные рыболовы! Ах, как сильно сердце бьётся, когда выберешь из сети рыбу, и она бьёт об камни хвостом и так открывает рот, будто перед смертью что-то хочет сказать. «Если любишь удить, то жалеть рыбу глупо!» – сказал мне однажды старый рыбак, и с тех пор я молча стою и смотрю, как ловят рыбу.
…От станции до нашей деревни дорога поднимается в гору. Во всю длину по обеим сторонам дороги стоят сверкающие алым цветом гранатовые деревья и розовые кусты шиповника. Я не люблю ездить по этой дороге на машине. Что может сравниться с арбой! Сидишь себе задом наперёд, свесив ноги. Медленно тащится арба, качает тебя, как лодку в море, и любуйся сколько угодно красотой твоего края. Внизу, в голубом тумане видно Рионское ущелье: вдали синеют горы. Серебристая Риони текла и замерла, как будто ей жаль оставлять эту ненаглядную красоту.
В моей деревне живёт добрый, вежливый народ. Знаком ты им или не знаком, каждый поздоровается с тобой, осведомится о твоём здоровье.
И дворы, как и их хозяева, встречают гостей раскрытыми объятиями. Встретят они вас и ярко-зелёной травкой, и гордо поднятыми головками гортензий, и малахитово-затемнёнными виноградниками. Всё это ты и раньше видел, но в гостях как-то всё по-новому и по-другому воспринимаешь.
Через Хевисцкали перекинут висячий мост. С моста видна крыша мельницы дяди Ивани́ки, а по ту сторону реки начинается просёлочная дорога.
Для меня нет ничего радостнее, чем бегать по просёлочной дороге, потому что по обеим сторонам её целых сто домов. В каждом доме у меня друг. Вся деревня – мои друзья, так мне кажется. Кажется, что и моя деревня самая красивая на свете и все люди моей деревни тоже самые красивые.
Как только я ступлю на дорогу, крикну раз и… все заборы начинают трещать. Это мои друзья бегут мне навстречу. Пока мы добежим до моего дома, нас уже так много, как песку на берегу реки. С гомоном и со смехом поднимаемся мы в гору.
– Груша ещё не поспела, а яблоки только-только завязались, – говорит бабушка, и вдруг я представляю, что кто-то невидимый сидит на дереве и с усердием завязывает узлы на яблоках. – Но зато посмотрите на черешню!.. Как алеет она в зелёной листве! Уже поспела.
– Вишня пока ещё кислая, – сказала Чапуло.
Знает, что я люблю больше всего вишню…
А я знаю, моя Чапуло, что ты любишь, и привезла я тебе конфеты с бумажной бахромой. А Метиа любит конфеты без обёртки. Солнце в них просвечивает, говорит она, и это ей нравится.
Я очень огорчилась: Метиа опять остригли! Никак не удаётся мне увидеть её с причёской. Когда я приезжаю на каникулы, Метиа уже успевает остричься и встречает меня с мальчишечьим чубом. Как бы были ей к лицу светлые, цвета сена волосы! К её матовой коже и голубым глазам. Метиа не то что красивая, она какая-то симпатичная и привлекательная, и у неё выразительные глаза. Зато ловка она, как мальчишка!
Андро́, брат Чапуло, ровесник моего брата Котэ́. Он всегда весёлый, и я поэтому очень люблю его. Он очень добрый. Котэ, крепыш Варден и Андро часто вместе ходят на охоту, но мы ещё не видели, чтобы они чего-нибудь принесли с охоты. Зато когда Котэ с дядей идёт на охоту, то с пустыми руками не возвращается никогда.
Ещё я очень люблю ходить в лес, сколько там вкусных фруктов и грибов! А цветы! Какие на полянах цветы и сколько их!..
Сто домов в моей деревне, и в каждом доме у меня друг, и если я всех не повидаю, обидятся.
Чтобы войти во двор дедушки Луки, нужно пройти по висячему мостику. На берегу Хевисцкали варит дедушка Лука туту, и запах её распространяется по всему селу. Там же родник, огороженный плетёнкой из прутьев. Хочу я пить или нет, но, проходя мимо, невозможно удержаться, чтобы не попить этой хрустальной воды, а потом, раскинув руки, как паяц, прыгая на одной ноге, иду по шаткому мостику, который качает меня, как когда-то качала меня мать в люльке.
Во дворе дедушки Луки стоит старое тутовое дерево. Шелковица – так его называет дедушка. Половина дерева даёт туту чёрного цвета, полдерева – белого цвета. Очень сладкая, спелая тута.
– Мудрое дерево, – говорит Лука. – Дерево, как жизнь! Одновременно и светлое, и тёмное! – Сказав это, дед Лука задумывается и продолжает: – Жизнь, как дерево: с одной стороны немного темнее!.. А с другой стороны… светлая! Очень даже светлая!..
И я молча с ним соглашаюсь.
Запах хлеба
К деревне, в которой была пекарня, вела короткая дорога вдоль реки. Затем она переходила в тропинку. А тропинка бежала то через широкое поле, то взбиралась на пригорок, то спускалась с него, а то, извиваясь, пряталась в густо затенённом лесу.
Местами дорогу пересекала река. Её мы переходили по плоским камням и пообломанным, полузатонувшим ветвям. За рекой тропинка подводила к проезжей дороге.
Перепрыгивая с камня на камень, Метиа приговаривала, поглядывая на меня:
– Пять, шесть, семь, восемь… Дай мне руку! Осторожно! Молодец! Что? Больно?
– А чего это больно? – ответила я насмешливо. – На мне туфли, а ты босиком… Надень чусты[3]3
Чу́сты – лёгкая обувь из сыромятной кожи.
[Закрыть], а то у тебя ноги разболятся…
– Я в этих чустах задыхаюсь, – ответила Метиа, – так мне легче ходить. В чустах я зимой нагуляюсь. Лишь бы у тебя ноги не болели, а со мной ничего не будет.
Отец Метиа – дядя Георгий – работал пекарем в той самой деревне, куда мы направились все вместе. Вообще-то отец Метиа нас в гости в чужую деревню к себе не звал. А хлеб пообещал сам принести. Метиа так и передала его слова.
– Как это сам! – возмутилась Бу́циа. – Беспокоить такого загруженного работой человека! Нечего лениться! Идите за хлебом сами!
А нам только этого и надо было. Нам лишь бы вырваться из своей деревни, лишь бы попасть на дорогу, полную приключений.
– Идите осторожно, – предостерегала нас тётя. – Смотрите, чтобы с вами ничего не случилось.
Метиа от радости готова была в пляс пуститься. Я тоже. Только я изо всех сил скрывала свою радость.
– Можно взять три хлеба? – спросила я у Буции.
– Три хлеба? – переспросила она. – Для чего так много? Одного достаточно!..
Буциа дала мне в руки корзину и деньги и поцеловала меня.
– Смотрите, будьте умницами!
В самую последнюю минуту тётя успела надавать нам столько советов, что, когда мы отошли подальше, Метиа сказала:
– Так много советов для такой короткой дороги! – Она засмеялась и добавила: – Как будто бы мы на край земли едем.
– И чтобы мне не купаться! И чтобы в воду не лезть! – кричала нам вдогонку Буциа.
– Ириа-уриао, ириа-уриао!.. – запела Метиа, смеясь, подпрыгивая и дурачась, и первой стала подниматься вверх по тропинке.
– Куда идёте, детки? – крикнула нам мать Шотико, тётя Пи́сти.
Я только открыла рот для ответа, как Метиа толкнула меня в бок.
– На пастбище идём, на пастбище! – ответила Метиа. – Может, коровам от вас привет передать?
– А почему ты не сказала ей правду? – спросила я Метиа шёпотом.
– Почему не сказала, почему не сказала? – передразнила Метиа. – А потому что она бы поручила и ей хлеб принести. Вот почему. Делать нам больше нечего, как таскать для неё хлеб!
Не успели мы сделать и нескольких шагов, как нас окликнула мать Олико́, тётя Соня:
– И куда же это вы идёте, детки?
Я опять было открыла рот для ответа, но Метиа снова толкнула меня острым локтем в бок, но я на этот раз рассердилась.
– На пастбище идём! – снова ответила Метиа. – Может, коровам чего передать?
Метиа сложила губки черешней и тихо засмеялась.
Впрочем, тётю Соню провести не так-то просто, потому что она тут же спросила:
– С какого это времени у нас пастбище стало в той стороне, куда вы идёте?
– Ай-яй-яй, – запричитала Метиа, – видно, и вправду мы с дороги сбились.
Некоторое время мы шли молча, потом Метиа подскочила ко мне и попыталась обнять за плечи. Это с её-то ростом! Коротышка!
– Обиделась? А я тебя за это через реку на спине перетащу, – сказала она.
– А я и сама прекрасно перейду речку без всякой помощи.
– Туфли сними, а то на камнях поскользнёшься, – смеялась Метиа.
– Не твоя забота! – огрызнулась я.
– Ой, мамочки, такой сердитой я тебя ещё никогда не видела. – Метиа состроила такую забавную и сердитую рожицу, что я не выдержала и прыснула от смеха.
Затем мы бросились друг к другу, обнялись, и Метиа опять запела «Криманчу́ли».
– Хоть бы арбу встретить на шоссейной дороге, – мечтательно сказала Метиа. – Ты устала, да?
Я промолчала. А Метиа жалобно произнесла:
– А я устала… И зачем я пошла за этим хлебом? – жаловалась сама себе Метиа.
– А вот я, между прочим, не только для себя, но и для Нуну́ пошла бы за хлебом и для Олико, – сказала я, – а ты даже себе не хочешь…
– На всех хлеба не принесёшь, – рассердилась Метиа, – и вообще не обязательно всем его есть… Поперёк горла может встать, вот! – снова засмеялась Метиа.
Я никак не могла понять, то ли говорит она серьёзно, то ли шутит.
Мы шли медленно по берегу реки. Ветви ольхи спускались почти до самой воды. Когда ветер наклонял их, то они окунали свои листья в воду, словно мыли руки. Вода мелководной речки была прозрачной, и сквозь неё видны были камни, поросшие мхом, галька, стаи рыбок. Солнечный луч местами проникал в глубь воды и переливался на дне. Мальки стайками кидались на какую-то только им одним видную добычу. Большие рыбы лениво шевелили хвостами, то исчезая в водорослях, то снова показываясь.
У кирпичного завода двое мужчин лежали у берега в воде и о чём-то тихо переговаривались.
Кляча со впалыми боками ходила вокруг столба, вбитого в землю, и так кивала головой, будто соглашалась с кем-то; временами она махала хвостом и отгоняла от себя назойливых мух.
– Здравствуйте! – крикнула громко Метиа рабочим, это были её знакомые.
– Доброго тебе здоровья, Метиа. Куда путь держишь?
– За хлебом идём, – ответила Метиа.
– Правильно делаешь, – сказал один, – говорят, у Георгия хороший хлеб получается…
– А вот попробуем, тогда и похвалим, – смеясь, ответила Метиа.
Когда мы вышли на просёлочную дорогу, Метиа села на камень.
– Раз ты идёшь, значит, не устала, – сказала мне Метиа.
– Нет, – ответила я, – я тоже устала, но не время сейчас отдыхать.
Вдруг на дороге что-то скрипнуло, потом ясно послышался визг колёс, и мы услышали тихое пение.
– Вот и арба идёт, – сказала я Метиа, – как раз нам по пути… Сядем и отдохнём…
Арба уже отчётливо была видна на дороге и приближалась всё ближе и ближе. На козлах её сидел мужчина и щёлкал орешки. Иногда одно колесо попадало в яму, погонщик кричал на быков и потом снова выпрямлялся. Арба уже почти поравнялась с нами, но погонщик не обращал на нас почему-то никакого внимания. Метиа продолжала сидеть на камне, исподлобья глядя на мужчину, наклонявшегося то в одну, то в другую сторону. Я хотела ещё раз сказать Метиа: «Вставай!», но она вдруг свалилась с камня на землю, схватилась за живот, ужасно скривилась и с криком: «Ой, мамочка, помогите!» – начала кататься по земле.
Погонщик привстал с козел, соскочил с арбы и подбежал к нам. Я бросила корзину, опустилась на колени и обхватила Метиа.
– Метиа! Метиа! – кричала я.
Погонщик подошёл к нам, сел на корточки и положил ладонь на лоб Метиа, словно проверяя, нет ли у неё температуры.
– Что случилось, детка, что с тобою? Как вы тут оказались? Вы чьи? Куда идёте?
– За хлебом идём! К дяде Георгию идём! – ответила я и почувствовала, как у меня задрожал голос.
Погонщик поднял Метиа, понёс к арбе и положил на свежескошенную траву, которая лежала на арбе.
– Успокойся, детка, успокойся, – повторил погонщик, – я сейчас отвезу вас к Георгию. Или может быть, вас домой отвезти?
Метиа подняла голову, словно соображая, куда лучше поехать, но затем опять откинулась на сено и сказала:
– Нет, лучше уж к отцу отвезите нас.

Обессиленная от страха, я еле вскарабкалась на арбу и села рядом с Метиа.
Арба и без того шла медленно, а теперь мне вообще казалось, что быки топтались на одном месте, будто и колёса не крутились. В душе я умоляла быков идти как можно быстрее, но они продолжали топтаться на одном месте.
Покачиваясь в такт еле движущейся арбы, Метиа иногда стонала и почему-то прятала лицо в траву. Наконец-то мы стали медленно приближаться к пекарне, потому что вдруг ветер донёс до нас запах хлеба. Тётя Буциа считала запах хлеба самым прекрасным запахом на земле. Прежде чем откусить от ломтя, она долго нюхала его, качала восхищённо головой и причмокивала губами. После её слов я тоже стала по-другому относиться и к хлебу, и к его замечательному запаху.
– Ну, мы скоро приедем или не скоро? – спросила Метиа погонщика.
– Ещё немного потерпи, детка, и приедем… Болит ещё или полегчало? – спросил погонщик. – Не дай бог, аппендицит… Или чего съела вредного?..
– Да нет, мне, кажется, полегче… – сказала Метиа и села, но на меня она по-прежнему не смотрела.
Запах свежеиспечённого хлеба накатывался на нас, ну прямо как волны.
Показался домик, выкрашенный в белый цвет.
Перед домом, на длинной скамье, под единственным деревом, сидел дядя Георгий, на нём был белый фартук. Увидев нас, он заулыбался и встал.
– Твой ребёнок меня чуть с ума не свёл, – пожаловался погонщик.
Метиа с трудом сошла с арбы.
– Что с тобой, дочка! – испугался Георгий.
– Папочка, – сказала жалобным голосом Метиа, – дай мне хлеба… Я проголодалась…
– А что же всё-таки случилось с этой окаянной притворщицей? – повернулся ко мне дядя Георгий.
– У неё живот заболел, – пояснила я, – и она…
– И я чуть не умерла… – не дала закончить мне мои слова Метиа.
Дядя Георгий укоризненно поцокал языком, вынес из белого дома два высоких круглых каравая, один положил в мою корзину, а другой положил в корзину Метиа. Я поблагодарила дядю Георгия, а деньги отдать ему постеснялась и положила их в руку Метиа. Затем я сказала, покраснев:
– Тётя Писти нас тоже попросила принести ей хлеба, но мы… мы сказали, что идём на пастбище…
Дядя Георгий посмотрел подозрительно на свою дочь, развёл молча руками – что, мол, поделаешь с этой выдумщицей – и ещё вынес из белого дома круглый хлеб и положил мне в корзину. Я поблагодарила его, дядя Георгий довольно засмеялся и, погладив меня по голове, сказал:
– Хлеб вкусный, так что в дороге будьте осторожны, не объешьтесь, а то опять… животы заболят…
– Счастливо оставаться, батоно, – сказала Метиа, обнимая отца, целуя и моргая ему глазами так, будто хотела сказать: «Я вам ещё всем такого напридумаю». Затем она поставила корзину на плечо, и мы пошли с ней обратно в деревню.
Метиа без оглядки шла впереди меня, даже не разговаривая со мной, и так, как будто бы с ней недавно ничего такого и не случилось. Я продолжала на неё сердиться и поэтому старалась отстать. С просёлочной дороги мы спустились к речке, перепрыгивая с камня на камень, и только вышли на тропинку, как вдруг Метиа поставила корзину на землю…
– Что случилось? – подозрительно спросила я. – Неужели опять заболел живот?..
Метиа снова схватилась за живот, но на этот раз уже от смеха. Она перестала смеяться так же внезапно, как и начала, и сказала серьёзно:
– Я её прокатила на арбе, и она же сердится!
– На арбе нас прокатила не ты, а погонщик, – ответила я, – и для этого не нужно было устраивать целый спектакль… какой ты устроила. У меня вот сердце до сих пор, как лягушка, прыгает в разные стороны. Артистка ты!..
После этих слов Метиа присела возле своей корзины на корточки и долго сидела так, думая серьёзно, как взрослая. Затем она сказала:
– И совсем я не артистка… Просто мне так… интереснее. – Помолчала и добавила: – Тебе интересно следить за мальками в речке, а мне интересно, что деревянная коряга похожа на живую акулу. Просто… Мы с тобой… разные… И за это не надо на меня обижаться!..
Но разве можно на Метиа долго сердиться? Я подбежала к ней, мы снова обнялись, подняли корзины, поставили их на плечи и весело направились к дому.