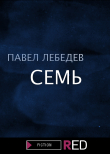Текст книги "Семь писем о лете"
Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
3
Черный ящик
Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою.
Откр. Иоанна Богослова
– «Пламя – это область пространства, в которой происходит горение…» – бормотал Серега Сорокин. Он держал под мышкой немного обугленный деревянный ящичек, добытый на чердаке. Кусок брезента, в который был завернут ящичек, успел сгореть, а сам ящичек Серега спас, хоть и наступил на него, когда добивал огонь на чердаке, и малость повредил.
– Что бормочешь, акадэмик? Заклинания? – прохрипел Петр Никитич, прохрипел, потому что связки у него были обожжены уже много лет назад и лечены, конечно, в основном, спиртосодержащими жидкостями. Но в меру. В меру. Иначе какой же из него… Но не о том речь.
Серега без году неделя окончил Пожарную академию и намеревался делать офицерскую карьеру, но щенок был еще, по пожарным понятиям, а потому отношение было к нему соответствующее: дрессура – называлось бы в цирке такое отношение. Дрессировщик его Петр Никитич натуру имел не то что дурную, это не так, но и добряком не был, к тому же и «академиев не кончал», а потому гонял и подначивал Серегу.
– Заклинания, спрашиваю?
– Да так, – отвечал Серега, – науку повторяю.
– Самое время, самое время, – рычал Петр Никитич, который возился у открытого люка. – А работать, стало быть, неученые будут…
– Не заедайся, Петр Никитич, – сказал Серега. – Заклинания не наука изобретает. А всякие там… заклинатели. Ты таких в глаза видел? И вот если я тебя сейчас спрошу, помогать или нет, ты меня по-доброму пошлешь. Так?
– Да че тут работать-то… – отвернулся Петр Никитич, ибо Серега был прав по поводу доброго посыла, но уж коли упредил по своей догадливости, то и посылать неинтересно. – Че работать-то? Все уже, отработали. Грузись, по коням, домой поехали. Че там у тебя за трофей? Золото-бриллианты?
– Бумаги какие-то, письма, что ли… Конверты там. Не смотрел еще, – ответил Серега.
– А тебе не ведомо, акадэмик, что такие вещественные факты дознавателям положено оставлять? – обрадовался воспитательному случаю Петр Никитич и даже выпрямился во весь свой немалый рост. – Взысканиев еще не получал? Полу-у-чишь, орелик…
– А тебе не ведомо, Петр Никитич, что такие вещественные факты, бумажные то есть, пока до них дознаватели доберутся, сто раз истлеть успеют на угольках? Или в кислоте пропадут? Что ты цепляешься? А к дознавателям я эту пачечку и так отправлю, сдалась она мне.
– Как это ты отправишь? Поперек начальства? Засекут – рапорта год писать будешь, вот тебе и взыскание. Чтоб впредь не цапал на пожаре. Поперек судьбы. Что должно сгореть, то и горит, так и знай.
– Тогда и тушить не стоило, раз судьба. Гори оно все…
– Поговори мне еще! – возвысил голос Петр Никитич. – Ты пока тонкостей пожарного дела не знаешь, твое дело – молчать и делать, что говорят старшие. Умник нашелся! Акадэмик, т-твою…
– Петр Никитич, угомонись! И рапорт напишу, и отправлю – все по правилам будет, чего пристал? Не тебе же взыскание получать?
– А, – махнул рукой Петр Никитич, – хочешь нарываться, дело твое. Мне-то что, в саммделе? Я предупредил…
Серега и вправду собирался отдать находку дознавателям, вернее, дознавателю, то есть даже дознавательнице – по имени Лариса, с которой он познакомился на выпускной гулянке в Академии, танцевал с ней, потом гулял неделю ночами, приглашал в кафе, и все у них сложилось самым замечательным образом. Не так давно он был представлен Ларисиным родителям в качестве жениха и даже произнес старомодную фразу о прошении руки.
– Не утруждайся, – махнул рукой Ларкин папахен, – что изменится от того, если мы с Кирой проявим самодурство и не велим вам жениться? Кира, как ты думаешь, что изменится?
Ларкина маман, та самая Кира, отвечала несколько томно и с улыбкой:
– Я думаю, Марик, наши возражения будут проигнорированы. Вы же не бандит, Сергей, и не эстрадный зануда. Зачем же мы будем вам отказывать? Мы с Мариком рады Лариному выбору.
На самом-то деле Марк Юльевич (назовем его так по созвучию с настоящим именем-отчеством), Ларисин отец, являвшийся некоей, пусть и небольшой величиной в «структурах», запросто мог отвадить претендента в зятья, но Сергей его вполне устраивал. Потому что, действительно, не был ни бандитом, ни «эстрадным занудой», как выразилась его супруга, ни «хомяком», как сам он определял людей с гуманитарными склонностями и поэтическими задвигами, а, следовательно, со смутными житейскими и материальными перспективами.
Так или иначе, Серега пришелся ко двору. И теперь он надеялся, что его находка при посредстве Ларисы попадет в руки Марка Юльевича. И тот, пользуясь своими служебными полномочиями, сможет отыскать адресата семи конвертов, обнаруженных Серегой на погоревшем чердаке «дома с башнями».
Марк Юльевич не отказал, но и в восторг не пришел. Но был он, не в упрек ему сказано, тщеславен, как бывает тщеславен иллюзионист, что вызывает фокусами своими изумление почтеннейшей публики. И поэтому, желая показать свои возможности будущему зятю, а также проявить лишний раз – на всякий случай – свое благорасположение, он согласился навести справки относительно адресата писем, спасенных Серегой. Но…
– Но должен сказать, Сергей, что мало надежды. Скорее всего, этой Анастасии Александровны Афанасьевой и следа не осталось в земных пределах. Конверты, видишь, старые. Хорошо, что из толстой крафтовой бумаги, в таких заказные письма, верно, отправляли. Я думаю, военного времени послания. Конверты мы, конечно, вскроем, ничего не поделаешь! Возможно, внутри найдутся какие-то факты, которые помогут нам найти эту самую Анастасию Афанасьеву. Или ее потомков, что скорее.
– На ощупь там, похоже, фотографии, – заметил Сергей. – И довольно много. Такие толстые конверты.
– Похоже, похоже, – закивал Марк Юльевич. – Тем более следует вскрыть. Но я тебе гарантирую: ничто не пропадет. Если ничего такого, ну, ты понимаешь… Если ничего такого, то расследование проведем в частном порядке, шерочка с машерочкой, как говорится, шерше наведут.
– Спасибо, Марк Юльевич, – сказал Серега. Но в глубине души решил, что вляпался. Он-то надеялся, что все будет намного проще: стоит только передать конверты будущему тестю, как они легко и просто, по некоему мановению, попадут к адресату, и все будут довольны – и адресат тем, что получил, вернее, получила, весть из собственной далекой юности, и Серега с Марком Юльевичем – своим собственным благородством.
– Не за что благодарить, – потянулся в кресле Ларкин папахен. И повторил мысль мудрого Петра Никитича: – Знаешь, Сергей, я оценил твой порыв, но… вполне возможно, что не стоило тревожить это старье. Пусть бы горело, меньше проблем. Ты извини, но, если здесь, в конвертах, некий вселенский или даже местного значения геморрой, я сделаю вид, что в глаза их не видел, и тебе от души посоветую тоже лишиться памяти.
– О’кей, – кивнул Серега.
– И отлично, – пропел папахен, гася холодные искорки в глазах, и поболтал льдинками в стакане с виски. – За взаимопонимание!
– О’кей, – качнул Серега своим стаканом.
В конвертах никакого геморроя, однако, не оказалось.
Но были там письма – семь писем ленинградского мальчика. Семь писем на пропахших дымом старых, рыхлых тетрадных листках и множество фотографий города, стоявшего на пороге мученичества.
Времени после разговора прошло с неделю и:
– Я ее нашел, эту самую Анастасию Александровну Афанасьеву, – сообщил папахен почти накануне свадьбы, – жива еще. Вот адрес, если птички в паспортном не напутали. По возрасту – она. Но сколько там ей лет теперь? Старуха. Или в маразме, или слаба. Ты вообрази, что с ней сделают эти письма? Могут и убить. Так что на твоей совести – нести или не нести. Как хочешь. Вот конверты в этом пакете. Вскрывались аккуратно, ничего не порвано, не потеряно. В музей города бы эти снимки, да больше забот у меня нет. Нигде это твое сокровище не заприходовано. Вот сам и выбирай: в музей отдать или старушке. Или выбросить и забыть. Принимай, друг, решение. Это чтобы ты знал, что всякая инициатива наказуема.
Серега недолго думая выбрал старушку, раз уж жива, пусть сама распоряжается. Но сам писем не понес, памятуя о наказуемости инициативы, а также из боязни старушечьих эмоций и сердечных припадков. Он попросту отправил по почте бандероль, а потом, женившись на Ларисе, забыл обо всем в радостях свадебного путешествия на турецкий курорт.
Сереге Сорокину мы скажем спасибо, так же как и «птичкам» из паспортного отдела – оттого что прозевали в картотеке заметку о том, что адресат, подходящий по возрасту, по причине смерти выбыл. На возраст же нашей Аси, полной тезки своей прабабушки, «птички» внимания не обратили. Но нет сомнения, что и Серега, и «птички», и Марк Юльевич послужили, что называется, орудиями судьбы. И я осмеливаюсь подозревать, что и разгильдяйство, приведшее к возгоранию строительного мусора на чердаке «дома с башнями», случилось не просто так.
Не нами замечено, что ручейки случайностей наполняют реку судьбы, и все мы плывем по этой реке в неведомый нам океан…
* * *
Кто из вас в ранней юности не измышлял себе любви, кто не спасал ее или не был спасаем из волн морских, не вызволял или не был вызволяем из огненного плена, кто в противостоянии – один против многих – не защищал любовь свою от покушений злоумышленников, пусть бросит в меня камень. Пусть бросит, но окажется либо лжецом, либо беспамятным, либо предавшим свою перволюбовь.
Перволюбовью я называю то изначальное, измышленное чувство, тот совершенный сюжет, который если и терпит питающие его дополнения, то все равно замкнут, как новорожденный бутон. И чудо в том, что этот сюжет по нашей воле постоянно переживается как новоявленный, как откровение. И чудо в том, что он существует. И сотворенный нами избранник, без всякого сомнения, достоин наших высоких чувств, нашей жертвенности и нашей благодарности.
Трагедия перволюбви в том, что она, невоплощенная, со временем и по мере нашего взросления изживается в повседневности, исходит на иллюзии, но тлеет, все тлеет в самой глубокой глубине и не дает живой душе успокоения. Мы ищем, и ждем, и надеемся на обретение, не отдавая себе в том отчета. И в многократных наших разочарованиях, в страхе перед обыденностью, в тоске, вызываемой обыкновенностью, в бытовой скуке виновны именно наши мечтания. Но покуда живы они, жива и душа, их породившая.
Если же чья-то перволюбовь обретает свое воплощение и расцветает, то слагается предание. Но души, погрязшие в убожестве, считают – чтобы утешиться – такие предания небылицами, тем более что внятного завершения у таких преданий не имеется, потому что какое же может быть завершение у расцветшей мечты? Какое же? Страшно подумать. Да и не хочется думать о том, принесет ли плоды цветение или сгинет пустоцветом. Или распылится мечта по Вселенной, и каждый атом ее будет миллионы лет скитаться в поисках своей орбиты, лишь иногда вспыхивая отраженным светом чужих звезд…
Беда в том, что нам не дано понимание результата – перед нами бездна. Я же говорю – природа мечты, природа перволюбви трагична, на острие иглы существует греза, осуществление ее или увядание одинаково означают прощание с нею. Столь же горестна она, затянувшаяся на жизнь и привычная или, в иных условиях – при высокочувствительности ее творца, способная иссушить его, измучить и даже довести до безумия.
Но блажен тот, кому светит она в юности – свято и трепетно. Чрезвычайную ранимость придает она, но какой при этом силой наделяет! И как бы желалось, чтобы сила эта оставалась с нами до конца нашего пути. Но…
Но пора вернуться к нашей повести.
…Ася, Ася.
* * *
– Ася! Ася! – позвал с порога Александр Андреевич, Асин отец. – Ася! Ты дома? Ася, ты меня слышишь? Анастасия, дитя мое!
Ася сидела у окна в своей комнате и смотрела на дождь, размывший краски лета, и думалось ей, что и чувства, и души человеческие блекнут под дождем, и расстояния, их разделяющие, становятся неизмеримыми, такими, что нет надежды их преодолеть. Струи как струны, натянутые в проеме окна, и звучит тоскливая и однообразная мелодия одиночества.
– Анастасия, дитя мое!!!
Если папа говорит «дитя мое», значит, делать вид, что не слышишь его, не стоит, потому что настал момент колебательный – между обычной добродушной сдержанностью и приступом редкой, но довольно-таки бурно выражающейся раздражительности, в общем простительной для хирурга после случающихся трех-четырех срочных полостных операций в сутки.
– Анастасия!
– Ммм?
– Что за манера мычать?
– Здравствуй, папа! – строптиво подчеркивая каждый звук, проговорила Ася и потянула за проводки наушников-бусинок. Наушники повисли у колен, тихо брякнув друг о дружку.
– Здравствуй, дитя мое! Может быть, ты целиком выйдешь из комнаты? Мне неудобно разговаривать с частью тебя.
– Это как раз та моя часть, – пробурчала Ася, – которая умеет разговаривать, тогда как другая для беседы бесполезна. Вот если бы у меня вырос хвост, тогда – да, тогда я могла бы с его помощью выражать эмоции и, не сомневайся, появилась бы целиком. Ах, папа! – воскликнула Ася на манер старинной барышни (при разговоре с отцом она обычно придерживалась именно такого стиля). – Ах, папа, мне так не хватает хвоста!
– Я пришью тебе поросячий, как наиболее ярко выражающий твою сущность, – пообещал Александр Андреевич, устанавливая в углу прихожей раскрытый мокрый зонт, – или обезьяний – еще лучше. Когда наступят, наконец, блаженные времена и мне будет нечего делать.
– То есть когда рак на горе свистнет. И это называется родительская любовь… – с дурным трагизмом в голосе произнесла Ася, появляясь пред родительскими очами целиком. Она вырядилась в прабабушки-Настину газовую кофточку без рукавов, с бантиком у горла и с обильными рюшами, которая странным образом сочеталась с потертыми и оборванными по колени джинсами. Кофточка обвисала на Асиной неявной груди, сквозь газовую материю просвечивала цветная полоска лифчика. Клипса наушников держалась на перекошенном бантике.
– Так что? – осведомилась Ася. – Что-то важное или любящий отец просто соскучился по своей дочери?
– Не стоит культивировать в себе нахальство, дочь моя, – проворчал Александр Андреевич, – не то я в очередной раз пожалею, что выросла ты непоротой. Не нами сказано: «Розга ум вострит, память возбуждает и злую волю в благу прелагает». Как там еще? А, да:
Целуйте розгу, бич и жезл лобзайте.
Та суть безвинна, тех не проклинайте:
И рук, яже вам язви налагают,
Ибо не зла вам, но добра желают.
– Папа!!!
– Что такое? Древняя мудрость. Это, знаешь ли, сызмальства заучивали, когда читать учились. Это тебе не «мама мыла раму», а Симеон Полоцкий. А ты такого и не знаешь!
– Пусть бы и Пушкин, папа. Только, глядя на тебя, не скажешь, что ты был порот в детстве.
– Будь я порот, пошел бы не в хирурги, а в банкиры. Они тоже в некотором роде живорезы, но не в пример богаче. А вот твой дед, будь он порот, как раз пошел бы в хирурги, как желалось твоей прабабушке Насте, а не в топографы и не таскал бы треногу, из-за которой у него теперь две межпозвоночные грыжи. И я не уговаривал бы его избавиться от них радикальным способом. Так. Ладно. Хочу тебя спросить вот о чем: не знаешь ли ты, кто такой С. В. Сорокин?
– Какой еще Сорокин?
– Это я тебя спрашиваю – какой?
– Среди моих знакомых, папа, нет Сорокиных. Есть Суровых, есть Сироткин, есть Соколов и Синицына. А что до Сорокина – нет, не найдется. Весьма сожалею, – высокомерно изрекла Ася. – Это все, о чем ты хотел спросить, папа? Я могу пойти к себе?
– Тогда, должно быть, какая-то ошибка, – как бы и не к Асе обращаясь, проговорил Александр Андреевич и вытащил из кармана невзрачный бланк почтового уведомления и прочитал: – Афанасьевой Анастасии Александровне, Санкт-Петербург, улица Пушкарская, дом номер… квартира наша. Извещение, по которому следует получить бандероль-с. От упомянутого С. В. Сорокина, проживающего… Так. В СПб. По адресу… Не разобрать. То ли улица Красного Курсанта, то ли что-то Красносельское. Выбросить, что ли, бумажку?
– Не понимаю, – дернула плечиком Ася. Но взгляд ее стал растерянным, и что-то заклубилось в сердечке. Предчувствие, как сказали бы в не столь еще далекие времена, и как теперь говорить вроде бы уже не принято – старомодно, стеснительно, а ваш покорный слуга не знает, как сказать по-другому.
– Вот и я не понимаю, – помахал рукой Александр Андреевич. – Дождь кончится, и пойдем на почту. Или завтра. Одной тебе ходить не следует. Мало ли что… Подозрительное послание.
– Значит, если дождь будет лить неделю, то пойдем через неделю? – вскинула бровки Ася.
– Как знать. Я ноги промочил, а простужаться мне нельзя. Чихающий хирург опасен для жизни пациента неизмеримо больше, чем не чихающий. Переоденусь, подсохну, согреюсь, отобедаю… Так. Меня накормят обедом в этом доме? Или некому? Ответь, дочь моя!
– Мама на дежурстве, если ты забыл. Дед… в некотором роде тоже. На боевом посту, – насплетничала Ася.
– Понятно. У Дон Жуана очередной роман века. Букеты, конфеты. Сонеты… И кончится все как обычно: кряхтеньем, иглоукалыванием и физиотерапией поясничной области. А обед? – потянул носом Александр Андреевич.
– Еще не остыл, все на плите, – чирикнула Ася и удалилась в свои апартаменты. И тут же вставила в уши музыкальные горошины, чтобы не слышать возмущенной тирады отца по поводу того, что кое-кто, вот уже три недели валяющий дурака на каникулах, мог бы и подать усталому родителю тарелку супа.
Ася затихарилась в своей комнате и выжидала, как зверек в норке. Она больше не тосковала у залитого дождем окна. Она надеялась и даже кое-как молилась, обращаясь то ли к низкому меняющему облачный рисунок небу, то ли к ветру, бросающему дождь в оконное стекло, то ли к мокрому тополю за окном, который, посаженный сразу после блокады, вымахал нынче и, скрипя под ветром, размазывал по небу облака. Она надеялась на то, что отец после обеда уляжется на диван перед телевизором и вскорости уснет, как это чаще всего случалось после дежурства в больнице. И, выражаясь в старинной высокопарной, милой моему сердцу манере, надежды Асины оправдались, мольбы были услышаны.
Она прислушивалась: из-за тонкой стенки доносилось негромкое телевизионное бормотание, но ни скрипа диванных пружин, ни покашливания она не услышала. Это означало, что отец спит.
Ася прошмыгнула в прихожую, влезла в резиновые сапоги, накинула дедову летнюю куртку, потому что висела куртка удобно – так, что, потянув за нее, Ася не рисковала обрушить всю гору до сих пор не убранной теплой одежды. Потом она осторожно, чтобы не хлопнул, сложила отцовский большой и черный, как пиратский парус, зонт, повесила его на руку. Квитанцию, неосмотрительно оставленную Александром Андреевичем на подзеркальном столике, Ася сунула во внутренний карман куртки. Подхватила мамину клеенчатую пляжную сумку, выбранную по причине ее непромокаемости и вместительности, и тут подумала, что при получении посылок, бандеролей, заказных писем, скорее всего и даже наверняка, необходим паспорт. Ей пришлось вернуться за паспортом в свою комнату и отыскивать его среди разбросанных на столе книжек и дисков.
Паспорт ни в какую не находился, и Ася испугалась было, что потеряла документ, но потом неожиданно он выпал из тома «Горной энциклопедии», которую всеядный в книжном отношении дед приволок в Асину комнату, когда его в очередной раз выставили из своей. Вряд ли дед счел Асин паспорт самой подходящей закладкой для страницы, где рассказывалось о процессах метаморфизма горных пород, скорее всего, не глядя, схватил, что под руку попалось.
Паспорт Ася положила в тот же карман куртки, что и квитанцию, и пулей вылетела из дому. От звука захлопнувшейся двери проснулся Александр Андреевич, но Аси уже и след простыл.
…И состоялась встреча.
Мы ведь знаем, что было в бандероли, которую получила Ася.
Она открывала конверты со стертыми до дыр уголками, перебирала фотографии, не всегда четкие, но говорящие, разглаживала пожелтевшую бумагу и читала, читала, читала и перечитывала письма Миши Январева. Миши, который явился, будто услышав ее зов, и теперь беседовал с нею, рассказывал, вспоминал, делился сокровенным и робко признавался в любви, так робко, будто в самой глубине души не надеялся на то, что встреча когда-нибудь состоится.
* * *
Майк, он же Январь, развешивал на веревочках, протянутых через его личный закуток в коммунальной студии, только что проявленные фотографии, еще мокрые, отпечатанные с пленки, которую он искренне считал запоротой в смысле художественном. И апрель, май и половина июня оказались временем невдохновенным, большую часть фотографий он вообще постыдился бы кому-либо показывать и ругал себя за дилетантство, которое вдруг вылезло внезапно, хотя, казалось бы, навсегда было притоптано зимой, загнано в небытие, как нечисть. Неудача эта была, наверное, ниспослана свыше, чтобы он, много недель ликовавший после своего зимнего успеха, не зазнавался.
Зимой, вернее, в начале марта, в Манеже представляли петербургскую тему художники и фотографы. Выставка была ностальгической и душевной, и в ней, разумеется, не могли не участвовать Мишин дед Владимир и дядя Саша.
Дед был известным, заслуженным фотографом, мастером художественной съемки, много лет снимал город и был автором нескольких альбомов; его охотно приглашали галереи – и для участия в выставках, и для того, чтобы он фотографировал выставочные работы для каталогов.
А дядя Саша (его сын и родной брат Мишиного отца, входящий в Союз художник) писал «уходящую натуру», как это у него называлось. То есть писал – широкой кистью, будто питерским своенравным ветром или удалой, точной и мудрой, дворницкой метлой – проходные дворы, облезлые крыши под блеклым небом, трамваи, убегающие в далекую перспективу, старые деревья в парках, особняки, поливаемые дождем и отражающиеся в мокром асфальте и в речных водах. Писал истоптанный, в трещинах, серо-розовый гранит набережных и сохранившуюся кое-где синюю брусчатку переулков, смиренные городские кладбища и еще серых и черных котов и псов – бродячие неприкаянные городские души.
Выставка была ностальгической и душевной, как уже упоминалось, а ностальгии и душевности в среде питерских фотографов и художников всегда в избытке, поэтому отбор произведений душевным отнюдь не был, и имели место многочисленные интриги, потому что сколь ни велик выставочный зал, а все ж не безразмерен. Но дед Владимир и дядя Саша были непременными участниками подобных выставок. Стало быть, и речи не шло о том, чтобы не принять их работы или даже просто ограничить их участие, сократить количество заявленных произведений или развесить их невыгодным образом, например, в глухом и душном и почему-то всегда дурно освещенном левом приделе первого этажа. Но мало того, они на пару – по словам деда Владимира, «используя достижения макиавеллевской дипломатии», – сумели устроить так, чтобы на выставку приняли и несколько Мишиных работ, составляющих серию. «Дипломатия» эта, честно говоря, свелась к тому, что Январевы-старшие уговорили Илью Саватеева, любимого дяди-Сашиного ученика, уступить забронированное за ним «пространство экспозиции» Мишке, посулив за это выставку в престижнейшей галерее «Ленинград». Зато в «Петербургском салоне», как назывались подобные экспозиции в Манеже, к вящей зависти и возмущению многих, оказалось сразу трое Январевых.
Но что победителям до сплетен!
Однако вот что удивительно: поощрительную грамоту, помимо диплома участника, получил только один из них, а именно – Миша, за свою серию зимних черно-белых городских пейзажей и жанровых композиций, выполненных способом комбинирования старинных – коллекционных, из дедовых-прадедовых запасов, – и новых, собственно Мишиных, фотографий. Одну из таких композиций – Львиный мостик в снегу и рядом с огромным белым заснеженным львом продрогшая барышня в длинной юбке, в короткой и узкой в талии курточке, в заснеженной шапочке и в муфте – музей выразил желание приобрести для своих фондов.
Мише польстило предложение – он и не чаял, что такое может произойти, но жаль было расставаться с удачной работой, тем более что она входила в коллекционную серию, и коллекция без нее осиротела бы.
Конечно, Миша мог бы попытаться сделать копию, но техника работы была во многом основана на случайных эффектах, на капризах химикалий, на ювелирной точности выдержки, на благосклонности капризного, сложнохарактерного, иногда даже злокозненного и – непостижимого божества фотографов и художников, которое мы привыкли называть попросту светом.
И только Миша знал, сколько материала было забраковано, сколько неудач пережито, сколько идей развоплотилось в тупиках неудавшихся экспериментов, прежде чем внезапно в ванночке с проявителем он увидел то, что стремился увидеть: полупрозрачный – призрачный – заснеженный силуэт девушки, глядящей из некоего своего времени на каменного – будто бы застывшего в вечности – белого льва. Вот так-то.
Переговоры о продаже «Львиного мостика зимой» вел дядя Саша как представитель несовершеннолетнего племянника. Он прекрасно понимал противоречивость Мишиных чувств. Но понимал также, что пусть не гениальность, но истинность художника, что бы там ни говорили лентяи и неудачники, определяется все же востребованностью его произведений и что расставание со своими детищами для мастера не то что неизбежно, но закономерно. Данную истину он пытался втолковать Мише, который отвечал:
– Да все я понимаю, дядь Саш, но все равно… – И махал рукой. Будто отгонял назойливую муху. А потом вдруг, где-то через неделю уговоров-переговоров и легонькой нервотрепки, сказал: – Дядь Саш… Я тут решил… Или все, или ничего. Пусть или всю серию покупают, или обойдутся. И еще я хочу сделать альбом в том же духе, но в разные времена года.
Дядя Саша удивился, подумал, а потом, подумав, выразил свой восторг Мишиной идеей:
– А ты, Мишель, черт дери, прав! Пусть как бы всё покупают! Но они дорого не купят, Мишка. Какое там дорого! Ты все же как бы без году неделя… А уже условия диктуешь, претензии там, гордыня не по рангу… Но с другой стороны, как бы… Мне бы в твои годы так-то… Всяко лучше, чем ничего. Попробовать-то можно. Деда привлечем, чтобы поднажал.
И предложение под деликатным, но твердым нажимом дяди и деда Январевых было принято. Цены настоящей небогатые музейщики, конечно, не дали, но в соглашении о купле-продаже оговорено было условие, что серия фотографий Михаила Январева «Зима в Петербурге» будет по первому требованию предоставлена автору для изготовления репродукций. Когда он, скажем, по достижении совершеннолетия (вряд ли раньше, предположил дед Владимир) соберется подготавливать к изданию фотоальбом «Петербургские тени», или «Петербургские видения», или «Путешествие в Петербург», или как там еще будущий автор его назовет.
Это был успех. Вдохновляющий, окрыляющий, доводящий до бессонницы, питающий мечты ни более ни менее как о мировой славе. Несколько мучительный, как всякий истинный успех. Но…
Но снег этой вдохновенной зимы стаял, и грянул май, на редкость теплый, даже жаркий, и вдохновение будто бы растаяло вместе со снегом, испарилось на солнце, и стали у Миши-Майка получаться только «умилительные картинки для отроковиц, старых барынь и туристов», как определял их дед Владимир. А самолично Майк Январь именовал и вовсе непечатно.
И вот теперь он развешивал на прищепках результаты двухмесячных съемок, питая слабую надежду на то, что хоть одна-две фотографии из множества нащелканных получились приличными и смогут послужить материалом для дальнейшей сложной и кропотливой работы, смогут послужить ловушкой для той случайности, которая являет на свет божий шедевр.
Сравнительно пристойных, пусть и по-питерски несколько банальных, фотографий оказалось не одна или две, а даже четыре. Там были вода и небо, вылизанный невской водой гранит ступеней, взлетающая с парапета набережной чайка, немножко смазанная и потому ненавязчивая разноэтажная архитектура и еще изломанное отражение фонаря в мрачной луже, избитой дождем. Фонарь Майк снимал буквально на днях, когда июнь – обманчивое лето – вдруг накликал циклон, продрог и рассопливился и зарядил тягомутными недельными дождями.
Итак, сто́ящих фотографий оказалось четыре. Остальные можно было под автограф или даже просто так, если уж совсем постыдные, раздаривать знакомым девчонкам или отдать маме, чтобы она поступила с ними по своему усмотрению. С мамой существовала договоренность о том, что Майк невостребованные фотографии или те, которые он счел негодными, не выбрасывает, а отдает ей. Майк чаще всего соблюдал договоренность. Обычно мама раскладывала его работы по альбомам и бережно хранила, но иногда, в порыве тщеславной щедрости, дарила то, что ей не слишком нравилось, какой-нибудь своей подружке и с удовольствием выслушивала восторженные комментарии по поводу гениальности ее сына.
Когда фотографии просохли, Майк занялся их сортировкой. Четыре упомянутых сложил в особую папку для перспективных черновых работ, туда же поместил и негативы. А остальные снимки перебирал и раскладывал налево-направо – для девиц, для мамы. Одну он вдруг задержал в руках, раздумывая, куда бы ее. Девицам эта фотография не годилась, потому что на ней была – девица, лохматая, худенькая, с большой сумкой в обнимку. Маме фотография не годилась, потому что вызвала бы бесконечные расспросы о том, кто такая лохматая и зачем Мишеньке понадобилось снимать этакое чучело, неужели у него такие знакомые?
– Это в вашей коммуне такие? Творческие натуры? – широко раскрыв глаза, сиплым шепотом спросила бы мама. – Я так и предполагала, Миша. Я была уверена, что у вас там бедлам и грязь. Разве ты не видишь, что она на бродяжку похожа? Она из панков или каких-нибудь обновленных хиппи? Сразу видно, что в голове у нее такое же безобразие, как и на голове. Неаккуратная девушка. Неженственная. Наверняка еще и курит или даже хуже. Наверняка она… слишком доступна. Неужели ты с ней… дружишь?!
И попробуй потом докажи, что снимок случайный. Попробуй – и замучаешься долгими объяснениями, утонешь в странных маминых подозрениях, ни на чем не основанных выводах и вопросах, на которые как ни ответишь, все будет невпопад и многосмысленно.
Попробуй доказать, и, все прокляв, запутаешься, как запутался когда-то давно ушедший от нее, утомившийся непрестанными доказательствами отец. Ушел он, потому что в какой-то момент ясно осознал, что все равно ничего не докажешь женщине, жаждущей высокой драмы или даже трагедии, постоянно ищущей театральности, аффекта, явленного идеала в тусклых буднях неуспешной и никчемной инженерши, живущей в постоянном страхе перед сокращением штатов и недовольством начальства. Еще достаточно молодой и привлекательной, но, несмотря на свои искания, которые отец определял как рудиментарно подростковые, не способной к обновлению и полету, не способной оценить мелкие жизненные радости.