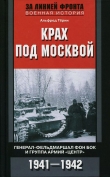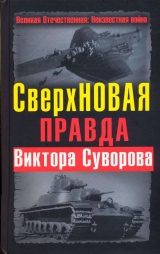
Текст книги "СверхНОВАЯ правда Виктора Суворова"
Автор книги: Дмитрий Хмельницкий
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Но на что же обратить более пристальное внимание в этот раз? Может, на «главное»? Как там ехидничают борцы с фальсификацией, обращаясь к обсуждению книг Виктора Суворова? «Так в главном же он прав!» Остается определиться, что же оно из себя представляет.
Главный вопрос: как же так получилось, что враг смог не только напасть неожиданно, но и пройти тысячи километров? И почему перед «обратным броском» потребовалось понести столько потерь? Если спустя год боев и страшных лишений наконец-то нашлись силы, которые смогли остановить врага, а потом и повернуть его вспять, то куда они подевались в самом начале?
И что означает само понятие «силы»? Вот некоторые предлагают аллегории. Одну сторону сравнивают с пионером – юным любителем, которому до профи – аса еще расти и расти. А другой стороне отводят роль готового боксера – Тайсона. Который, дескать, уже давно набрал мастерский класс. Корректно ли сравнение?
Вряд ли. Но на ровном месте такая аллегория возникнуть не может. Что-то ее должно «питать». Например, давно кочующее по разным изданиям объяснение, что в июне 1941 г. связи не было. В первую очередь радиостанциями. Действительно, в мотомеханизированной войне при большой динамике мотать телефонные кабели как бы не всегда удобно. Рации в этом плане более полезны. Но, говорят, в июне 1941 г. раций в армии было мало. А если и были, то еще вопрос, как ими пользовались. Тем более что рациям нужны батареи или аккумуляторы. Это сейчас их можно купить почти в каждом подземном переходе. А тогда? И особенно в поле-лесу? Сядут аккумуляторы – и рация превращается в бесполезный тяжелый груз.
Но так ли это?
Знакомство с перечнем выпускавшихся до июня 1941 г. средств связи и военных учебников по подготовке солдат – связистов показывает, что технически связь была. Вплоть до боевых почтовых голубей. Кстати, в национальном музее Великой Отечественной войны города Киева выставлен приказ немецких властей времен оккупации уничтожить всех голубей в городе и прекратить их содержать (кто содержал на чердаках). Есть там еще один экспонат – портативная переносная динамо-мини-электростанция с ручкой. Крутишь – и получай ток для рации. Или для приемника «Телефункен». А чтобы не было перерывов в подаче тока, на такую станцию можно выделить двоих бойцов (или даже бригаду). Пока один крутит, другие отдыхают. И никакие зарядные станции типа ПЗС-З-У на базе ГАЗ-ААА не нужны (см. «Руководство по походным зарядным станциям (ПЗС)», Воениздат, 1940). Выставлена такая «ручная» станция в зале про быт партизан. Значит, у партизан в лесу источники тока были, а у профи-армии с ее зарядными станциями – нет? Странно как-то.
Однако некоторые историки предлагают как бы «забыть» и про станции ПЗС-З-У, и про передвижные обувные мастерские, и про массу другого всего прочего, что перечислено, например в длинных таблицах февральских 1941 г. предложений Генштаба по мобилизации армии. Вот только тогда при этих условиях и можно говорить, что армия не была профессиональной и ее вполне можно сравнить с пионером—начинающим любителем. И предлагать другие варианты объяснений аналогичного типа. В прошлом они выглядели вполне как бы логичными: «не успели…», «вовремя не развернулись по боевому штату…», «не закончили реорганизацию…», «враг напал неожиданно…», «и хотя угрозу вражеского нападения видели и вовсю готовились, но в полной мере подготовиться не смогли…».
Действительно, если не успели подготовиться, то ни о какой хорошей обороне речь идти не могла. Вроде бы логично. Вот только где-то в душе оставался «червяк» даже не сомнения, а большого сожаления о том большом количестве потерь в людях, технике и времени. Неужели нельзя было их резко уменьшить? Что же помешало? И «червяк сомнения» оставался.
И вот в конце 80-х нашелся один писатель, который к этим вопросам добавил уточнения: «не успели…» [а кто-то помешал?]. «Вовремя не развернули по боевому штату…» [на угрожаемой территории никто не воспрещает более полно развернуть войска заранее]. «Не закончили реорганизацию…» [извините, армия обязана быть готовой к обороне от нападения в любое время – хоть с реорганизацией, хоть без]. «Враг напал неожиданно…» [а разведка за что зарплату получала?] «И хотя угрозу вражеского нападения видели и вовсю готовились, но в полной мере подготовиться не смогли…» [если видели угрозу, то почему враг напал неожиданно?]. И так далее.
А действительно, так ли уж полно объясняют случившееся те объяснения? Может ли случиться одно, а объяснения даются про нечто другое?
Могу предложить вариант.
Сказочка про Большой домДопустим, жил-был себе в одной стране, в одном городе один Большой Дом. И пришла в него угрожающая весть, что в скором времени возможно наводнение. И стали его жильцы срочно к наводнению готовиться. И много чего сделали.
В частности:
Купили большой тримаран, многослойный корпус которого отлит из эпоксидной смолы. (Тримаран лучше обычной лодки, так как обычная лодка может перевернуться, если встать на ее борт или через него затаскивать груз.)
Заказали помпы по откачке воды. Много помп. И разместили их в одной большой комнате.
Купили очень большую канистру бензина для мотопомп, мотора тримарана и для других нужд. А также очень большую канистру керосина для керосинок. И поставили их в другой большой комнате.
И пригнали рать экскаваторов и бульдозеров прокопать обводной ров для отвода воды. И насыпать разные насыпи.
Да заготовили лопат, которые поскладировали в той же комнате, что и мотопомпы.
Да понасыпали насыпей, понакопали каких-то рвов. И замуровали дыры в фундаменте.
Короче, успели провести определенную подготовку, но не всю. Не везде через ров восстановили дорогу, не довели до ума насыпи, не подучили персонал работе с помпами и лопатами. Не назначили часовых (в очередь) бдить начало наводнения. Думали, что время еще есть.
Но вдруг внутри Дома однажды под утро случился пожар. Огонь сразу затушить не смогли. Кто проснулся, сразу не понял, что происходит. А огонь добрался до комнаты с канистрами бензина и керосина. Ну и все это ка-а-а-а-к полыхнет!
Народ начал выскакивал из Дома, в чем был. Тушить дальше организованно не получилось. Кто смог дотянуться до огнетушителей, тот пустил их в дело. Но часть из них оказалась просроченной, часть заперта в чуланах, остальных оказалось оч-ч-ч-ень ма-а-а-ло.
И лопат СНАРУЖИ тоже оказалось мало (так как все это было размещено внутри, которое полыхало «гори-гори – ясно»).
И помпы пропали внутри, так как быстро вытащить их все не смогли. Пришлось кидать землю на огонь чем попало, детскими лопатками, руками, а кто-то догадался еще и распилить-разломать Тримаран на куски. И приделать к тем кускам палки. Вот ими и кидали землю. И экскаваторы пригодились – их стрелы с ковшами на гидроприводах использовали как подъемники. И бульдозеры в дело пошли – к ним сзади на крюк цепляли бадьи, на которых к огню подтаскивали канистры с водой от соседней речки. И долго пытались дозвониться до пожарников. Местный телефон не работал – экскаватором повредили кабель. Мобилок тогда не было. Пришлось посылать гонца сначала пешком, а потом общественным транспортом.
Но он задачу выполнил. Донес весточку до пожарных. И вот через много часов к Дому подъехали пожарные машины. Но сначала к самому огню они подойти не смогли, так как рвы и насыпи помешали (на которых не успели мосты перекинуть). Пришлось время тратить на наводку понтонов.
И вот в конце концов понтоны навели, пожарники доехали, огонь потушили. И вышел вперед Главный Пожарник и задал вопрос: а почему так произошло? Разве к пожару этот Дом не готовился?
И вышел к нему Главный из жильцов и стал объяснять, что они только к пожару и готовились…
Но посмотрел Главный Пожарник на результаты, поспрашивал у свидетелей, и возникло у него много вопросов. Но Главный из жильцов стоял на своем – МЫ ГОТОВИЛИСЬ ТОЛЬКО К ПОЖАРУ!!! Только, дескать, к нему. Без вариантов!
Но не дали Главному Пожарнику провести расследование. Разные новые дела отвлекли. Пришлось ему срочно уехать на совещание к Высшему Начальнику.
А Большой Дом (то, что от него осталось) остался. И вот жителям (кто остался) надо было как-то объяснять, как же так все это произошло? Разве нельзя было избежать такой трагедии? Получше подготовиться?
И вот начали создаваться «Самые Важные Объяснения Большого Пожара». А также многочисленные «Воспоминания…» («Как мы тушили Большой Пожар»). И в них красной нитью проходила мысль, что жильцы Дома все свое время перед Большим Пожаром только и делали, что готовились к нему не покладая рук, не жалея времени и отказывая себе в повышении жизненного уровня.
В частности, как пример подготовки именно к Большому Пожару упоминалась заготовка большого количества водяных помп. И при этом особо подчеркивалось, что не бывает помп только для борьбы с наводнением или только для борьбы с пожарами. Помпа – она универсальна. Главное, куда опустить заборный шланг и куда направить выводной. Но, к сожалению, судьба Дому оставила очень мало времени, потому построить хорошие ВНЕШНИЕ склады для помп к Большому Пожару не успели. Успели только выкопать котлованы под них предусмотрительно согнанными экскаваторами. И бульдозеры тоже не бывают только противопожарными или только противонаводнительными. Инструмент и рабочая техника всегда универсальны. ВСЕГДА!
А также ВНЕШНИЕ склады для бензина и керосина тоже не успели построить до Большого Пожара. Успели только вырыть котлованы и сделать насыпи вокруг. Потому пришлось бензин и керосин хранить внутри Дома. Конечно, это было рискованно. Но были надежды, что Большой Пожар если и возникнет, то не раньше чем через год. Потому решили рискнуть, но риск, к большому сожалению, не оправдался.
А вот причину заготовки Тримарана историки Дома старались не обсуждать. Но потом возникли мемуары бывшего заместителя Председателя Домового Комитета, в которых выдвигалась гипотеза, что Тримаран был привезен по заказу одного из жильцов со второго этажа. И дескать, на нем этот жилец планировал двинуть в туристический поход, услышав провокационные слухи о возможном наводнении.
В конечном итоге во времена, пока еще были живы некоторые участники тушения Большого Пожара, эти объяснения принимались всеми жильцами как вполне правдивые и откровенные. Разве что иногда кое-кто на кухне позволял себе критические замечания к некоторым абзацам.
Прошло время, Дом отстроился заново, страсти поутихли. Но вдруг одного жильца очень заинтересовала история Тримарана. Он нашел пенсионера, который за бутылкой хорошего «Мартини» проговорился, что Тримаран готовился вообще-то для Большого Наводнения, слух о котором в то время затмил все другие темы в жизни Дома до Большого Пожара. И якобы и экскаваторы, и помпы, и рвы, и насыпи срочно возводились именно в ожидании Наводнения, а вовсе не для Большого Пожара. О Пожаре тогда мало кто думал. Надеялись, что воды будет валом – любой пожар смоет. Потому и огнетушителями толком не занимались. Зачем? Большого Пожара никто не ожидал, а для малого, как были уверены, имевшихся огнетушителей вполне должно хватить. И бензин с керосином потому и хранили внутри Дома, так как это был «Запас для периода Ненастья».
Но такое объяснение не устроило некоторых жильцов, которые уже привыкли к ранее созданным объяснениям. И вместо более углубленного поиска фактов и логических стыковок жильцы поделились на «наводнителей» и на «антинаводнителей». Вторые очень активно, рьяно и невзирая ни на что, стояли на своем – Дом в то время готовился только к Большому Пожару, а вовсе не к какому-то Наводнению, которое ими было объявлено абсолютным враньем и выдумкой (тем более что потом Наводнения в реальности так и не возникло).
«Где ваше хваленое Наводнение, а? – вопрошали они. – Слухи это все, вранье и бред!»
Борьба некоторое время шла с переменным успехом. Но вот в печати промелькнули фрагменты из каких-то проектов по подготовке к Наводнению. Это опять разожгло интерес к давней истории.
Но так как окончательное решение Домового Комитета не было принято, то проблема домовой истории так и осталась неуточненной. И попеременно возникали споры то там то сям, иногда заканчиваясь даже рукопашными «доказательствами».
Так и беседовали долгие годы.
Проблемы попыток объясненияНо может возникнуть и организационный вопрос: в чем проблема, если достаточно поднять документы в архивах, разложить их по датам и получить ответ, кто к чему готовился! Для чего какие-либо споры? Действительно, на первый взгляд проблемы вроде бы не существует. Даешь документы!
Но оказалось, что не все так просто.
В дискуссиях любителей истории Второй мировой (особенно на форумах в Интернете) можно заметить специфическое отношение к документам. Нельзя сказать, что их требуют всегда и везде и только обмениваются цитатами. При таком подходе ничего «специфического» не было бы. Отношение было бы простое и всем понятное: есть документ из архива? Проходи! Нет документа? Извините, о чем тогда разговор? Все равно настаиваете? Без вопросов! Но сначала будьте-ка так добры, сходите-ка в… э-э-э… например, в ЦАМО, найдите там документ, тогда и поговорим.
Но дело в том, что есть вопросы, под которые нормальные документы до сих пор не найдены. Причины разные. Вплоть до того, что плохо искали. Или не там. Или даже не пытались. Или те, которые уже давно сожгли (в присутствии двух свидетелей).
И как быть в таком случае? Обсуждать? Строить гипотезы? В смысле, фальсифицировать? Или сразу назвать такое обсуждение «альтернативной историей»? Но тогда это уже не реальность. Фантазии – оно и есть выдумка. Поэтому те же любители в тех же дискуссиях подобных вопросов все же касаются. Иногда очень даже с пылом-жаром. И при этом совершенно не стесняются сочинять нечто похожее на правду, но все же фантазии. То есть не без риска увести беседу в непонятную сторону, далекую от темы. Однако у некоторых «червяк» остается. Они все норовят до чего-то там докопаться, невзирая ни на что. Остается не сбиться с пути. А чтобы не сбиться, для начала хотелось бы коснуться некоторых моментов теории («как гласит наука»). Ибо она гласит, что реальное объяснение для неожиданного события должно разделиться на две большие части:
– сначала того, к чему и как готовились;
– а потом – как выкручивались, оказавшись в совершенно неожиданной ситуации, которую в планах не учитывали.
Про второе – разговор отдельный и долгий. В данной статье хотелось бы остановиться на первой ситуации (о событиях до 22 июня 1941 г.). Причем как бы «в главном».
И здесь оказывается, что важны не только события последних предвоенных месяцев. Любое из них «просто так» на «пустом месте» возникнуть не могло (чисто технически). Вот, например, история мехкорпусов. Любители истории периодически касаются этой темы. И пытаются поточнее рассмотреть, какие из них были укомплектованы полностью, какие не полностью, а у кого были только штаб и десяток «устаревших» танков. И мало кто касается вопроса «а зачем?».
Зачем они вообще были нужны? Для чего создавать массу мехсоединений разной степени укомплектованности? Под какую теорию их создавали? Когда она возникла? Какую роль все это играло в планах страны? Только ли для обороны от неожиданного нападения противника? Но если именно под эту идею они и готовились, то почему в момент реального нападения все это не сработало? Потому что враг напал раньше? Радиостанций не хватило? Аккумуляторы сели? Извините, а разве дату нападения надо было согласовать с противником заранее? Или ее определяли гаданием на картах?
Ладно, допустим, враг напал. Его удачно отбили и сами перешли в наступление, загоняя врага в «котлы» один за другим. И для этого советский Генштаб к январю 1942 г. и планировал собрать танковый парк под 32 тысячи танков?
Заманчиво. Но, во-первых, был бы враг. А если его не будет? Кого тогда окружать? А во-вторых, 32 тысячи танков разных моделей за один день никак не изготовить. И не за один год. Мало того, что их надо сначала придумать. Потом надо наладить их производство, развезти по учебным заведениям и обучить массу людей ими управлять. И еще много чего надо изготовить в дополнение к ним. Одни танки в атаку пойти не могут. Им нужно обеспечить прорыв фронта пехотой при поддержке хорошей артиллерии. И прикрыть хорошей авиацией. И все это тоже надо придумать, изготовить, развезти, научить сначала учителей, потом экипажи/ расчеты/взвода, накопить запасы. А это все тоже требует серьезного времени. Причем нельзя все это осуществить хаотически чисто случайно без какого-либо общего стратегического плана. Никак!
Но сколько может потребоваться лет?
Если по-нормальному, то не менее десяти.
«Мгновения» длиной в 10 летВот, например, история создания 122-мм корпусной пушки «А-19» периода Второй мировой войны. Почему «корпусной»? А это от слова «корпус» – войсковое соединение выше дивизии. То есть она рассчитывалась для решения серьезных задач. Но на ее создание, испытание, доработку и модернизацию ушло более десяти лет. Задание на новую корпусную пушку в СССР возникло в 1927 г., чтобы чем-то заменить старую систему образца 1910 г. Время идет, стволы портятся и требуют замены. Заменять их можно или выпустив такой же образец, или создав какую-то другую модель. Вот в январе 1927 г. и решили создать нечто посовременнее. Два года проектировали в Москве, потом передали задание заводу в Перми. Еще два года ушло на изготовление опытного образца. Через год испытаний доработку поручили КБ московского завода № 38. Оно присвоило этому орудию индекс «А-19» и в 1933 г. выдало исправленные чертежи, «которые отправили на сталинградский завод «Баррикады» для изготовления опытной серии из трех орудий. Завод сделал их лишь к марту 1935 г. Еще год ушел на войсковые испытания на Лужском полигоне. После чего 13 марта 1936 г. орудие было официально принято на вооружение РККА под наименованием «122-мм корпусная пушка образца 1931 г.». Выпускалась она на нескольких заводах, в первую очередь на сталинградской «Баррикаде».
Но в процессе эксплуатации у нее выявилась «ахиллесова пята», связанная с подъемным механизмом, который часто заедал. В 1937 г. по предложению руководителя КБ завода в Мотовилихе Ф.Ф. Петрова ствол «А-19» наложили на лафет 152-мм гаубицы-пушки MЛ-20, и получилась новая «модернизированная» артсистема образца 1931/37 гг. Она оказалась более удачной. Ее ствол мог задираться гораздо выше – до 65 градусов, а не до 45, как у прежнего варианта. И вот уже это усовершенствованное орудие и явилось одним из самых точных и дальнобойных орудий того времени и использовалось на всех фронтах Великой Отечественной войны совместно с пушками «А-19» более ранних выпусков.
Другими словами, «мгновенно» никогда ничего не получается. На все требуется какое-то время. И на создание новых пушек, и на создание новых самолетов и танков. Кстати, насчет последних. Хотя уже опубликовано много разных материалов по их истории, но до сих пор остаются спорные моменты. В частности, по танку «А-20». Известность он получил после того, как Виктор Суворов перевел этот индекс как «автострадный». Однако некоторые историки (в частности, Михаил Свирин) заявили, что такое объяснение совершенно неправильно, так как якобы найден приказ бывшего «Наркомтяжпрома», который как бы вводил единую «однобуквенную» систему индексов для разных заводов. Вот в связи с ней (якобы) харьковскому паровозостроительному заводу № 183 и выдали индекс «А», под которым он и создавал разные свои изделия – танки, сеялки, вагоны и паровозы. Но если повнимательнее вчитаться в опубликованный текст этого «приказа», то сразу же бросится в глаза то, чего там нет. А нет там архивно-учетного номера. Этих самых номеров «дела», «описи» и «страницы». И названия архива. Странно. Меня учили, что историк должен не только найти новый факт, но дать ему объяснение и ввести в научный оборот. Текст «единого приказа» как бы найден, в оборот запущен, но… А где его нашли? Как же без архивно – учетных номеров делать ссылку на этот «приказ»?
Никак. Но годы идут, а номера не появляются. И что делать? Согласиться с существованием этого документа «просто так»? Или провести свое расследование? Если самому что-то поискать, то, как показано выше, индекс «А-19» пушке калибра 122 мм в 1933 г. присвоили не на ХПЗ, а на заводе № 38 в Москве. И это приводит к возникновению предположения, что «единый приказ» – выдумка. Когда я разместил эти рассуждения в Интернете, один активный сторонник «единого приказа» предположил, что на заводе № 38 присвоили индекс «А-19» именно потому, что предполагалось потом передать чертежи в Харьков. Возможно. Но почему реально передали в Сталинград? Что-то «не сложилось»? Иногда бывает.
Но извините, тогда во всех описаниях истории пушки «А-19» про это где-нибудь да упомянули бы. Дескать, хотели передать в Харьков на ХПЗ, но что-то не сложилось. Но такого упоминания нигде нет.
Затем появилось объяснение, что индекс «А» выдавался КБ Всесоюзного орудийно-арсенального объединения (ВОАО) всем пушкам, которые он проектировал. Хорошо, допустим, с орудием разобрались. Но откуда тогда взялся индекс «А» для ТАНКА?
Кроме того, есть вопрос к датам. Индекс «А-19» на заводе № 38 присвоили в 1933 г. А индекс «А-20» на харьковском заводе возник не ранее октября 1937. То есть через ЧЕТЫРЕ года. Но разве на ХПЗ за это время никаких новых изделий не создавалось? Никаких тракторов, вагонов, сеялок? И вообще, какова история «Наркомтяжпрома» («НКТП»)? Кто кому тогда подчинялся?
Оказывается, что до 1932 г. этого наркомата вообще не было. Был СНК СССР (Совет Народных Комиссаров – то есть правительство). Но промышленность развивалась, возникали новые заводы, вести учет с примитивной счетной техникой в те годы без компьютеров в рамках одной «конторы» становилось все труднее и появилось решение создать дополнительную управляющую структуру – наркомат «тяжпром» (НКТП). Он руководил заводами машиностроения с января 1932 г. по август 1937-го. Потом из него выделили «Наркоммаш», а затем в феврале 1939 из него создали «Наркомсредмаш». Таким образом получается, что в октябре 1937 г. ХПЗ № 183 подчинялся не НКТП, а НКМ. Но можно возразить, что «единый приказ» мог продолжать действовать. Допустим. Но почему тогда другие заводы создавали свои «машины» не по однобуквенным индексам? Например, Кировский завод в Ленинграде разрабатывал танки, имевшие различные наименования – СМК, KB, Т-100. Причем если КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ «А-20» так и остался «А-20», то чисто гусеничный «А-32» почему – то переименовали в «Т-32».
И были уточнения в названиях по методу использования. Например, Кировский завод и завод № 174 в том же Ленинграде разрабатывали танк «Т-126СП» («СП» – «сопровождение пехоты»). Предпочтение было отдано танку завода № 174 (который позднее переименовали в Т-50).
Заметим: индекс «Т» применялся на разных заводах так, как будто «единого приказа» ни было.
Итак, получается, что НКО в конце 30-х годов выдал задания разным танковым КБ. При этом класс некоторых танков определялся в их названии: «БТ» – «быстроходный танк», «СП» – «сопровождение пехоты» и «А-20», который никак не расшифровывается, а вместо расшифровки предлагается странная история с каким-то «единым Приказом» по Наркомтяжпрому, который с конца лета 1937 г. вообще перестал заниматься изготовлением моторной техники. Причем если вчитаться в задание АБТУ, то окажется, что в нем речь шла про танк «БТ-20» (то есть опять же про «быстроходный»). И каким-то странным образом число «20» совпало с очередным номером на ХПЗ! То есть последним на тот момент на этом заводе должно было быть создано какое-то изделие с индексом «А-19» (очередной паровоз, бульдозер или какой-то станок). Кстати, паровозы имели свою индексацию, причем, как правило, из двух букв, например «Ов» («Овечка»). Но каким-то образом в АБТУ узнали о последнем номере изделия на ХПЗ – «19». Может быть, так: кто-то из АБТУ звонит директору ХПЗ и просит узнать последний номер проектируемого у них изделия и перезвонить им. Допустим.
Директор выяснил, перезвонил и сообщил, что последний «внутренний» номер у них – бульдозер «А-19».
– Отлично/– ответили из АБТУ и добавили: – Передайте КБ, чтобы они номер «20» не трогали, мы его займем!
– Хорошо, передам! – ответил директор.
И вот при подготовке техзадания танковому КБ ХПЗ в АБТУ так и написали: «спроектировать БТ-20» (который «внутри завода» почему-то «естественно» получил индекс «А-20»).
Остается согласиться? И забыть про пушку «А-19», которая создавалась с 1933 г. на других заводах других городов? Но забыть нельзя, и возникает противоречие. Снять которое можно только одним способом – предположив, что «единого приказа» не было, то есть что он является мифом и фальсификацией. И смысл танкового индекса «А» опять повисает в воздухе.
Но отвлечемся от индексов и обратим внимание на то, что любая серьезная техника до массового использования проходит большой срок проектирования, испытания, производства и обучения. Вот и про танк «Т-34» в начале войны так и говорят: «Не УСПЕЛИ!» И добавляют, что только он якобы и мог оказать реальное сопротивление в начавшейся летом 1941 г. войне СССР с немцами. И при этом практически полностью стараются проигнорировать суть процесса создания танков и ради чего (под какую теорию) они создавались.
И в заключение краткого упоминания истории создания А-20 и Т-34 опять можно отметить факт длительного процесса создания удачных моделей танков. Без почти 8-летнего опыта проектирования, изготовления и эксплуатации в войсках танков серии БТ не было бы А-20, а затем и Т-34 (через А-32). А если учесть время на устранение недостатков первых Т-34, то надо признать, что на его появление ушло под 10 лет работы специально созданного КБ «выделенными заводскими мощностями.