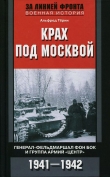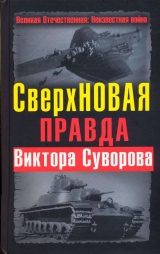
Текст книги "СверхНОВАЯ правда Виктора Суворова"
Автор книги: Дмитрий Хмельницкий
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Наличие существующих еще с советских времен типовых сроков хранения разных категорий архивных документов, позволяющих уничтожать личные дела участников Великой Отечественной войны, не может служить оправданием для Шестопала. Никакие бюрократические лазейки не могут объяснить причин, по которым архивисты считают себя вправе уничтожать информацию о погибших. Тот же Шестопал мог бы спокойно игнорировать наличие этих внутриведомственных приказов, зная, что тем самым он будет способствовать сохранению информации о советской Атлантиде. И в этом случае он ничем бы не рисковал.
Тем не менее этот бывший политинформатор первого отдела считал нужным педантично и буднично выполнять преступные по своей сути циркуляры. Многолетняя работа в ЦАМО не выработала в Шестопале пиитета к документам, хотя даже те, кто ни разу в жизни не бывал в архивах, понимают, что после смерти человека именно документы позволяют установить подробности его жизни. Эта нехитрая мысль встречается даже в художественной литературе: «Коровьев швырнул историю болезни в камин.
– Нет документа, нет и человека/…/ (М. Булгаков, «Мастер и Маргарита». – Минск: «Ураджай», 1988. С. 560.).
Увы, недостаток кругозора у недобросовестных чиновников зачастую становится источником проблем общественной значимости.
Археологи скрупулезно раскапывают поселения и могильники умерших цивилизаций, привлекая к сотрудничеству не только антропологов, но и палеоботаников (специалистов по древней растительности) и палеозоологов (специалистов по древнему животному миру); при этом вкладывают большие средства в проведение не только полевых работ, но и лабораторных анализов. Стараются выяснить все – вплоть до того, в какое время года человек умер и были ли в засыпь его могилы положены цветы. Антропологи делают тщательные замеры костных останков, чтобы выяснить не только, как человек выглядел, но в каком возрасте умер и чем болел. И все это делается ради того, чтобы собрать как можно большую информацию о тех, кого мы никогда не видели. Скелету какого-нибудь кочевника уделяют такое внимание, с которым он едва ли сталкивался при жизни. Никому не знакомый человек приходит к нам из древности, рассказывая посредством переводчиков – в их роли выступают антропологи, химики и генетики – о том, как он выглядел, жил, питался. Нечасто встречающаяся возможность идентифицировать погребение, узнав по надписи имя мертвеца, становится поводом для искренней радости.
В остальном же приходится довольствоваться общими антропометрическими данными и сведениями о погребальном обряде. Скажем, в погребениях I века н. э., которые мне пришлось раскапывать в 2007 году, не было найдено ни одного содержащего надпись надгробья. Погребальный инвентарь да костные останки (в ряде могил потревоженный древними грабителями) – вот и весь улов, который позволит составить «персональное дело» на раскопанного мертвеца. В одном случае мне удалось расчистить могильную засыпь, на которой сохранился отпечаток давно исстлевшего саркофага, – на суглинке сохранилась зеленоватая краска, которой были покрыты стенки саркофага.
В другой могиле читалась тонкая линза органического тлена – это все, что осталось от войлочного ковра, в который был завернут покойник, и жердей (на них, очевидно, умершего принесли на кладбище). В ногах у него были наконечники стрел с фрагментами практически полностью истлевших древок. Ни малейших шансов узнать имени и точных годов жизни этого человека у экспедиции нет.
Археологи не могут и помышлять о том, чтобы иметь доступ к его прижизненно составленным «личным данным» (исключение могут составлять упоминаемые в хрониках царственные особы), а тем более увидеть его на фотографии (лишь особо состоятельные экспедиции могут позволить себе заказать антропологам реконструкцию лица по черепу).
Именно наличие персональной документации пока еще отличает павших в годы Великой Отечественной войны от древних воителей. Сержант или лейтенант, дело которого было уничтожено архивистами, лишается тех преимуществ, которыми он обладал перед древним эллином или скифом.
Все это – фотографии, антропометрические данные, автобиографии, сведения о семье, информация о полученном образовании, служебные характеристики – содержится в личных делах. И находятся архивисты, которые считают себя вправе уничтожать как отдельные документы из этих дел, так и сами дела под тем предлогом, что какие-то варвары-чиновники сочинили в свое время преступные директивы, позволяющие уничтожать эту документацию «по истечении положенного срока хранения».
А теперь зададимся вопросом: как можно будет восстановить эту культурную и антропологическою брешь спустя 100 лет, когда наших дедов, участвовавших во Второй мировой войне, будут воспринимать с той же дистанции, с какой мы сейчас абстрагированно восприниаем участников войны с Наполеоном?
Уже сейчас можно уверенно сказать, что мы очень смутно представляем даже антропологические типажи участников Великой Отечественной войны. Мы мало что знаем об их интонациях, чувстве юмора, системе ценностей, даже об их питании.
И вместо того чтобы максимально благоприятствовать исследовательской работе, которая объединит историю разных поколений в нечто взаимосвязанное, люди, подобные Шестопалу, борются с историками, скрывают от них документацию, а сами эти документы уничтожают под предлогом того, что «истекли сроки».
Шестопал является одним из тех, благодаря кому советская цивилизация (вне зависимости от того, как к ней относиться) обречена на историческую гибель, как Древняя Скифия. Историю войны благодаря усилиям таких архивистов будут изучать не по письменным источникам (письменных источников, как известно, у скифов не было – мы знаем о них из трудов античных авторов), а по некрополям, так как архивисты на рубеже XX–XXI веков осатанели настолько, что считают возможным собственными руками предавать забвению и в ряде случаев уничтожать историю собственной же страны.
Уместно затронуть тут и социальный аспект. Ничем иным, кроме простонародного прагматизма, нельзя объяснить, что к личным делам погибших участников войны относятся, как к ветеринарным паспортам. Это не преувеличение. Ровным счетом так же к ветеринарным паспортам своих коров относятся крестьяне. Пока скотина жива и бегает по пастбищу с биркой в ухе, крестьянин хранит этот ветеринарный паспорт, но когда корова начинает стареть, болеет, дает мало молока либо же, по несчастливому стечению обстоятельств, подскочили цены на мясо, крестьянин сдает корову на мясо, и ее ветеринарный паспорт ему уже не нужен.
Относиться к погибшим, как к мычащей скотине, документацию которой допустимо уничтожать, когда в ней нет надобности, можно только в том случае, если не отличать человеческий род, свой народ и страну от бессловесного стада.
В переводе с архивного на человеческийОсновываясь на рассуждениях начальника архивохранилища 5.4, можно было сделать несколько выводов о том, в чьих руках оказывается доступ к истории Великой Отечественной войны. Обскурантизм и методическая неграмотность Шестопала, когда человеку с такими свойствами была дана возможность регулировать доступ исследователей к архивным документам, превратились в проблему, затрудняющую разумное реформирование архивной системы Министерства обороны.
Перечислю эти свойства. Прежде всего, это – неприличное чинопочитание. Считая, что публиковать биографию представителя среднего начальствующего состава (например, старшего лейтенанта) бессмысленно («не такая уж важная фигура, чтобы писать»), Шестопал был уверен, что данные законом права не распространяются на гражданина, если тот не является большим чиновником («ты кто такой, чтобы о законе говорить?»).
Во-вторых, это страх того, что исследователи могут опубликовать нечто, отличающееся от того, что понравится в ГУКе или Генштабе. Уверенность, что их работу нужно подвергать цензуре, определяя, что им недозволено знать. Сетование на отсутствие возможности проверить каждого историка персонально («тебя же никто не проверял!»). Но что означает «проверить» исследователя? В соответствии с бюрократической традицией это означает убедиться в соответствии историка неким стандартам – в первую очередь политической благонадежности и социального происхождения. И если исследователь не имеет к бюрократической системе отношения, архивист не знает, как контролировать и воздействовать на человека, не имеющего приводных ремней.
О том, что в целом ряде федеральных законов четко сказано, что исследователь не обязан мотивировать перед архивом свой интерес к документальным источникам, Шестопалу было просто невдомек.
Историкам, журналистам и юристам, способным вынуждать ведомственных архивистов подчиняться федеральным законам, а не лишенным юридической силы министерским директивам, место в кутузке.
Опосредованно, как можно понять эту логику, место в кутузке и тем, кто подготовил законы, дающие гражданину возможность побеждать в споре с ведомством.
И, разумеется, само законодательство представлялось Шестопалу нестерпимо враждебным. Он и не стеснялся демонстрировать, что не понимает законодательство, ограничивающее ему основанное на классовом чутье и политической целесообразности самоуправство. Он искренне недоумевал, почему потомкам ветеранов дано право предоставлять нотариальной доверенностью историку возможность изучить личное дело.
Поскольку Шестопал умудрялся скрывать от меня дела даже в тех случаях, когда я предъявлял ему нотариальную доверенность, я потребовал от архивиста объяснений. Ответ его выражал всю глубину испытываемого Шестопалом неуважения к российскому законодательству:
– Ну и что мне эта нотариальная доверенность?
– Нотариальная доверенность составлена прямыми наследниками.
– А какое он право имеет на дело отца? Это что – его личная вещь? Это что, его чайник, что ли? Личное дело – это для служебного пользования, пользования внутри Министерства обороны. Да ты знаешь, что я не имею права тебе показывать эти личные дела, потому что в них секретные и совершенно секретные документы?
– Там нет никаких совершенно секретных документов.
– Это ты так думаешь! У меня и разведчики, и американские шпионы!
Шестопал блефовал. Ему было хорошо известно, что я изучаю судьбы людей, в большинстве своем погибших во время войны и никогда не бывавших за пределами СССР. Никаких американских «шпионов» среди них не было.
И невдомек было Шестопалу, что в России почти полтора десятилетия действуют «Основы законодательства РФ о нотариате» (Федеральный закон № 4462–1, принятый еще 11.02.1993 г.). Закон действует, но Шестопал до последнего вздоха считал, что право распоряжения семейной информацией, переходящее по наследству, противоречит личным интересам архивиста.
75 Минус вечностьМое обращение в Архивную службу Вооруженных сил подтвердило опасения: действующие в Министерстве обороны положения позволяют методично избавляться от большого объема персональной документации лишь по формальному признаку пресловутого истечения срока хранения.
В письме от 28.12.2007 (исходящий А.С.В.С. № 350/1912) полковник Сергей Ильенков проинформировал меня, что личные дела разделяются на две категории, сроки хранения которых различаются кардинально. Если «первые экземпяры личных дел старших офицеров, а также младших офицеров, прапорщиков, мичманов – участников боевых действий хранятся постоянно», то «срок хранения первых экземпляров личных дел, младших офицеров, прапорщиков, мичманов, не участвовавших в боевых действиях, равняется разности 75 – «в», где «в» принимается за возраст военнослужащего. Так, личное дело офицера, если оно окончено делопроизводством, когда ему было 60 лет, должно храниться в течение 15 лет (75–60 =15)».
Эти сроки были, как становится ясно из письма А.С.В.С., регламентированы введенным в 1997 году Перечнем.
Хотя остается непонятным, какая судьба уготована личным делам старших офицеров, не участвовавших в боевых действиях, даже этот принцип разделения на две категории не может не вызывать серьезные нарекания.
Несложно понять, что именно такая система подсчета (75 лет – возраст увольнения) давала и дает архивистам возможность, уничтожать документы военнослужащих, завершивших службу в РККА еще до начала Великой Отечественной войны. Представим себе военнослужащего, например, 1900 года рождения, который завершил службу в 1938 году. По логике Перечня, на который ссылался начальник Архивной службы Вооруженных сил, личное дело уволенного в 1938-м должно было храниться последующие 37 лет (75–38), то есть вплоть до 1976 г.
«Аналогичные» сроки хранения, как утверждал Ильенков, были предусмотрены «Перечнем документов Советской Армии и ВМФ», действовавшим с 1975 г.
Из сказанного следует, что по крайней мере с 1975 г., то есть уже 33 г., архивы, подчиняющиеся Министерству обороны, уничтожают личные дела младших офицеров, прапорщиков и мичманов, не участвовавших в боевых действиях.
Можно и должно обсуждать, имеет ли смысл уничтожать дела тех военнослужащих, которые не участвовали в боевых действиях, но в действительности сформулированное Перечнем 1997 г. разделение не соответствует фактически существующему в отделе 5.4 ЦАМО. Начиная с 1997 г. мне неоднократно доводилось слышать как от инструктора читального зала, так и от сотрудников отдела 5.4, что их хранилище не располагает личными делами младших лейтенантов и лейтенантов. Если верить архивистам, то на младших лейтенантов, даже участвовавших в Великой Отечественной войне, личных дел нет вообще – так, словно бы они не относились к «младшим офицерам».
Если предположить, что архивисты не вводили меня в заблуждение (коллеги получали такой же ответ), остаются только два объяснения, которые можно найти этому загадочному отсутствию личных дел на погибших лейтенантов и младших лейтенантов. Объяснение первое: все эти дела давно уничтожены за истечением срока хранения. Этого исключать нельзя, поскольку формула «75 – в.» предполагает, что уже к 2000 году году должны были быть уничтожены все без исключения личные дела младших лейтенантов и лейтенантов, завершивших военную службу не позже 1945–1946 годов.
Объяснение второе: ЦАМО никогда не принимал на хранение личные дела тех военнослужащих, которые не дослужились до старшего лейтенанта. Эта версия неправдоподобна, поскольку в таком случае Положение 1987 г. оговаривало бы эту, по сути, дискриминационную норму, предполагающую, что дела всех военнослужащих, чье звание ниже старшего лейтенанта, не представляют исторической ценности.
Некоторую ясность внесло письмо начальника ЦАМО полковника Чувашина (исходящий № 5/2173 от 28.02.2007), в котором признавалось, что в 4-м архивохранилище 5-го отдела хранятся «личные дела офицеров, прапорщиков, солдат, сержантов, проходивших службу по контракту». К тому моменту я уже убедился по сдаточной описи в том, что личные дела старших сержантов, погибших во время Великой Отечественной войны, скрываются под дланью все в том же отделе 5.4.
Что любопытно, еще в 1997 году я пытался выяснить наличие личных дел на стрелков-радистов, летавших с моим двоюродным дедом, и тогда инструктор читального зала В.О. Попова проинформировала меня, что дел на сержантский состав не сохранилось, поскольку они были якобы уничтожены еще в 1953 году. Позвонив в отдел 5.4, она сообщила мне, что личных дел на стрелков-радистов, погибших вместе с моим родственником, в архиве нет.
Спустя 10 лет, открыв одну из сдаточных описей, я обнаружил имена трех летавших в разное время с моим двоюродным дедом радистов. Одно из дел (под инвентарным номером 838 605) было уничтожено еще в 1986 году по акту № 60 604, а два других были целы. В описи не стояло никаких пометок об уничтожении их дел.
Однако эта же опись красноречиво свидетельствует о том, что, вопреки Положению 1997 г., в отделе 5.4 уничтожали личные дела не только военнослужащих, не участвовавших в боевых действиях, но и погибших во время Великой Отечественной войны. С ходу назову несколько номеров:
Дело № 838 521 на авиационного техника Барчука Николая Александровича, обслуживавшего в 1941 году бомбардировщик ЕР-2 Героя Советского Союза Александра Молодчия, уничтожено в 1984 году по акту № 60 297.
Дело № 838 588 на воздушного стрелка Выдрича Ивана Петровича, летавшего в экипаже орденоносца старшего лейтенанта Владимира Терехова и сбитого в ночь на 24 мая 1942 г., уничтожено в 1988 году по акту № 607 804.
Дело № 838 591 авиационного техника Канаева Ивана Тимофеевича уничтожено в 1997 году по акту № 64 471.
Дело № 838 608 заместителя командира 748-го авиаполка дальнего действия по летной части майора Венецкого Александра Иосифовича, погибшего в авиакатастрофе 7 июля 1942 г., уничтожено в 1986 году по акту № 60 684.
Дело № 838 614 воздушного стрелка младшего сержанта Дорохова Прокопия Николаевича, погибшего при выполнении боевого задания в ночь на 12 июня 1942 г., уничтожено в 1992 году по акту № 61 339.
Дело № 838 771 авиамеханика Андрусенко Василия Маковеевича уничтожено в 1983 году по акту № 58 784.
Дело № 840 384 авиатехника Котова Николая Егоровича, обслуживавшего бомбардировщик ИЛ-4 Героя Советского Союза Степана Швеца и погибшего в авиакатастрофе 30 августа 1942 г., уничтожено в 2005 году по акту № 71 294.
За этими именами стоят различные судьбы и события; большинство из них упоминаются мной в обширном исследовании, которое я планирую вскоре опубликовать. Некоторые упоминаются в опубликованных большими тиражами мемуарах (в частности, майор Венецкий и авиатехники Барчук и Котов). Хотя все перечисленные авиаторы участвовали в войне и погибли еще в 1942 году, это не помешало отделу 5.4 уничтожить их личные дела.
С учетом этих фактов неуместной попыткой отрицать очевидное выглядели заверения военного прокурора Московского военного округа А.Н. Вертухина, заверявшего меня (исходящий ВП МВО № 35/2–548 от 14.02.2005), что «информация об уничтожении в ЦАМО РФ /…/ личных дел офицерского состава была проверена в феврале 2004 года комплексной комиссией по указанию первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Балуевского Ю.Н. и своего подтверждения не нашла».
Не берусь судить, верил ли сам Вертухин этому утверждению, когда подписывал адресованный мне ответ, но охотно допускаю, что даже представители упомянутой им комплексной комиссии могли быть легко введены Шестопалом в заблуждение. Не случайно он заверял меня, – возможно, чтобы создать у меня впечатление, что ему сам черт не брат, – будто не пустит в картотеку даже сотрудников прокуратуры. Резон Шестопала выдавать желаемое за действительное был понятен: после того как я обратился с жалобой на него в Главную военную прокуратуру, архивист всеми силами пытался убедить меня в том, что он окажется не по зубам даже прокурорам.
В то же время непонятен резон, по которому прокуроры позволяли вводить себя в заблуждение.
Многие из тех, чьи дела были уничтожены, погибли в 1942 году при выполнении заданий. Вражеские зенитчики оборвали физическую жизнь экипажа, а ведомственные архивисты продолжают дело, начатое противником. Уничтожая дела и документы, они лишают павших шанса получить вторую жизнь в исторических исследованиях.
«Установить возраст пострадавшего, ввиду общей обугленности, не представилось возможным. /…/ Лицо деформировано, обуглено». «Установить личность этого человека по осмотру было невозможно, ибо не только одежда, но и мышцы и даже кости нижн[их] конечностей обуглились и дымились» – так описывали прозекторы в патологоанатомических заключениях тела авиаторов, погибших при падении бомбардировщика. Бывало, что тела при взрыве фрагментировало: «Найдены отдельные остатки тел в виде ноги /обгоревшей/, туловища, части головы, кишек и др[угих] мелких обгоревших частей тела». Защищая свою страну, многие погибали страшной смертью, и не все тела были преданы земле.
Зачастую вместе с плотью сгорали и личные документы, по которым можно было бы идентифицировать погибших: «Труп совершенно обуглился, никаких документов у него не обнаружено». Это означало, что могила навсегда останется безымянной, если самолет упал на оккупированной территории.
Молодым абитуриентам военных училищ полезно отдавать себе отчет в Том, какая участь может ожидать их офицерские дела в последующие десятилетия. Лишенные земной жизни осколком артиллерийского снаряда, они могут лишиться жизни посмертной, обеспечиваемой памятью общества, когда архивисты сочтут, что документы не заслуживают хранения. Дело, начатое артиллеристом-наводчиком, воевавшим на стороне противника, успешно завершат архивисты того самого ведомства, униформу которого офицер носил, защищая интересы своей страны. Для многих архивохранилище, где хранится персональная документация, становится вратами даже не в преисподнюю, а в небытие, когда, руководствуясь щучьим велением, своим хотением, архивисты ставят в соответствующей графе штамп «уничтожено».