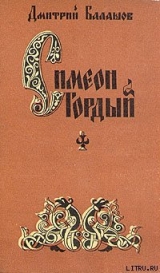
Текст книги "Симеон Гордый"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 45 страниц)
Глава 67
Утром он встал раньте всех, оделся, ополоснул лицо. Не будя прислуги, в потемнях, не давая себе опасного безделья, решил обозреть городищенские хоромы.
На дворе прихватив с собою дьякона и нескольких случившихся в стороже бессонных кметей, велел открыть храм Благовещения и возжечь свечи, обошел весь каменный обвод стен, проник в алтарь и дьяконник, влез по тесной лесенке на хоры. Когда спускался с хор, внизу уже ждал его наспех одетый наместник. Пошли по стенам, влезли на крайний к реке костер. Сонный Новгород посвечивал в отдалении редкими, там и сям, огнями. По темной дороге гнали к открытию торга скотинное стадо. Слышно было, как во тьме глухо мычали коровы. До вершины костра доносило слитный глухой шум многих копыт и щелканье бичей. Семен быстрыми твердыми стопами сбежал вниз по ступеням, потребовал открыть погреба, бертьяницы и анбары. В мечущемся огне факелов и свечей оглядывал груды товаров, связки мехов, круги воска и кули с низовским хлебом, привезенным на продажу в Новгород. Велел показать казну, проверил вощаницы с записями, нашел два-три наместничьих огреха, приказал перевесить вновь воск и серебро.
Уже засерело и засинело небо и далекие звоны из Детинца донесли до князя, что Великий Новгород проснулся и ждет его к себе, когда Симеон, бегло проверив последний лабаз, твердым шагом прошел в хоромы, распорядил дневными делами, озрел уже готовых к путешествию бояр, выпил, не присаживаясь, чашу горячего топленого молока с медом и приказал седлать. Сбираясь на пир к архиепископу, есть дома не имело смысла, даже и в чаянии долгого торжественного богослужения.
Княжеского коня покрыли шелковою белою, в травах, попоной, одели ему на грудь чешму ордынской работы, густо украшенную бирюзой, натянули налобник с алмазами на высоких качающихся тычинках, подвесили к удилам серебряные сквозные цепи сканого дела, от которых исходил тихий непрестанный звон. Сам князь вздел зеленые, шелками шитые сапоги, травчатые сарафан и легкую, на соболях, отороченную бобром и крытую парчою шубу с завязанными назади рукавами, натянул перстатые зеленые рукавицы, вдел ногу в стремя и уже с седла озрел искоса своих принаряженных бояр – не уступили б новогородской господе! Тронул коня.
В Новгород въезжали шагом. Толпы горожан теснились по обочинам, с любопытством и без страха озирая великого князя московского. Город в розовом свете дня показался еще краше, чем давеча, и Симеон вновь напомнил о своем колокольном мастере Борисе: как-то он тамо? Велено было (негласно велено, но мастер понял похотение князя) превзойти всех и вся, что было доднесь, дабы звоны Москвы являли всякому издалека, что город его – столица Владимирской Руси. Каменным зодчеством, понял это теперь окончательно, ему не превзойти Нового Города да и не досягнуть даже… Быть может, в грядущем… И, помыслив о том, что настанет после него, Симеон опять невольно помрачнел челом…
Теперь он, поводя взором семо и овамо, уже начинал узнавать ведомые по слухам и восторженным откликам знатцов храмы и терема великого города. Подивил торгу (и так захотелось слезть с коня, пройти по рядам, высматривая многоразличные диковины, из разных земель навезенные, – нельзя!), шагом, под клики толпы, вступил опять на Великий мост и уже по сукнам ехал до самого Детинца, где спешился, обнажив голову, и взошел в собор, отрешенно озирая толпу и клир и драгое убранство церковное. Будто бы один князь Симеон шел неспешно, ведомый под руки, с боярами впереди и позади, с почетною стражей из «детей боярских» – молодых ратников из нарочитых московских боярских родов, а другой глядел на него с высоты, озирая валившую Детинец толпу, и сверкающую одеждами вятшую господу, и главы, и колокола, и подобные княжому дворцу хоромы архиепископа, и слушал шум, и ропот, и пение, и клики, и внимал всему, словно бы откуда со стороны, из дали дальней, от иной земли и языка иного, дивясь и наблюдая чужую непонятную жизнь.
Гласы хора в новогородской Софии были отменны, Калика и тут сумел превзойти москвичей! Семен сосредоточенно слушал, стараясь понять, в чем же сила новогородского хора. Он уже не рассматривал себя со стороны, прилежно внимая и все боле и боле сдвигая брови. Сила хора была не в созвучии, не в чистоте и мощи голосов – всего этого с избытком хватало и на Москве, а в гордом, да, в гордом осознании себя самих великими и неподвластными чуждой воле! И то же было во властном красном фоне больших образов новогородского письма, в суровых ликах святителей. Власть духа и сила власти! И надобно было спросить себя, додумать до самого конца: что же есть красота? И какова красота истинная? И можно ли содеивать прекрасное и великое в искусстве, не содеяв великого и прекрасного в жизни сей? Но и так ли проста сия связь, сия цепь, съединяющая зримую жизнь духа с земною жизнию плоти? У него нынче должны были заканчивать подписывать храмы, и он ревниво думал о том, равняются ли хоть сколько его изографы новогородским. И хотел, и боялся озреть на досуге внимательно местные храмы, дабы сравнить – быть может, и со стыдом, – сравнить, и взвесить и вновь потщиться понять: что есть в жизни сей красота, являющая нам отверстый лик вечности?
За думами Семен едва не пропустил конца службы и мига, когда Василий сожидал благословити князя на новогородский стол.
Потом к нему будут подходить посадники и старшина, торжества продлятся в палатах архиепископа и окончат на Городце, где Новгород Великий признает его наконец господином себе, уже не через наместника и бояр, а лично, от лица к лицу, всем синклитом своей вятшей господы.
Симеон вряд ли предполагал, что творилось в эти дни в Новгороде Великом, какие страсти бушевали на уличанских и кончанских сходбищах, о чем толковали и спорили бояра по теремам, с чем и для чего прибегали в Колмицкий монастырь, к прежнему владыке Моисею, почто там и тут повторялось по улицам упорно, одно и то же имя: Ольгерд! Скинуть московский хомут, не давать черного бора князю Семену, свободить себя вовсе от ордынского выхода! Хан был далеко и навряд теперь пошлет ратную силу к Нову Городу Великому! Хватает забот и с Литвой! Да и далек Сарай, далека Золотая Орда! А Москва, почитай, рядом. Вот она, в городе самом, и берет за горло налогами, бором, царевым выходом; мало што бояра там удумали, а мы – не хотим!
Ничего этого не знал, не ведал великий князь владимирский. Оружные кмети в бронях провожали его с пира на пир. Тароватый Новгород щедро поил и кормил князя и его дружину. От обилия блюд и питий, от блеска посуды разбегались глаза. В голове шумело от речей заздравных, от похвал и лести хозяев великого города, а вечером являлся озабоченный Михайло Терентьич с сумрачным наместником Борисом и с преданно взирающим в глаза Иваном Акинфичем, разводили руками: не приемлют новогородцы суд наместнич, и на-поди! И проездную виру не дают, и татебное, хошь татебное-то завсегда князев корм! И с бором ни в какую… И Семен, откладывая отдых и сон, считал и прикидывал, советовал то с одним, то с другим, гневая, требовал наступчивой воли от наместника, вспоминая с запозданием иные окольные речи в днешнем пиру и вырванное у него неволею полуобещание не трогать немецкого и готского гостя…
В чем пришлось отступить и уступить – мужи новогородские наотрез отказались согнать Наримонтову чадь с северных пригородов своих.
– Сам же, княже, крестил Евнутия! – корили бояре Симеона. – Християнина грех гнать, мы-ста тем побытом и всю Литву в веру православну переведем! – Разводили руками, вздымали бороды, подымали глаза к потолку. Лукавили вятшие господа Великого Нова Города! Ох и лукавили! Ладили промеж Литвы с Москвою устроить волю свою… И сил не было нажать, пригнуть, заставить. А и были бы силы? Откачнет к Литве Господин Великий Новгород, и – на горле удавкою – иссякнет вечный серебряный ручеек, питающий дружбу с Ордой! И черный бор чтобы ежегодно сбирать, от того уперлись новогородцы: земля худа, смерд маломочен у нас, и на-поди!
Земля, и верно, кормила плохо. Больше давал закамский путь, откуда шел дорогой соболь, шло и серебро закамское. Давала доходы соль в Русе (и доход с десяти варниц отдали-таки новогородцы Симеону). Давали доход сало морского зверя и шкуры, что везли с моря Белого, рыбий эуб, воск, железная ковань. Но не перенять мытный двор, ни должности новогородского тысяцкого! Добро, хоть вовсе не отказали в смесном суде посадника с наместником княжим!
Тароват, богат Господин Великий Новгород, а серебро новогородское вот оно: в этих розовых на заре храмах под выписными кровлями, в этих богатых нарядах горожан – смерды в лунском сукне и в бархате веницейском! И не возьмешь, и не стребуешь, и гневать – разум не велит… Сам же у себя на Москве лишнее серебро – да что лишнее, лишнего серебра под ханом никогда не бывает! – и не лишнее, кровное, надобное вот-вот, трачу на храмовую роспись, на хоры церковные, на колокола. И должно так! Века пройдут, и, как от киевской седой старины, от тех добатыевых времен, во мгле утонувших, что останет? Храмы да украсы книжные, мудрые слова книгочиев! Быть может, этим одним и протянет в вечность его краткая бесплодная судьба… Да еще тем, что держал и удержал Русь от распада, сберег отцово добро, не дал растащить по кускам, по уделам… А после себя – кому? Все одно кому?!
Работой, делами, спорами, тяжбою с новогородской господой да бешеной скачью замучивал себя ежеден до конца, до предела, чтобы не снилась, чтобы не тревожила краткий покой. И все одно – наплывало, мрело и марило, и не понять было, великая ли тоска или счастье великое, от тоски неотличимое, нисходило тогда на его воспаленную голову?
Глава 68
Александрова сына, отданного Калике в ученье, Симеон еще не видал. Быть может, отрок Михаил и видел великого князя на одном из многочисленных и многолюдных пиршеств во дворце архиепископа, однако сам Симеон еще не встречал, не зрел тверского княжича и почти позабыл о нем (чего, возможно, и добивался Василий Калика), когда, прискакавши в Детинец в неурочный час и стремительно пройдя на владычную половину, – споры о подъездной дани митрополичьей, в конце концов, мог и должен был разрешить сам Василий Калика! – нос к носу столкнулся с высоким, не по годам рослым отроком, который стоял во владычном покое с греческою книгою в руках и во все глаза уставился на гневно вбежавшего князя.
В лице отрока, в его повадке, веселом непугливом любопытстве было нечто, отличавшее его от прочих боярских отрочат, во множестве встречавшихся Симеону, и московский князь, сперва невнимательно и свысока, а потом заботно и вопросительно озревши вьюношу, сам спросил, догадав почти в тот же миг, когда открыл рот для вопроса:
– Михайло Лексаныч?
– Ага! – отмолвил отрок и широко, весело, совсем по-детски улыбнулся во весь рот. – Миша я! Княжич тверской! А ты – Семен Иваныч? Я враз признал, видел тебя на пиру! – И потому, что Семен смолчал, не зная, что отмолвить отроку, Михаил добавил: – Владыка скоро придет, сбегать за ним?
– Не нать. Обожду! – возразил Симеон, тут только увидев, что отрок чем-то незримо схож со своею старшей сестрой, хотя ни лицом, ни статью вроде бы и не напоминал ее вовсе.
За спиною отокрылась и тотчас захлопнула дверь, чьи-то торопливые шаги протопали по переходу, мышиная возня послушников, служек, дьяконов, слухачей, придверников и прочих уже начала коловращение свое, и скоро в покой войдет торопливою легкой походкой Василий Калика, и начнется спор о подъездном, вернее даже не спор, а многословные излияния со ссылками на безликое вече, на коем Симеон так-таки ни разу не побывал. И потому эти вот немногие минуты наедине с Настасьиным отроком, с братом Маши, хотелось использовать на что-нибудь путное, спросить, узнать, понять наконец, кто перед ним и какой благостыни ждать ему и Москве от этого сына Александрова? И ничего не находило в ум. И он молчал, и отрок молчал, весело и готовно глядя на князя.
– Греческая? – спросил Симеон, невольно краснея и гневая про себя за нелепое смущение свое.
– Ага. Учу. Греческий ирмологий. Лазарь привез! Я и гласы знаю уже! – похвастал отрок, и нельзя было не улыбнуться ему в ответ.
– А у тебя на Москвы как поют стихиры на стиховне с «Богородичным», с украсами, как и тут, эдак протягают али просто?
И отрок, торопясь высказать свое, красиво запел «Богородичен».
Симеон, намерясь отделаться улыбкою взрослого и преизлиха занятого мужа, не выдержал и, усмотрев (ухо имел верное) отличие, вполгласа спел московский извод. Миша-Михаил выслушал, склонив голову набок, и тут же попробовал повторить, но ошибся, и Симеон, уже и сам увлеченный нежданною игрою, спел вновь, уже в полный глас. Миша стал подтягатъ, и тут-то и вступил в палату Василий Калика, остановя позадь князя и любовно-полурастерянно озирая обоих, князя и княжича из враждующих домов, занятых согласным церковным пением.
Симеон, первым почуяв помеху, обернул, узрел архиепископа и закусил губу. Калика опустил очи долу:
– Должен покаяти, княже, не свел тебя с отроком сим! Не время и было-то, не пора! Пиры да споры промеж нас! Все ладил, как стихнет, схлынет, так уж и свести тебя с Мишею-то…
Калике трудно давалась ложь, и Симеон, пожалев старика, тотчас повернул разговор к делу. Тут же, стоючи у аналоя, урядили подъездное. Василий уже не вилял, не тянул. Понял, видно, что князь гневен и не должно упорствовать ему излиха в этой нужде церковной.
Урядили. Порешили вечером подписать грамоту. И тут забытый было отрок вновь подал свой голос:
– А ты Перынь видел?
– Нет еще! – отмолвил Симеон.
– Давай поскачем туда сейчас?
– Неможно. Дела зашли! – с искреннею печалью отмолвил Симеон, на миг представя себя, как он, забывши про чин и поряд, скачет вдвоем с тверским княжичем мимо Аркажа и Юрьева к далекой Перыни, и Миша, горячий, гордый, вцепившись в поводья, гонит и гонит коня, а он сидит, словно бы и небрежно, но тоже ладит не отстать от резвого отрока; и незнакомая заботная гордость неизведанного отцовства легкой печалью обняла его и чуть-чуть стиснула сердце. Он поднял было руку взъерошить волосы отроку, но тот отпрянул, покраснев в свой черед, и посмотрел стыдливо исподлобья, и кивнул, и примолвил:
– Прощай! – И прибавил опять совсем-совсем по-детски, с заметным новогородским выговором: – Приходи есчо!
На дворе, садясь на коня, Семен грустно и горько подумал: «И отрок сей поведет когда ни то рати на Москву! И не будет уже «Богородична», будет гомон и топ, и звяк оружия, и ратники муравьиною чередою потянут умирать в усобной войне… Господи! Дай мне хотя отсрочить сие! Дай мира русской земле хотя бы дотоле, как минет днешнее тяжкое безвременье! Мне не полки водить! Мне их всех удержать от войны!»
Глава 69
Но и от войны удержать, по-видимому, было немочно.
С юным Михайлой ему так и не довелось боле встретиться. И говорить (о многом – надумал потом у себя на Городце!) такожде не пришлось. И часто после жалел об этом. Да ить не ведал, что, перебыв всего три недели в Новом Городе, поскачет назад, вызванный ордынскою грамотой, напомнившей вновь, что великий князь володимерской – всего лишь служебник, подручник татарского царя.
А на вечевой сход, разом открывший ему глаза на многое, непонятное доднесь, попал он нежданным случаем, обманувши своих и новогородских бояр.
В тот день ему положено было вовсе не ездить в Новгород. Для Семена устраивалась охота на Мсте, и уже все было приуготовлено ко княжой потехе. И только Михайло Терентьич – отколе и проведал старик? – повестил скользом, не упирая, едва ли не на ухо сказал про вечевую прю сегодняшнюю. Видно, и свои не хотели того, и охота… Какая охота! Семен велел подать ему простое будничное платье и сапоги, курчавый бараний зипун на плеча накинул и, выехав из ворот городецкого княжого подворья, скоро уклонил по колеистой боковой дороге к Новгороду. Нескольким слугам, что взял с собою, велел скакать кучнее, а прочим приказал править на Мсту – буду-де за вами вслед! И знал, что догонят, учнут корить, держать, окружать и вываживать, словно норовистого коня, но пока – вот она, свобода!
В воротах не задержали, растерялись, что ли? А не доезжая торга и вечевой площади, сам сошел с коня и, пеший, завернул за угол, тотчас утонув в толпе глядельщиков, крикунов, новгородских ухорезов и шильников, что густо окружили и сдавили нарочитую чадь, собравшуюся у вечевой ступени. Пробился с помощью слуг сколько можно вперед – князя не узнавали тут, с натугою давали дорогу, чая какого боярина из московлян.
– Наместниць холуй, видно! Пущай послухат, цегой-то и в толк возьмут московици! – услыхал он за своею спиною негромкую молвь горожан. Остановя у высокого тына, он наконец услыхал громкий голос боярина, кажется со Славны, который, распахнувши бобровый опашень и дергая себя за отвороты, гневно орал с вечевой ступени, и орал поносно противу Москвы такое, чего Симеон и не мог представить, будучи все на пирах да на беседах! И площадь орала в ответ разноголосо и грозно, словно лукавый, добродушно-хлебосольный Новгород вдруг скинул личину свою и встал тут, гневный и страшный, готовый на бой и драку за свои вечевые права.
– Литве, што ль, поддатьце, Ольгирду твому?! – выкрикнул громко широкобородый широкоплечий мужик в дорогом зипуне и полез, работая кулаками, к вечевой ступени. Семен не сразу узнал в нем всегда спокойного, осанисто-вожеватого Остафья Дворянинца.
– Ольгерду поддатись хочете? – повторил он грозно, взбежав на вечевую ступень. – Псу литовскому? Да! Да! Псу! Мертвециной где пахнет, он тута и есь!
– Не лайся, Остафья! Не лайся, твой-от Семен не луцши того! – кричала площадь.
– Семен Иваныч хошь православной! – орал Остафий в ответ, – по крайности, ропат латинских не настроит, в веру бесерменску не обратит! Попомните слово мое, господа мужики! Плесковицей выдадим и сами погинем с Литвою поганой!
– Выход! Выход ордынский Литве не придет давать! – кричала площадь. – Хрещеной Ольгирд-от, не лукавь!
– Добро бы так! – не сдавался Дворянинец, рубя кулаком воздух. – Дак и Литва платит выход царев! А ноне почал ваш Ольгирд черкви божьи утеснять, за веру Христову в затворы посажал мужей избранных! Ведомо вам сие, мужи новогорочьки?!
– То ведомо! А неведомо вот, сколь ты от князя Семена полуцил, поведай, Остафья! – ядовито неслось с площади. И Семен, то гневая, то стихая, немо сжимал кулаки. Хотелось крикнуть им всем: «Не платил я Остафью!» – и знал, неможно, не поверят, да и оскорбят, засмеют. Уже понял, что тут, на вечевой площади, все могут содеять…
К нему уже пробивались, уже окружали встревоженные бояра, уже уводили, поталкивая, шепча:
– Нельзя, неможно, княже, пустого не переслушашь! Цто тута орут, не клади, батюшко, в слух!
Пришлось-таки уйти, не дослушав. Сесть на коня и скакать на ненужную ему охоту, травить медведя, который вовсе и не был на вечевой площади и не задирал князя, ни москвичей, а спал себе под снегом, пока загонщики, сунув в устье берлоги корявую рогозу, не вынудили его с ревом выскочить наружу, под дружные рогатины убийц.
Вечером Михайло Терентьич посунулся в опочивальню:
– Ну каково, батюшко? Добра ли охота пришла?
– Добра! – отмолвил устало Семен. – Спасибо тебе, Терентьич, надоумил! Узрел я их, услыхал! Батюшку-покойника в который након припомнил…
– Да, – повздыхал Михайло, присаживаясь на край скамьи, – Иван-от Данилыч многую прю с има перенес. Непокорлив, буен Великий!
– Не то, Терентьич, вольны суть! И по нраву мне они… Сперва вознегодовал, а потом раздумал путем… И неможно нам отступать с тобою! Отступим – не устоит Москва.
– Не устоит! – покивав, отмолвил старик.
– Тут не ломить – сгибать надобно… Как ищо Ольгерд с Новым Городом поворотит! Ласкою ежели…
– Ласкою навряд! Не таков литвин! – твердо ответил старик и поднял повеселевшие глаза: – Ето нам с тобою надоть с има ласкою!
– И я тако мыслю! – эхом отозвался Симеон. – Ступай, Терентьич, ложись почивать. День тяжек: завтра опять черный бор требовать будем!
Сам он еще долго не спал, сидел без мысли и дела, ощущая едва ли не впервой страшную тяжесть в членах, и, верно, не охота и не медведи так утомили его!
А еще через два дня прискакал ордынский гонец, и надобно стало, не довершив дел, скакать на Москву. И даже той робкой отрады – увидеть ее вновь на пути домой – не довелось испытать: Настасья с чадами была в загородном поместье своем, а скакать туда очертя голову, бросив и позабыв все на свете, великий князь володимерский не мог. Власть не токмо бремя, она и узда похотеньям твоим! И стало б иначе, и коли настанет иначе – горе властителю тому, горе и земле, под тем властителем сущей!






