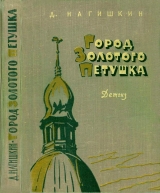
Текст книги "Город Золотого Петушка"
Автор книги: Дмитрий Нагишкин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
5
Машина мчится по шоссе.
Шуршат шины – шшш! шшш! шшш! – и с воем, как реактивные самолеты, проносятся мимо встречные машины.
Нам хорошо, правда? Мы открыли окна, все окна – и свежий ветерок так и гуляет по автобусу. Наплевать нам на все сквозняки на свете! Они ничего не сделают нам. Пусть только осмелится кто-нибудь чихать и жаловаться на простуду!.. По-моему, все простуды происходят от дурного настроения. Если ты здоров и весел и презираешь все болезни – пусть обдувают тебя тысячи сквозняков, у тебя будет только легко на душе. Беда, однако, если какой-нибудь коварный сквозняк почуял, что у тебя на душе нехорошо, откуда-то вывернувшись, найдет маленькую щелку в твоем доме и подует совсем незаметно, так себе, понемножку, и – вот уже нос у тебя покраснел, и потекло из него, как с крыши весной, и сотрясается твой дом от трубного чиханья…
Мама Галя и Мария Николаевна увлечены беседой. Они пересели подальше от мужчин и детей и говорят о чем-то своем, вполголоса, и то смеются дружно, то с живым интересом слушают одна другую. Мама Галя то и дело поглядывает на папу Диму. Кажется, речь идет о нем, и бедному папе Диме достается…
Аля и Ляля, а вместе с ними Игорь, забравшись на сиденья с ногами, высунулись из окон и глазеют на пролетающие мимо дома, столбы, перелески, поля, липки, растущие вдоль дорог, и хохочут и болтают всяческую чепуху. Они говорят так быстро, что Андрис не может понять и половины из того, что говорится. Но он, человек артельный и вежливый, он тоже смеется во все горло… Вот он тычет рукой прямо в трактор, что пыхтит на поле, испуская в небо колечко дыма, и тащит за собой какое-то чудище, которое шевелит своими огромными колесами и скалит острые зубы своего громадного ковша на ту землю, что чернеет за гусеницами трактора.
– Здесь было болото! Проклятое!.. Говорили раньше, что с ним может справиться только господь бог! – кричит ребятам Балодис.
– Где, где болото? Болото? Какое болото?
– Здесь, здесь! А теперь тут колхозное поле!
– А господь бог? – одинаковыми голосами спрашивают Аля и Ляля.
Андрис смеется. Ой, ну какие же смешные эти Аля и Ляля. При чем тут господь бог? Это просто так говорится.
Андрис – ты очень хороший, и мы тебя любим, папа, мама и я! Аля и Ляля тоже любят тебя! Честное слово! Ты, как янтарь, Андрис, сразу видно тебя, какой ты! А Аля и Ляля тоже хорошие! Плохо только то, что все время их путаешь, но они ведь в этом не виноваты.
Смотрите, как быстро пронесся мимо хутор! Как Янис Каулс гонит старенький автобус… Из ворот хлева выходят медлительные, тяжелые, красно-бурые коровы, с гладкой, лоснящейся чистой шерстью… Невысокий домик с крышей торчком, крытой камышом, внимательно поглядывает на дорогу, – кто там мчится сломя голову? Осторожнее, тут колхозные коровы идут на водопой. Огромный каменный хлев, видимо, очень стар, – он сложен из валунов, которые взяты с этого поля рядом, где сейчас колышется высокая рожь… Это рожь, Андрис? Значит, мы угадали…
– Давайте сочиним историю про этот хутор!
И тотчас же сама собою складывается история, в которой принимают участие все ребята, перебивая друг друга и придумывая разные ходы. Балодис, переговариваясь с дамами, одним ухом прислушивается. Кажется, ему эта игра доставляет не меньше удовольствия, чем ребятам…
– Жил тут крестьянин, по имени Янис, – говорит Ляля.
– Его звали, как твоего отца, Андрис, – хорошо!
– Деда его угнетали ливонские рыцари. Они водились в этих местах и жили стаями… А разве нельзя так сказать про них, если я их презираю и ненавижу еще больше?.. Долго-долго угнетали… Андрис, когда это было?
– Семьсот лет обратно!
– Ой, как много! Ни один дед не может столько прожить! А у нас во дворе есть один древний дед – ему уже восемьдесят восемь, хотя это, конечно, не семьсот. Ну, товарищи, тогда ливонцы угнетали его пра-пра-пра-прадеда…
– И его пра-пра-пра-прабабушку!..
– Не мешайте, товарищи! И вот ему очень хотелось пожить без всяких там рыцарей. А тут всякие Альфреды и Августы, Иваны Грозные, всяко воевали-воевали…
– А потом Петр Великий все завоевал!
– И стал Янис жить-поживать да добра наживать!
– Ничего он не стал жить-поживать да добра наживать! Теперь стали Яниса вместо ливонцев русские цари угнетать, а он все землю пашет да о свободе мечтает…
– И Петр угнетал?
– А что он, лучше других, что ли?
– Он же окно в Европу прорубил, товарищи! Прорубил или нет?
– Ну, прорубил! Для Яниса, что ли?
– И вдруг – революция: земля крестьянам, фабрики рабочим! Вся власть Советам! Мир – хижинам, война – дворцам! Уррра!
– И стал Янис жить-поживать да добро наживать!
Но Балодис качает отрицательно головой и вдруг добавляет:
– Пришлось Янису сначала с жандармами воевать, потом – с немцами, потом – с буржуями… Потом – опять с немцами!
– Бедный Янис – сколько же ему пришлось воевать, чтобы жить-поживать да добро наживать?!
– Андрис, а немцы здесь были?
Девочки вдруг оглядываются на отца Андриса. Они от Игоря знают о том, как тяжело дались ему годы войны. Они оглядываются на него с любопытством и уважением – вот человек, который воевал против гитлеровцев, человек, который побывал в их жестоких лапах, который обманул их, который может теперь жить-поживать да добро наживать!
А Янис, который всех победил, сидит за рулем. Он улыбается и глядит на дорогу. Он крутит баранку с такой уверенностью и свободой, что папа Дима после очередного лихого поворота говорит, переводя стесненное дыхание:
– А вы хорошо водите машину.
– Имею опыт! – отвечает Каулс. – В армии возил снаряды. Там и класс приобрел. Особенно под разрывами! Везешь в любую погоду, в любой обстрел. Если попадет – и не найдут!.. Ну, и вяжешь кружева – вправо! Влево! Газануть! Тормоз!.. Обратно едешь с ранеными тихо, а в глазах по-прежнему все вертится!
Папа Дима кивает головой на пейзаж, что расстилается перед их глазами, показывая березовые рощи, холмы, низины, в которых стоит вода, отражающая ясное небо, грачиные гнезда на березняке, боковые проселки, что от шоссе углубляются куда-то и вправо и влево.
– Красивые места! – кричит Вихров, хотя Каулс слышит и так.
– У нас вся природа очень красивая! – кричит он в ответ. – Я когда в гитлеровских лагерях сидел за проволокой, немецкую природу видел: все прилизано, приглажено, кажется, к каждому дереву инвентарный номер привязан! А я вот эти дубы и липы вижу такими, какими их бог создал… У меня несколько профессий: мы, латыши, умеем руками своими пользоваться – я и штукатур, и шофер, и каменщик, и плотник, а садовое дело люблю больше всего…
– Благородное дело! – солидно говорит папа Дима.
– Больше всего люблю! – упрямо повторяет Каулс.
– Сын тоже садовником будет? – улыбается папа Дима.
– Не знаю! – кричит Каулс, оглядываясь на Андриса – не слышит ли? – и добавляет: – Пусть сам себе найдет дело по душе. Надо научить его любить дело, какое бы оно ни было, чтобы гордость за свои руки чувствовал… Правда, у него другая дорога. Я почти не учился. Отец бедный был. Хибарочник… А он – если захочет, пусть учится. Я ему всегда помогу, если увижу, что дело стоит этого, правда?
– Да вы педагог! – кричит папа Дима, глядя на Каулса.
– Я садовник! – отвечает Каулс.
– Самое главное в воспитании – вырастить в человеке сознание своей ответственности! – кричит папа Дима, радуясь найденной теме разговора. – Я думаю, что правил воспитания должно быть совсем немного. Правда? Чтобы их смог запомнить и грудной младенец. Правда? Их должно быть столько, сколько пальцев на одной руке. Правда?
Каулс с любопытством смотрит на Вихрова.
А папа Дима, держа перед собою вытянутую руку с растопыренными пальцами, начинает другой рукой загибать эти пальцы один за другим, приговаривая:
– Первое – не врать! Второе – не жаловаться! Третье – слабых не обижать! Четвертое – сильным не поддаваться! Пятое – всякую работу доводить до конца!
Каулс одобрительно кивает головой. Он вполне согласен с папой Димой.
Вихров, довольный этим одобрением, довольный тем, что мог высказать свои мысли, добавляет:
– Вот и все законы! Есть еще один, но он имеет скорее рабочий, чем принципиальный характер. Поэтому я и не включаю его в эту пятерку! Этот закон: грязная работа – половина работы. Вот так!
Папа Дима энергично сжимает кулак и потряхивает им перед своим носом. Янис опять кивает головой утвердительно – он вполне согласен с папой Димой. Он тоже сжимает свой крепкий большой кулак, помахивает выразительно перед собою и говорит:
– Вы правы. Это тоже имеет значение! Большое… Правильно!
Балодис, слыша и видя это, смеется.
Янис не совсем правильно понял папу Диму, тот открывает было рот, чтобы объяснить, в чем дело тут и почему он сжал руку в кулак. Но Каулс высовывается в окно, оглядывая поворот, а за спиной папы Димы слышится смех. Папа оглядывается, но мама Галя глядит в сторону – нет, конечно, она смеялась вовсе не над ним…
6
…Если вы никогда не видели эту долину, посмотрите! Пологий подъем, заросший всевозможными деревьями, перепутанными и сросшимися так, что между ними надо продираться с силою, и пересеченный редкими узенькими тропинками, которые ведут со всех сторон к одному и тому же месту, откуда бы вы ни начали восхождение, – обрывается вдруг крутым склоном, и вы оказываетесь на значительной высоте, на лужайке, поросшей мягкой шелковой травой… Прямо перед вами – стремительно падающая вниз головокружительная дорожка, которая теряется в зарослях и конца которой вы так и не видите. Справа и слева высятся стройные деревья, которые ограничивают поле зрения и оставляют лишь над головой у вас небесный простор. А впереди долина, заполненная морем деревьев. Здесь все оттенки зеленого: от почти синего цвета сосновой хвои – до светло-зеленого, изумрудного, прозрачного, напоенного светом лиственного покрова молодых березок… Здесь, в затишье, не шелохнется ни один листик, а там, внизу, по долине бежит и бежит свободный, вольный ветерок и приводит в движение все это зеленое богатство, перепутывает ветви деревьев, колышет их кроны, хочет увлечь с собой их листву и заставляет волнами стлаться все эти оттенки – они не постоянны, они беспрерывно меняются и от озорного ветра и от теней облаков, что бегут там, в вышине, и накладывают на долину свои следы… А на самом дне ее – светлая-светлая течет река Гауя. Точно резвясь, она поворачивает то в одну, то в другую сторону, то вырвется вдруг стрелой вперед, то сделает кривую и затеряется в зелени берегов, то опять, как норовистый скакун, закусив удила, мчится, разрезая твердь и разделяя надвое заросли лесов…
Две сестры жили когда-то здесь. Звали их Тирза и Гауя. И вот уговорились они идти как-то к морю. Долго шли они вместе, деля пополам и тяготы пути и сладость отдыха. Шли-шли и заночевали в этой долине. Уснула Тирза возле сестры крепким сном. Но не уснула Гауя. О далеком красавце, жившем в Янтарном море, думала она и не могла сомкнуть глаз. Любовь к неведомому суженому мучила Гаую. И не снесла она своих мук… Поднялась Гауя тихонько и кинулась вперед, оставив свою сестру Тирзу. Мчалась она через леса и перелески, через лощины и пригорки.) И, когда проснулась Тирза, уже далеко была Гауя! И разошлись пути сестер, которые никогда уже не встретились… Нашла ли свое счастье Гауя – кто знает? Но сестру и друга своего она потеряла навеки…
…Вот бежит она – глядите, глядите! С какой силою течет она. Вот на пути ее встретился кривун, заросший вековыми дубами. Обогнула его Гауя и, словно мстя неожиданному препятствию, так и срезала тут берег. Гауя! Гауя, куда ты бежишь? Правда ли то, что рассказывают о тебе люди? «Правда! Правда!» – отвечает Гауя и бежит дальше, даже и не взглянув на наших путешественников, что стоят на высоком взлобке и глаз не могут отвести от волшебной долины – так хороша она, так приковывает к себе взоры человека…
Горой Живописцев прозвали латыши этот высокий холм, с вершины которого видна, как на ладони, долина Гауи. Неплохой глаз был у художника, который первым взошел на этот холм и разнес весть об удивительной красоте долины. И потом подолгу рассматривал свои этюды, поражаясь красоте и мощи родной природы и бессилию своему!.. Разве можно передать всю прелесть долины этой, которая потом не раз приснится человеку как чудесное виденье и незримо присутствовать будет в кругу его воспоминаний даже многие годы спустя… Святым местом художников стала гора Живописцев, и плох тот из них, кто не прикоснулся к этой красоте и не унес отсюда память о долине Гауи, запечатленной в красках на холсте.
Папа Дима так и впился глазами в открывшуюся перед ним картину, а потом стал оглядываться на остальных – видят ли они все это великолепие? – и только показывал то в одну, то в другую сторону маме Гале, желая привлечь ее внимание к тому, что отмечал его живой, быстрый глаз, пока мама не сказала ему:
– Дима, да постой ты спокойно хоть минутку! Я все вижу не хуже тебя. Дай поглядеть другим и не навязывай того, что видишь ты!..
И папа Дима увял – он присел прямо на травку, охватив колени сложенными накрест руками и совсем замолк. И воцарилась тут такая тишина, какая бывает в храмах, где люди остаются наедине со своим богом, в которого верят… Мария Николаевна уже бывала тут прежде, но и она, обняв маму Галю за талию, восхищенным взором медленно озирает долину и от полноты чувств прижимает к себе маму Галю.
– Как хорошо-то, душенька! – шепчет она, не желая нарушить эту тишину и не в силах молчать.
Балодис, рассказав сказку про Гаую и Тирзу, тоже замолк.
Андрис, Ляля, Аля и Игорь не могли долго предаваться восхищению, которое обуяло взрослых. Как ни любовались девочки долиной, но уже Ляля сначала присела, а потом, перевернувшись несколько раз, покатилась с косогорчика – только загорелые ноги засверкали белыми пятками да ленточки в косах замелькали в глазах…
– Пусть обдерется хорошенько! – сказала Мария Николаевна, заметив испуганное движение мамы Гали. – Больше не станет. Противные девчонки!
Она сказала «девчонки», а не «девчонка», потому что и Аля покатилась вслед за сестрой, пронзительно завизжав от страха и удовольствия. Тут Игорь дал подножку Андрису, и они последовали примеру противных девчонок и скатились в ложбинку, залитую солнцем и покрытую нагретой солнцем теплой травкой.
– Дикари! – сказала Мария Николаевна. – Ей-богу, если каждого из нас немного поскоблить, сразу же вылезет дикарь! Когда я гляжу на своих девчонок, я понимаю, что человек – не что иное, как чуть-чуть приглаженная обезьяна. Вот поглядите на них! В каком они виде! Боже мой, боже мой! – Она притворно строго поглядела на дочек и тихо добавила: – Я в детстве была точно такой же!
Она заразительно хохочет.
Янис Каулс посмотрел на солнце и сказал, что если они хотят побывать сегодня еще где-нибудь, то надо двигаться. И они отправились к машине, совсем невидной в гуще ветвей плакучей березы, куда поставил ее Каулс.
Напоследок Игорь крикнул Гауе:
– До свиданья, Га-а-у-я-а!
И Гауя ответила ему по-латышски:
– Я-a! Я-а!
Конечно, это обозначало просто «Да! Да!», но хорошо было уже то, что Гауя ответила. Это было очень вежливо. И совсем тут ни при чем эхо! Что за противная привычка у взрослых все объяснять! И объяснять так неинтересно…
7
Что это был за день!
Бывают же такие дни, которые кажутся бесконечными и которые вмещают в себя столько, что рассказов об увиденном в этот день хватит потом надолго.
После горы Живописцев Янис Каулс повез всех в долину Сигулды и опять открыл друзьям своим новое великолепие, новую красоту, поставив впереди себя Балодиса, чтобы тот рассказал по-настоящему обо всем. И сам тоже слушал и восхищался тем, как складно рассказывает Балодис. Даст же бог такой дар человеку!..
И опять нельзя было остаться равнодушным к этому месту.
Папа Дима, бросив взгляд на окрестность, закричал радостно:
– Галенька, смотри, как похоже это на Океанскую в Приморье!
И оба они удивились тому, как схожи между собой места, отдаленные друг от друга расстоянием в четверть окружности земного шара. И высокие холмы слева и справа были такими же. И солнце здесь было такое же щедрое. И на склонах холмов виднелись так же прихотливо смешанные и дуб, и ель, и сосна, и рябина, и жимолость, и багульник, и ивняк, и орех, что ютились на этих взгорьях, росли, тянулись к солнцу, шумели листвой и хвоей, шевелились под напором ветра, красовались друг перед другом, карабкались на вершины – туда, где больше света и простора!..
В толще одного холма, под чудовищным навесом рыжих плитняков, была большая пещера, а в пещере журчал родник. Чистый-чистый, с нестерпимо холодной водою, он вытекал просто из-под горы и точил свою ясную воду в долину… В этой пещере жил некогда добрый человек. Кто знает, как его звали, как его имя, да и не в этом дело, а в том, что у этого человека каждый прохожий, каждый, кому приходилось туго от жестокой баронской опеки, находил и пишу и кров и покидал его со словами: «Спасибо тебе, добрый человек!» Так и осталось за ним это имя: «Гутман, добрый человек»… Он и до сих пор живет в горе, уйдя туда от рук баронов…
Вьется дорога по долине Сигулды. То тут, то там видны здесь люди с рюкзаками на спине и с палками в руках, в грубой спортивной обуви… По шоссе время от времени пролетают автобусы и легковые машины, а также грузовики с надписью: «Экскурсия», чтобы все знали, кто едет на этих машинах. Автобус, битком набитый школьниками, которые сидят даже на крыше, вдруг останавливается. Из кабины выскакивает преподаватель. Он загоняет школьников в автобус и сам закрывает с наружной стороны дверь. Успокоенный, он садится рядом с шофером, и машина трогается. Но уже чьи-то торопливые руки через окно тянутся к щеколде, закрывающей дверь, чьи-то руки вынимают ее. Дверь раскрывается, на ходу уже кто-то цепляется за крышу. Изнутри его подсаживают услужливые товарищи. И вот первый опять на крыше. Он подает руки, распластавшись наверху, тем, кто стоит наготове в двери, и вытягивает наверх товарища… И опять сидят на крыше мчащегося автобуса школьники и поют что-то во весь голос, широко разевая рот. И опять останавливается автобус и преподаватель читает нотацию провинившимся и опять запирает их внутри. Но этих ребят там не удержать. Вот уже чьи-то руки тянутся через окно к щеколде…
А мы поднимаемся по крутой тропинке на вершину высокого холма. Нет, это не тропинка, это лестница. Пиленый плитняк положен прямо на землю… Раз, два, три! Это будет повыше, чем в новом доме Вихровых! А если бегом!.. Ух, как бьется сердце! Раз-раз-раз! Два-два-два! Три-три-три…
О-о! Только теперь видно, как высоко мы забрались!
Отсюда видна та местность, где расположена пещера Гутмана. Высокие холмы, под которыми ютится пристанище доброго человека, затянуты дымкой, и зелень холмов кажется уже не зеленью, а синевой. Вот один из холмов уходит постепенно в тень и совсем синеет, зато второй радует глаз игрой красок. Эй, солнце! Куда ты спешишь, мы еще многого не видели! Ну, не надо так торопиться…
Игорь оборачивается и застывает.
Прямо перед ним высятся крепостные стены, толщиною в три метра. Они возносятся гордо и неприступно. И суровости их не умаляет ничуть то, что разрушительное время пронеслось над ними беспощадным ураганом и обгрызло эти стены своими страшными зубами, лишь обломки их стоят тут, где некогда царствовал над всей округой баронский замок, одним видом своим устрашавший простолюдинов и напоминавший им каждодневно, что над жизнью и смертью их властен владелец замка, что ему, а не им принадлежит урожай с их полей, что ему, а не им принадлежит каждая кроха их жалкого достояния…
Узкие бойницы в стенах, высокие стрельчатые ворота, огромная башня, когда-то стоявшая на углу замка для обозрения всей округи на западных рубежах баронского владения, обломки внутренних покоев, сложенных также добротно и могущих служить как приют утехи любовной или семейной, или как последний крепостной рубеж, когда враг вламывался в замок, – все это исполнено поразительной тишины и значения… Море камней лежит вокруг – пали неприступные когда-то стены, пал замок, гроза соседей и надежда друзей, ушла жизнь, когда-то радостная или тяжкая! Но видения прошлого и нынче витают здесь. И вот уже чудится глазу, – не жалкие и злые обломки стен вокруг, а весь замок встает царственно на вершине холма. В высоких окнах верховой ветер колышет тяжелые бархатные занавеси… На сторожевой вышке, разморенный жарою, в тяжелых доспехах, с арбалетом в руке, перегнулся через зубцы-укрытия воин и смотрит вниз на дорожку, что, поднимаясь к замку, вьется желтой змейкой по взлобку холма… Чья-то белая рука касается занавеси, чье-то личико глядит на ту же дорожку. У кованых железных врат шевелятся бородатые воины в стальных шлемах. Скрипит стопудовый ворот. И громада подъемного моста медленно отваливается и перекрывает ров. С глухим лязгом поднимается вверх железная решетка, усеянная острыми зубьями, и становится виден внутренний двор – там толпятся люди, занятые своими делами. Слышится поющий звук медной трубы на главной башне, и люди, бросая привычные дела, кидаются к воротам – посмотреть на пришельцев, что подымаются по дорожке вверх… Из ворот выходит молодой паж, на нем красный бархатный колет и на богатом поясе кинжал с перламутровой ручкой. Паж снимает с головы шляпу с белыми перьями и склоняется низко-низко перед прибывшими знатными путешественниками, которые впервые посетили эти края и которых надо принять по всем законам гостеприимства.
– О милостивые господа! – говорит паж, касаясь перьями земли. – Высокородная госпожа моя приветствует вас в своем замке и выражает надежду, что он не покажется вам слишком неуютным! Добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать!
Но высокородные господа, тяжело отдуваясь, садятся на камни, лежащие беспорядочной грудой на том месте, где должны быть ворота, и говорят:
– Ну и ну! Высоко забралась твоя госпожа, милый паж! Надо бы ей лифт соорудить. Ох!..
И тотчас же рушатся высокие стены. Летит вниз головой, размахивая арбалетом, сторожевой с вышки, рассыпаются доски подъемного моста, исчезают белые ручки, личико и бархатные занавеси из высоких окон, и сами окна тают в воздухе. И – вот! – возле Игоря развалины, только развалины!.. А на камнях сидят и роются в сумках, вынимая из них что-то очень вкусное, мама Галя и Мария Николаевна, а мужчины расстегивают рубашки и обмахиваются воротниками так, как это умеют делать только мужчины…
Ах, как вкусно все, что принесли с собой путешественники!
Игорь, однако, забывает жевать, то и дело останавливая свой взгляд на развалинах замка. Как жаль, что замок так разрушен, невозможно даже представить себе, как выглядел он на самом деле. О время!..
– Ну, не только время, – говорит Балодис. – Люди тут ему сильно помогли. Камень разбирали для своих построек. Один граф Шереметьев тут сделал столько, что… Он ломал стены замка и построил из выломанного камня целый дворец. Этот дворец – неподалёку. Сейчас в нем дом отдыха…
– А давно в замке жили люди? – спрашивает Игорь.
Янис Каулс отвечает:
– Как тебе сказать? Двести – триста лет обратно!! Или по-другому: все эти деревья выросли уже тогда, когда в замке никто не жил. Вокруг замка было голо. Ведь надо было, чтобы подходы к нему просматривались!
Трудно представить себе, что было время, когда эти деревья не росли на склонах холма. А ныне они шумят своими густыми вершинами; их мощные тела, закованные в толстый панцирь седой, бугристой коры, толщиной в ладонь, покрывают все видимое пространство, их железные корни проникли далеко в глубь почвы и переплелись в дружеском пожатье, их кудрявые кроны на вершине холма вознеслись выше развалин, да и в самих развалинах – на обломках стен, на широченных подоконниках тоже растут деревья. Когда-то занесло маленькое семечко в трещину, проросло оно, дало росток, росток жадно пил воду, которую щедрые здешние дожди несли ему отовсюду, укрепился и своими крепкими корнями рвет этот камень, ставший ему приютом… Сама природа стремится изгладить из памяти людей, заслоняя от их взоров, жестокое прошлое.
– История! – говорит Мария Николаевна и зябко поеживается, хотя день теплый, если не сказать – жаркий. – Сколько страшных трагедий таит в себе этот памятник!
Она вдруг испуганно вскрикивает:
– Противные девчонки!
Это и в самом деле Аля и Ляля, – они подошли незаметно к матери сзади и стали по бокам, изобразив на лицах каменное выражение.
– Как вы меня напугали! – говорит Мария Николаевна. – Ну что за дикие шутки, девочки! Не надо делать так!
– Мы не будем, мамочка! – одинаковыми голосами говорят Аля и Ляля.
А через секунду они вместе с Андрисом и Игорем уже в проломе башни, сохранившейся лучше всех. Она странная, эта башня, – кроме этого пролома, сделанного, видно, недавно, на ней нет ни одной бойницы, никакого другого отверстия.
– Это донжон, – говорит инженер. – Сюда входили только тогда, когда все помещения замка были захвачены врагами. По лестницам. И лестницы втаскивали с собой… Кто входил? Самые знатные. Зачем? Из башни только один выход – подземный ход. Куда он вел? Ну, на берег реки, в лес, в пещеру какую-нибудь, о которой никто не знал.
Балодис округляет глаза и многозначительно говорит:
– Никто не мог выдать тайну подземного хода. Люди только один раз делали такой ход – потом их убивали, чтобы сохранить тайну…
– О-о-о-о! – только и могут сказать хором ребята в ответ на этот рассказ… Вот бы найти этот ход!








