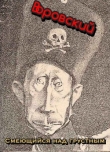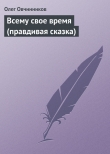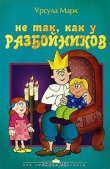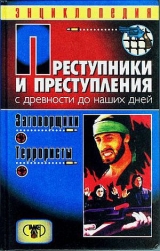
Текст книги "Преступники и преступления. С древности до наших дней. Заговорщики. Террористы"
Автор книги: Дмитрий Мамичев
Жанр:
Энциклопедии
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Рыцари плаща и кинжала (средние века)

РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА
Сын императора Византии Константина VII, названный Романом, после смерти своей жены, урожденной франкской принцессы Берты, влюбился в дочь одного трактирщика, которую звали Феофано, и женился на ней. Феофано сохранила и при дворе привычки своего детства. Кроме того, она внушила мужу мысль отравить отца, чтобы поскорее надеть императорскую корону. Один из ее сообщников поднес императору чашу с ядом, но по странной случайности она упала и яд разлился; чашу наполнили вторично – Константин выпил жидкость, заключавшуюся в чаше, после чего он почувствовал себя очень плохо, доктора еле привели его в чувство, но с тех пор он стал часто болеть и вскоре умер (959 г.).
Царствование Романа было самым постыдным. Вверив управление государством людям недостойным, он окружил себя шутами и куртизанами и только и делал, что проводил время в их кругу.
Один историк сохранил перечень развлечений, которым Роман предавался втечение одного дня. Утром император присутствовал на играх в цирке, потоки давал банкеты сенаторам, раздавал подарки народу, играла в мяч, проезжал по Босфору в шлюпке, ехал на охоту, убивал больших кабанов и возвращался к вечеру во дворец, где наслаждался музыкой и любовался танцами. Слушая советы жены, Феофано, он приказал своей матери и пяти сестрам удалиться в монастырь.

Сестры повиновались, но императрица Елена восстала, угрожая сыну лишением трона. Роман вскоре был отравлен своей женой.
Феофано именем малолетних детей – Василия, которому было пять лет, и двухлетнего Константина – как опекунша стала управлять империей. Потом она вышла замуж за полководца Никифора, провозглашенного императором. Это бракосочетание знаменательно тем, что прекрасно отражало нравы того времени. Никифор крестил когда-то одного из детей Феофано, а потому и считался ее кумом. Константинопольский патриарх из-за этого обстоятельства отказался освятить этот брак, противный законам церкви.
Но Феофано и Никифор энергично отвергали свое духовное родство. Тогда им обоим была предложена присяга. Никифор и Феофано согласились принять присягу и публично отреклись от того, что было известно всем гражданам без исключения. Тем не менее, брак был совершен и патриарх благословил его.
Между супругами, конечно, не было ни согласия, ни любви. Никифор был чересчур небрежен к Феофано, а последняя, способная только на преступления и никогда не отличавшаяся постоянством, завела себе любовника, генерала Иоанна Цимисхия, который вступил с ней в тайную связь, ставшую потом явной.
Любовники, само собой разумеется, в скором времени решили свергнуть с трона Никифора. Во дворце, в комнате Феофано, были скрыты заговорщики; об этом узнал Никифор и отдал приказание сделать обыск. По непростительной небрежности, именно та комната, где скрывались заговорщики, и не была осмотрена.


В ту же ночь Цимисхий и несколько офицеров высадились на берегу Босфора, около стен дворца. Феофано спустила им из окна шелковую лестницу, по которой они влезли внутрь; здесь они соединились со спрятавшимися заранее заговорщиками и с помощью императрицы проникли в спальню Никифора. Злодеи набросились на спящего, переломали ему ребра и кинжалами нанесли многочисленные раны в голову.
Народ, узнав, что заговорщики напали на дворец, бросился защищать императора: солдаты охраны и слуг отворили дверь в его спальню и увидали его окровавленного, лежащего на полу на медвежьей шкуре. При виде этой страшной картины все испугались и бросились бежать вон из дворца. Цимисхий тотчас же был провозглашен императором и Феофано надела на его голову корону.
Несчастный Никифор, за несколько часов до появления заговорщиков, послал приказ своему брату, генералу Леону, чтобы он привел во дворец отряд избранных солдат. К несчастью, Леон, увлекшись игрой, прочел приказ чересчур поздно. Когда он привел отряд во дворец, то Никифор был уже убит, а Цимисхий провозглашен императором. Солдаты тотчас же его покинули и он должен был спасаться в алтаре Святой Софии.
Иоанн Цимисхий, взяв за руки двух молоденьких августов, Василия и Константина, представился народу и был провозглашен императором.
Феофано, организовавшая убийство мужа для того, чтобы захватить трон и царствовать со своим любовником, горько ошиблась в расчете – ее выгнали из дворца и заперли в монастырь Армении. Прежде чем удалиться, она упрекала нового императора в неблагодарности и. увидав около него своего маленького сына Василия, который не протестовал против ее ссылки, назвала его скифом, варваром и бросилась душить ребенка, что несомненно сделала бы, если бы ее не удержали.

Семь лет спустя, когда умер Цимисхий, Феофано с сыновьями была призвана ко двору, но отказалась от власти (976 г.). Оба сына Феофано некоторое время царствовали сообща, но потом, когда умер Василий, Константин VIII остался на троне один.
Пио О. Жизнь римских императриц. – СПб., 1895.
БОРИС И ГЛЕБ – ПЕРВЫЕ РУССКИЕ СВЯТЫЕ
Великий князь Киевский Владимир Святой[75]75
Владимир – великий князь Киевский 980–1015. В 979 г. победил иубил своего брата великого князя Киевского Ярополка и сам стал великим князем Киевским. В его правление произошло крещение Руси.
[Закрыть] усыновил своего племянника Святополка,[76]76
Своего старшего сына и законного наследника Святополка Владимир ненавидел. Святополка звали «сыном 2-х отцов», так как Владимир захватил в плен и взял в жены его мать-гречанку, бывшую беременной от им же убитого брата князя Ярополка.
[Закрыть] однако ж не любил его и, кажется, предвидел в нем будущего злодея. Современный летописец немецкий Дитмар, говорит, что Святополк, правитель Туровской области, женатый на дочери польского короля Болеслава, хотел, по наущению своего тестя, отложиться от России и что великий князь, узнав о том, заключил в темницу сего неблагодарного племянника, жену его и немецкого епископа Реинберна, который приехал с дочерью Болеслава. Владимир – может быть, при конце жизни своей – простил Святополка: обрадованный смертиею дяди и благодетеля сей недостойный князь спешил воспользоваться ею; созвал граждан, объявил себя государем Киевским и роздал им множество сокровищ из казны Владимировой. Граждане брали дары, но с печальным сердцем: ибо друзья и братья их находились в походе с князем Борисом, любезным отцу и народу. Уже Борис, нигде не встретив печенегов, возвращался с войском и стоял на берегу реки Альты: там принесли ему весть о кончине родителя, и добродетельный сын занимался единственно своею искреннею горестию. Товарищи побед Владимировых говорили ему: «Князь! С тобою дружина и воины отца твоего; поди в Киев и будь государем России!» Борис ответствовал: «Могу ли поднять руку на брата старейшего? Он должен быть мне вторым отцом». Сия нежная чувствительность казалась воинам малодушием: оставив князя мягкосердечного, они пошли к тому, кто властолюбием своим заслуживал в их глазах право властвовать.

Но Святополк имел только дерзость злодея. Он послал уверить Бориса в любви своей, обещая дать ему новые владения, и в то же время приехал ночью в Вышегород, собрал тамошних бояр на совет. «Хотите ли доказать мне верность свою?» – спросил новый государь. Бояре ответствовали, что они рады положить за него свои головы. Святополк требовал от них головы Бориса, и сии недостойные взялись услужить князю злодеянием. Юный Борис, окруженный единственно малочисленным слугами, был еще в стане на реке Альте. Убийцы ночью приблизились к шатру его и, слыша, что сей набожный юноша молится, остановились. Борис, уведомленный о злом намерении брата, изливал пред всевышним сердце свое в святых песнях Давидовых. Он же знал, что убийцы стоят за шатром, и с новым жаром молился… за Святополка; наконец, успокоив душу небесною верою, лег на одр и с твердостию ожидал смерти. Его молчание возвратило смелость злодеям: они вломились в шатер и копьями пронзили Бориса, также верного отрока его, который хотел своим телом защитить государя и друга. Сей юный воин, именем Георгий, родом из Венгрии, был сердечно любим князем своим и в знак милости его носил на шее золотую гривну: корыстолюбивые убийцы не могли ее снять, и для того отрубили ему голову. Они умертвили и других княжеских отроков, которые не хотели спасаться бегством, но все легли на месте. Тело Борисово завернули в намет и повезли к Святополку. Узнав, что брат его еще дышит, он велел двум варягам довершить злодеяние: один из них вонзил меч в сердце умирающему… Сей несчастный юноша, стройный, величественный, пленял всех красотою и любезностию; имел взор приятный и веселый; отличался храбростию в битвах и мудростию в советах. Летописец хотел передать будущим векам имена главных убийц и называет их: Путша, Талец, Елович, Ляшко. В Несторово время они были еще в свежей памяти и предметом общего омерзения. Святополк без сомнения наградил сих людей, ибо имел еще нужду в злодеях.


Он немедленно отправил гонца к муромскому князю Глебу сказать ему, что Владимир болен и желает видеть его. Глеб, обманутый сею ложною вестию, с малочисленною дружиною спешил в Киев. Дорогою он упал с лошади и повредил себе ногу; однако ж не хотел остановиться и продолжал свой путь от Смоленска водою. Близ сего города настиг его посланный от брата Ярослава, князя новогородского, с уведомлением о смерти Владимировой и гнусном коварстве Святополка; но в то самое время, когда Глеб чувствительный, набожный подобно Борису, оплакивал отца нелюбимого брата, в усердных молитвах поверяя небу горесть свою, явились вооруженные убийцы и схватили его ладию. Дружина муромская оробела: Горясер, начальник злодеев, велел умертвить князя, и собственный повар Глебов, именем, Торчин, желая угодить Святополку, зарезал своего несчастного государя. Труп его лежал несколько времени на берегу, между двумя колодами, и был наконец погребен в вышегородской церкви св. Василия, вместе с телом Бориса.
Еще Святополк не насытился кровию братьев. Древлянский князь Святослав, предвидя его намерение овладеть всею Россиею и будучи не в силах ему сопротивляться, хотел уйти в Венгрию; но слуги Святополковы догнали его близ гор Карпатских и лишили жизни. Братоубийца торжествовал злодеяния свои, как славные и счастливые дела: собирал граждан киевских, дарил им деньги, одежду и надеялся щедростию приобрести любовь народную:[77]77
В последовавшей гражданской войне Святополка с братом Ярославом Новгородским, победу одержал последний. Святополк бежал на запад и вскоре умер.
[Закрыть]
Карамзин Н. М. История государства Российского. – Ростов н/Д.: Феникс, 1994.
УБИЙСТВО В БОГОЛЮБОВЕ
Великий князь суздальский Андрей Юрьевич Боголюбский[78]78
Андрей Боголюбский (ок. 1111–1174 г.) князь Владимир Суздальский с 1157 г., сын Юрия Долгорукого. С 1159 упорно боролся за подчинение Новгорода своей власти и вел сложную военную и дипломатическую игру в Южной Руси. В 1169 войска Андрея Боголюбского взяли Киев. Став «самовластием всей суздальской земли» перенес столицу во Владимир, укрепил его и построил великолепный Успенский собор и другие памятники. В это же время под Владимиром вырос княжеский замок Боголюбово – любимая резиденция Андрея. Убит, заговорщиками в ночь с 28 на 29 июня 1174 года.
[Закрыть] был женат на дочери боярина Кучка. Предание говорит, что Юрий Долгорукий, отец Андрея Боголюбского, казнил этого боярина за какую-то вину, присвоил себе его поместье, в котором и основал город Москву. Живя в Боголюбове, Андрей, по-видимому, был уже вдов; при нем оставались два Кучковича, братья его жены, в качестве ближних и больших бояр. К этим большим боярам принадлежал также зять Кучковичей Петр и еще какой-то пришлец с Кавказа из ясов или алан, по имени Анбал. Сему последнему великий князь доверил ключи, то есть управление своим домом. Но эти люди, осыпанные милостями, не питали к нему любви и преданности. Умный, набожный князь не отличался мягким нравом в отношении к окружающим, а под старость характер его сделался еще тяжелее и суровее. Избегая слишком близкого общения с подданными и отличаясь трезвостью, Андрей не любил пить и бражничать с своею дружиною, как это было в обычае у русских князей. С таким характером, с такими привычками он не мог пользоваться большим расположением дружинников, которые прежде всего ценили в князьях щедрость и ласковое обхождение. Не видно также, чтобы и земские люди питали к нему привязанность. Несмотря на строгость князя, его корыстолюбивые посадники и тиуны умели преследовать свои собственные выгоды, притеснять народ неправдами и поборами.
Один из Кучковичей каким-то проступком до того прогневал великого князя, что последний велел казнить боярина, подобно тому, как отец его Юрий казнил самого Кучка. Это событие сильно возмутило бояр, и без того роптавших на самовластие Андрея. Брат казненного, Яким, собрал на совет недовольных, и говорил им в таком смысле: «сегодня казнил его, а завтра дойдет черед до нас; подумаем о своих головах». На совещании решено было убить великого князя. Число заговорщиков простиралось до двадцати; вожаками их, кроме Якима Кучковича, явились помянутый зять его Петр, ключник Анбал и еще какой-то Ефрем Моизович, вероятно перекрест из жидов, которых Андрей любил обращать в христианство, так же, как и болгар. Подобное возвышение и приближение к себе инородцев, может быть, происходило из недоверия князя к коренным русским боярам и его расчета на преданность людей, всем ему обязанных. Но без сомнения, и этих, взысканных им, проходимцев раздражали непрочность его благоволения и опасение уступить свое место новым любимцам. Именно в то время самым приближенным лицом к князю сделался какой-то отрок Прокопий, следовательно возвышенный из младших дружинников или дворян. Прежние любимцы завидовали Прокопию и искали случая его погубить.

Была суббота 29 июня 1175 года, праздник св. апостолов Петра и Павла. Зять Кучков Петр праздновал свои именины. К нему на обед собрались недовольные бояре, и тут окончательно порешили замысел свой немедля привести в исполнение. Когда настала ночь, они вооружились и отправились на княжий двор; умертвили сторожей, охранявших ворота, и пошли в сени, т. е. в приемный покой терема. Но тут на них напали страх и трепет. Тогда – конечно по приглашению ключника Анбала – они зашли в княжию медушу и ободрили себя вином. Затем поднялись опять в сени и тихо подошли к Андреевой ложнице. Один из них постучал и стал кликать князя.
«Кто там?» – спросил Андрей.
«Прокопий» – получил он в ответ.
«Нет, это не Прокопий» – сказал князь.
Видя, что нельзя войти хитростью, заговорщики устремились всей толпой, и выломали двери. Князь хотел взять свой меч, который, по преданию, принадлежал когда-то св. Борису; но коварный ключник спрятал его заранее. Андрей, несмотря на годы еще сохранявший телесную силу, схватился впотьмах с двумя прежде других ворвавшимися убийцами, и одного из них поверг на землю. Другой, думая, что повержен был князь, нанес ему удар оружием. Но заговорщики вскоре заметили ошибку, и налегли на князя. Продолжая обороняться, он горячо укорял их, сравнивал с Горясером, убийцей св. Глеба, грозил Божьей местью неблагодарным, которые за его же хлеб проливают его кровь, но тщетно. Вскоре он упал под ударами мечей, сабель и копий. Считая все конченным, заговорщики взяли своего павшего товарища, и пошли вон из терема. Князь, хотя весь израненный, вскочил, и в беспамятстве со стенаниями последовал за своими убийцами. Те услышали его голос и воротились назад. «Я как будто видел князя, сходящего с сеней вниз,» – сказал один из них. Пошли в ложницу; но там никого не было. Зажгли свечу, и по кровавому следу нашли князя, сидящего за столбом под лестницей. Увидя их приближение, он начал творить последнюю молитву. Боярин Петр отрубил ему руку, а другие его докончили. Умертвили также его любимца Прокопия. После того убийцы занялись расхищением княжего добра. Собрали золото, драгоценные камни, жемчуг, дорогие одежды, утварь и оружие; поклали все это на княжих коней, и еще до света развезли по своим домам.
На следующее утро, в воскресенье, убийцы поспешили принять меры для своей безнаказанности. Они опасались дружины, сидевшей в стольном Владимире; а потому начали «собирать полк», т. е. вооружать на свою защиту всех, кого могли. В то же время они послали спросить владимирцев, что те намерены предпринять? И велели сказать им, что совершенное дело задумали не от себя только, но от всех (дружинников). Владимирцы на это возразили: «кто был с вами в думе, тот пусть и отвечает, а нам его не надобно». Ясно было, что главная дружина встретила ужасную весть довольно равнодушно, и не показала охоты мстить за смерть нелюбимого господина. Так как поблизости не было никого из князей, кто бы мог схватить власть твердой рукою, то немедленно гражданский порядок был нарушен. Начался неистовый грабеж. В Боголюбове, по примеру дружинников, чернь бросилась на княжий двор и растаскивала все, что попадалось под руку. Потом принялись грабить дома тех мастеров, которых Андрей собирал отовсюду для своих построек и которые, пo-видимому, успели нажить от них значительное имущество. Чернь напала также на посадников, тиунов, мечников и других княжих слуг, нелюбимых за неправедный суд и разные притеснения; многих из них перебила и дома их разграбила. Из соседних сел приходили крестьяне и помогали горожанам в грабеже и насилиях. По примеру Боголюбова, то же самое произошло и в стольном Владимире. Здесь мятеж и грабежи утихли только тогда, когда соборный священник Микулица и весь клир облеклись в ризы, взяли из Успенского храма всеми чтимую икону Богородицы и начали ходить по городу.

Киевская летопись сообщает далее любопытные и трогательные подробности.
Между тем как происходили эти мятежи и разные беззакония, тело убиенного князя, брошенное в огород, лежало там, ничем не прикрытое. Бояре грозили убить всякого, кто вздумает оказывать ему почести. Нашелся однако честный и добрый слуга княжий, какой-то Кузмише Киевлянин, который, по-видимому, не был во время убийства в Боголюбове, а пришел сюда, услыхав о случившемся. Он начал плакать над телом, причитая, как покойный победил полки «поганых» болгар, а не мог победить своих «пагубоубийственных ворожбит».
Подошел Анбал ключник.
«Анбале, вороже! Сбрось ковер или что-нибудь, что можно подостлать и чем бы прикрыть тело нашего господина» – сказал ему Кузмише.
«Поди прочь. Мы хотим выбросить его псам».
«О, еретиче! Уж и псам выбросить! Помнишь ли, жидовин, в чем ты пришел сюда? Теперь ты в оксамите стоишь, а князь наг лежит. Но молю тебя, сбрось что-нибудь».
Ключник как бы усовестился, сбросил ковер и корзно.
Кузмише обвернул тело князя, отнес его к Рождественской церкви и просил отпереть ее.
«Вот нашел о чем печалиться! Свали тут в притворе» отвечали ему пьяные приставники, которые, очевидно, предавались буйству наравне со всеми.
Кузмище со слезами вспомнил по этому случаю, как, бывало, князь приказывал водить в церковь всяких нехристей и показывать им славу Божию; а теперь в эту же изукрашенную им церковь его самого не пускали его собственные паробки. Он положил тело в притворе на ковер и прикрыл корзном. Тут оно пролежало два дня и, две ночи. На третий день пришел Арсений, игумен Козмодемьянского (вероятно Суздальского) монастыря, и начал говорить боголюбским клирошанам:
«Долго ли смотреть нам на старших игуменов? И долго ли лежать тут князю? Отоприте-ка божницу; я отпою его; а вы положите его в (деревянную) буду или в (каменный) гроб, и, когда прекратится мятеж, то пусть придут из Владимира и отнесут его туда».
Клирошане послушались; внесли князя в церковь, положили в каменную гробницу, и отпели над ним панихиду, вместе в Арсением.
Только в следующую пятницу, то есть уже на шестой день после убийства, владимирцы опомнились. Бояре, дружина и городские старцы сказали игумну Феодулу и Луке, домественнику (уставщику церковного пения) при Успенском храме, чтобы снарядили носилки и вместе с успенскими клирошанами отправились за телом князя. А священнику Микулице велели собрать попов, облечься в ризы и стать за Серебряными воротами с иконою Богородицы, чтобы встретить гроб. Так и было сделано. Когда со стороны Боголюбова показался княжий стяг, который несли перед гробом, владимирцы, столпившиеся у Серебряных ворот, прослезились и начали причитать. При этом вспоминали добрые стороны князя и его последнее намерение: ехать в Киев, чтобы соорудить там новую церковь на Великом дворе Ярослава, для чего он уже и мастеров послал. Затем с должной честью и молитвенными песнопениями князь был погребен в своем златоверхом Успенском храме.[79]79
Впоследствии многие из убийц Андрея были казнены его братом Михаилом Юрьевичем.
[Закрыть]
Иловайский Д. И. История России. – Т.2. Становление Руси. – М.: Чарли, 1996.
ИСМАИЛИТЫ И АССАСИНЫ
Исмаилизм, – ныне одна из мусульманских сект, особенно распространенная в Персии и в Пакистане, – зародился в восьмом столетии, как особое направление в исламе, и вначале носил характер скорее политической партии, чем религиозной секты. Среди потомков первых халифов,[80]80
Слово «халиф» значит «наместник», «заместитель». Позже оно приобрело значение императорского титула, – это одновременно и светский и духовный глава мусульман.
[Закрыть] – родственников и свойственников Магомета, – шла борьба за верховную власть, а потому появилось несколько таких партий-сект, каждая из которых защищала права своего кандидата, стараясь найти для этого какую-то опору в Коране и в сунне.
На этой почве в исламе прежде всего возникли две основных, политических по существу, партии – суннитов и шиитов,[81]81
Название «сунниты» происходит от слова «сунна», что значит обычай, законность. Название «шииты» – от слова «шийа», которое можно перевести как дружина или союз приверженцев.
[Закрыть] каждая из которых, для усиления своих позиций, опиралась на те или иные положения Корана и сунны: Никаких догматических расхождений между ними вначале не было, они появились позже. И когда, с течением времени политические причины вражды утратили свою остроту, центр ее тяжести переместился в область чисто догматическую, навеки разделив ислам на два непримиримых направления.
Сунниты, – собственно правоверные мусульмане, – составляющие огромное большинство, безоговорочно признают непогрешимость сунны и считают, что в лице халифа всегда соединяется высшая духовная и светская власть. В трех первых халифах – Абу-Бекре, Омаре и Османе они видят законных преемников Магомета и считают непререкаемым все сделанное ими в области оформления и пополнения ислама. Права Омейадов и Аббасидов на халифат они тоже признают вполне законными.
Шиить,[82]82
К шиитскому толку ныне принадлежат почти все мусульмане Персии и большинство в Ираке и в Пакистане.
[Закрыть] наоборот стоят на том, что единственным законным преемником пророка Магомета был его зять и двоюродный брат Али, роду которого, как прямому потомству. Пророка, принадлежит наследственное право на халифат и на имамат,[83]83
Слово «имам» дословно означает «стоящий впереди». Сначала так называли старшего священнослужителя каждой общины, а позже духовного главу мусульман.
[Закрыть] то есть на светское и на духовное владычество над мусульманским миром. Трех первых халифов, а также всех других из династий Омейадов и Аббасидов они считали узурпаторами и если вынуждены были подчиняться их светской власти, то духовной за ними во всяком случае не признавали и своими законными имамами считали только потомков Али. Его сына Хусейна, погибшего в борьбе с Омейадами, они провозгласили великомучеником, а перса Улу Фируза, убийцу халифа Омара – святым.
Во второй половине восьмого века среди шиитов произошел раскол. Их шестой имам, потомок Али, Джаффар ас-Садик, лишил своего старшего сына Исмаила наследственных прав на имамат и назначил своим преемником другого сына – Мусу Казима. Нашлись шииты, которые сочли этот акт незаконным. Своим седьмым имамом они провозгласили Исмаила и в дальнейшем только за его потомками признавали право на имамат. Так зародилась новая секта исмаилитов, вскоре приобретшая характер своеобразного ордена, основателем которого считается некий Абдаллах ибн-Маймун ал-Каддах.
Достоверно известно, что первый глава исмаилитов Абдаллах ал-Каддах только наружно исповедовал ислам, а в душе его ненавидел, как и все идущее от арабов, и втайне принадлежал к одной из сект парсизма.[84]84
Парсизм – учение Зороастра.
[Закрыть] Его ближайшие сотрудники и доверенные лица тоже были тайными зороастриицами или вольнодумцами. Иными словами, сектою управляли враги ислама, вынужденные скрывать свои истинные убеждения от основной массы исмаилитов, которая состояла из верующих мусульман, но, по идее возглавителей, должна была служить только слепым орудием в их руках.
Сообразно этому, секта получила структуру ордена, который подразделялся на семь, а по некоторым источникам даже на девять степеней посвящения. Рядовые члены не поднимались выше второй, и здесь, в низах, по-видимому, господствовал чистый ислам. В следующих степенях он постепенно развенчивался и наконец, в самых высших, – в которые посвящались лишь избранные, отрицался полностью. Тут выявлялась совершенно иная религиозно-философская доктрина, в которой можно обнаружить отдельные элементы учения Зороастра, буддизма и гностицизма, но кое-что оставлено и от мусульманства. Весьма заметно также влияние теоретической философии (метафизики) Аристотеля.
В общих чертах, по этому внутреннему учению исмаилитов, существует некий абсолютный мировой дух или всевышний Бог, который, однако, не имеет определенного образа и характеризующих его свойств и качеств, – это скорее непостижимый для людей сгусток идеи творения и первопричина всего, существующего. Исмаилиты сохранили за ним имя Аллаха, но считают, что какое-либо общение с ним невозможно и молитва ему бессмысленна.
Исмаилиты считают, что великих пророков было семь: Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус, Магомет и Исмаил. Но, согласно их учению, будут еще и другие, высшие пророки, которые постепенно доведут избранную часть человечества до совершенного знания, т. е. до возвращения к своему первоисточнику – Мировому Разуму. Пока же это не достигнуто, избранных ожидает перевоплощение душ, а остальные люди после смерти просто уходят в небытие.
Во все это членов секты посвящали постепенно, доводя каждого до того предела откровения, на восприятие которого считали его способным.
Когда неофит приносил клятву молчания и повиновения, его вводили в первую степень, где учили воздавать хвалу и поклонение Аллаху и Магомету, лишь слегка своеобразно истолковывая Коран и ни в чем не отступая от шариата. Для лиц неразвитых и примитивных на этом дело и кончалось. Более способных через некоторое время посвящали во вторую степень, где смысл Корана извращался уже сильнее. На третьей степени этой иерархической лестницы следовали новые откровения и принципы шариата объявлялись не обязательными. На четвертой уже прямо говорили, что, шариат выдуман для глупцов и невежд, чтобы легче держать их в повиновении. Далее посвящаемый, – если его находили способным и достойным, – узнавал, что Магомет не является высшим авторитетом: он выше Моисея и Иисуса, но придут пророки, которые его превзойдут и затмят. Последним из них будет Махди, который совершит всевышний суд над людьми и введет избранных в царство Мирового Разума.[85]85
Некоторая часть исмаилитов считала, что после седьмого великого пророка Исмаила, Махди будет следующим – восьмым и последним. Это подразделение касты получило название карматов. В области внешней карматы обычно действовали в полном согласии с чистыми исмаилитами и временами играли на мусульманском Востоке крупную историческую роль.
[Закрыть]
На этом, т. е. на пятой степени, магометанство исмаилита фактически кончалось. На следующих уже учили, что обряды – это пустая формальность, что все религии, в сущности, одинаковы и что их предписания обязательны только для черни и для примитивно мыслящих людей. И наконец, на самой верхней внушалось, что философия выше религии. Тут посвящаемый делался уже вольнодумцем и ему открывались истинные положения и цели исмаилизма. Но этих вершин достигали лишь немногие, особо избранные.
В силу такой организации, орден исмаилитов быстро рос и усиливался, постепенно опутывая своими сетями весь халифат и вбирая в себя не только мусульман, но также многих зороастрийцев, христиан, евреев и буддистов, которые ждали от него защиты и установления справедливости. Когда умер Абдаллах ал-Каддах, главою исмаилитов стал его сын Ахмед. При нем орден уже приобрел на Востоке огромное политическое значение и приступил к открытым действиям против династии Аббасидов.
В конце девятого столетия исмаилиты захватили Бахрейн и часть побережья Африки, где на их сторону стали берберийские племена. Халифом и имамом этих областей был провозглашен один из потомков Али и Фатимы, Абусейид, который, приняв имя Убейд-Аллаха, стал родоначальником династии Фатимидов.
Несколько десятков лет спустя исмаилиты завоевали Сирию, а вскоре и Египет, – здесь был ими основан город Каир, куда Фатимиды перенесли свою столицу. Им подчинилась также вся Северная и Западная Африка, и с той поры Египетский халифат уже не уступал в могуществе Багдадскому, а временами даже превосходил его. Фатимиды во всем опирались на исмаилитов и, соответственно по принципам, отличались большой веротерпимостью, правили они разумно и гуманно. Египет при них процветал и в культурном и в торговом отношении.
Во второй половине одиннадцатого века среди Фатимидов[86]86
Династия Фатимидов правила в Египте до 1171 года, когда последний ее представитель, халиф Адыл, был низложен Саллах ад-Дином, который основал новую – династию Эйюбидов, курдского происхождения.
[Закрыть] и их приверженцев произошел раскол: халиф. Мустансир Биллаги назначил своим преемником старшего сына Низара, а потом это назначение отменил в пользу второго сына, Мустали, который и вступил на престол. Но фатимидский халиф у исмаилитов считался также имамом. Многие нашли, что однажды назначенный имам уже не может быть лишен благодати, и стали признавать законными имами только Низара и его потомков. С этого момента исмаилиты разделились на два толка: низаритов; и мусталитов. Первые[87]87
Ныне низаритов подавляющее большинство.
[Закрыть] получили преобладание в Персии и в Индии, вторые в Египте и вСирии.
В дни этого раскола к руководителям низаритов принадлежал некий Гасан ибн-Сабах, перс по национальности. Изгнанный мусталитами из Египта, он возвратился к себе на родину, где, скрываясь от властей, с которыми у него были старые счеты, – быстро приобрел исключительное влияние среди персидских исмаилитов и возглавил их борьбу против власти воцарившейся в Персии династии Сельджукидов, которая к этому времени фактически подчинила себе Багдадский халифат, признавая халифов Аббасидов только духовными руководителями.[88]88
Сельджукский хан Тогрул-бек, овладев Персией, в 1056 году взял и Багдад. Халифа Кайма он принудил дать ему титул султана и выдать за него свою внучку, после чего халиф сохранил над Персией чисто номинальную духовную власть, но в политическом отношении всецело зависел от сельджукских султанов.
[Закрыть]
Эта борьба велась уже более сорока лет, но особого успеха не имела, ибо султаны Сельджукиды боролись с исмаилитами их же оружием: правительство Наводнило страну своими шпионами и доносчиками, благодаря которым все крупные заговоры вовремя раскрывались и следовала жестокая расправа. Так, например, в Мавераннахре,[89]89
Мавераннахр – что значит «междуречье», – название, которое арабы дали завоеванной ими территории древней Согдианы. Он включал Бухару и Самаркандскую область.
[Закрыть] после раскрытия очередного заговора в 1044 году, исмаилиты были истреблены почти поголовно. Но в 1063 году на персидский престол взошел благородный по духу султан Алп-Арслан, который, считая внутренний шпионаж и доносы недостойным делом, запретил пользоваться этими методами. Это послабление дало исмаилитам возможность необычайно окрепнуть в течение следующих двух десятилетий. По истечении этого срока они уже были настолько сильны, что смогли отважиться на открытое восстание против Сельджукидов.
Царствовавший в это время султан Мелик-шах, сын Алп-Арслана, заслуженно получивший прозвание Великого, был одним из лучших правителей в истории Персии. Под своей властью он объединил всю мусульманскую Азию, его империя простиралась от границ Китая до берегов Мраморного моря. С помощью так же прославленного историей везира Низам ал-Мулька он сделал для Персии и смежных с нею земель весьма многое, приведя их к блестящему расцвету и благоустройству. Всюду отстраивались разрушенные и строились новые города, проводились удобные дороги и оросительные каналы; в пяти главных центрах – Багдаде, Исфагани, Герате, Басре и Нишапуре – были открыты училища высших знаний, – по существу первые в мире, университеты. Кроме того, по всем городам было построено множество великолепных общественных зданий, мечетей и школ; в Багдаде была перестроена и прекрасно оборудована старая аббасидская обсерватория, – результатом ее работ явилась важная реформа календаря. Мелик-шах был гуманен, веротерпим, широко покровительствовал науке и искусству; а в религиозном отношении придерживался шиизма.
Все это ничуть не умиротворило исмаилитов и не завоевало их симпатий. Они вели себя все более вызывающе, а когда везир Низам ал-Мульк отдал приказ о поимке и аресте Гасана ибн-Саббаха, взялись за: оружие.