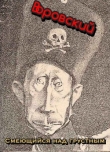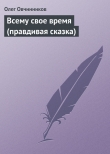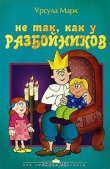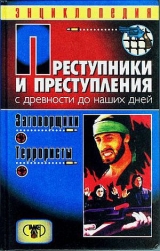
Текст книги "Преступники и преступления. С древности до наших дней. Заговорщики. Террористы"
Автор книги: Дмитрий Мамичев
Жанр:
Энциклопедии
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Измайловский полк был, очевидно, предупрежден, таккак солдаты успели взять из кладовых мундиры старой (елизаветинской) формы, и часть полка быстро выстроилась. Екатерина обращается к солдатам с энергичной речью, прося у них защиты от своих неприятелей, которые покушаются на ее собственную жизнь и на жизнь ее сына. Солдаты клянутся умереть за императрицу и бросаются целовать ее ноги, руки и платье. В это время офицеры приводят остальных измайловцев, является полковой священник с крестом, и весь полк присягает Екатерине II. Она садится опять в коляску и едет к казармам Семеновского полка. Выйдя к ней навстречу, семеновцы кричат «ура» и присоединяются к Екатерине. С таким же энтузиазмом примыкают к ней Преображенский полк и конная гвардия. Государыня посылает отряд арестовать начальника конных гвардейцев принца Жоржа и вместе с тем предохранить его от возможных оскорблений. Орловы спешат после того к артиллеристам и уговаривают их последовать примеру гвардии, но солдаты хотят узнать прежде мнение своего начальника. Генерал Вильбуа несколько минут колеблется, однако уступает, и артиллерия также переходит на сторону Екатерины.

Между тем на место действия прибывают: гетман Разумовский, Н. И. Панин, князь Волконский, И. И. Шувалов и многие другие вельможи, которые присоединяются к свите императрицы. Окруженная войском и народом, она отправляется в Казанский собор; здесь ее встречают архиепископ новгородский и высшее духовенство. Пропели благодарственный молебен и торжественно провозгласили Екатерину самодержавнейшей императрицей всея России, а великого князя Павла Петровича – наследником престола. Из собора государыня поехала в новый Зимний дворец, достроенный Петром III, где уже собирались для принесения присяги Сенат и Синод. Немедленно приняты и необходимые меры предосторожности: подступы ко дворцу защищены артиллерией, на многих пунктах расставлены сильные отряды часовых, сообщение с Петергофом и Ораниенбаумом совершенно прекращено, а в Кронштадт послан захватить эту крепость адмирал Талызин. Императрица поспешила разослать курьеров в провинцию к гражданским и военным начальникам, а также к генералам войск, находившимся в Пруссии; дипломатический корпус получил официальное уведомление о перемене царствующей особы. Необходимые меры были приняты настолько быстро, что нет никакого сомнения в том, что в Петербурге об этом заранее кто-то позаботился. До нас дошло, например, известие, что наборщики типографии Академии наук были в ночь на 28 июня заарестованы: очевидно, ожидалось, что им будет работа (печатание правительственных распоряжений, так как таковые всегда печатались в этой типографии). Самый манифест о вошествии на престол Екатерины II также вероятно составлен был не 28 июня, а ранее.
В это время Петр III находился в Ораниенбауме. Это был канун его именин; Петр желал начать их праздновать в Петергофе, и Екатерина должна была его там ждать. Император приказал подать экипаж и приехал в Петергоф. Осмотрев павильон, в котором жила Екатерина, убедились, что ее там нет. По всем признакам было видно, что произошел не отъезд, а бегство; значит, надобно было предполагать что-нибудь дурное. Старые вельможи, которые окружали Петра, предлагают поехать в Петербург, разыскать и образумить Екатерину. Петр согласился; старики поехали в Петербург, но там, конечно, присоединились к Екатерине. Петр в ожидании сведений о происходившем в Петербурге ходил и сидел на берегуморя, на берегу и обедал; он слушал советы придворных и не знал, что делать: ехать ли в Кронштадт или направиться в Ревель к войскам, там собранным. Между тем прибыл с моря офицер, привезший из Петербурга фейерверк, который предполагалось сжечь по случаю именин Петра; он рассказал, чтод слышал шум и выстрелы и больше ничего не мог сообщить. Но уже и этой вести было достаточно, чтобы узнать, что такое произошло в Петербурге. Петру со всех сторон советовали что-нибудь делать, но он не мог ни на что решиться, и только когда день уже склонялся к вечеру, решил ехать в Кронштадт. Но Кронштадт уже был захвачен Талызиным, и потому, когда Петр туда явился, его не приняли. Оказалось, что гавань заперта боном и оттуда кричали, что никого нельзя пускать. Петр показывается на палубе в белом мундире и с корабля объявляет, что приехал сам император. В ответему слышится, что императора нет, а есть императрица Екатерина, и что если он не уедет, то будут стрелять, «бомбы пускать». Начался плач дам, сопровождавших Петра; сам Петр находился почти в обмороке. Вместо того чтобы спасаться в Ревель, он стал ждать в Ораниенбауме Екатерину. Утром 29-го она явилась в Петергоф с войсками и послала свой авангард в Ораниенбаум. Войска сразу окружили дворец, и Петр оказался в плену. Все было кончено. Екатерина прислала вельмож переговорить с Петром и снабдила их текстом отречения от престола, которое Петр и принял в редакции, продиктованной Екатериной, после чего был отвезен в Ропшу; а Екатерина вернулась в Петербург, чтобы оформить дело, оправдать свой поступок в обстоятельном манифесте и успокоить свою столицу. Манифест был опубликован только спустя несколько дней, именно 6 июля. В манифесте Екатерина не поскупилась на краски до того, что потом, в 1797 г., он был изъят из обращения. Император Павел приказал его вырвать изо всех официальных сборников; а когда Сперанский печатал Полное собрание законов, то манифест этот в нем помешен не был. В манифесте было сказано, что политика Петра была не православна и не национальна, и доказывалось, что это очень пространно. И вот, как раз в те дни, когда манифест был опубликован и Петербург его читал, пришло известие о смерти Петра. Екатерина объявила, что бывший император скончался вследствие геморроидальной колики. Приказано было устроить ему пристойные похороны, но без оказания царских почестей. Внезапность кончины Петра III нашла свое истинное объяснение уже после смерти императрицы Екатерины, когда сын ее Павел Петрович случайно отыскал в ее бумагах письмо к Екатерине из Ропши от Алексея Орлова, состоявшего там при Петре. В подлиннике это письмо не сохранилось, ибо Павел его сжег; мы знаем его в копии Ф. Растопчина, вряд ли точной, представляющей скорее пересказ на память интересного документа. Орлов в замешательстве, с горем извещал императрицу о нечаянной случайности, повлекшей за собой кончину императора непредвиденно для Орлова, а тем более для Екатерины. Император Павел имел возможность убедиться, что ответственность за этот несчастный случай совсем не лежит на памяти Екатерину.
Содержание записки Орлова (6 июля 1762 г.): «Матушка милосердная Государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему, рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов иттить на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась беда, мы были пьяны и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором Барятинским; не успели мы разнять, а его уж и не стало, сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить – свет не мил: прогневали тебя и погубили души навек!».
Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. – СПб.:
Стройпеспечать, 1993.
От революции до революции

СМЕРТЬ МАРАТА
В период Великой французской революции одним из вождей крайних революционеров-якобинцев[97]97
Якобинцы – крайне «левая» партия республиканцев.
[Закрыть] был Жан Поль Марат. Журналист, редактор газеты «Друг народа», он постоянно публиковал в ней призывы к самосудам, народной расправе и т. д. Когда, он первый раз выступал в Конвенте,[98]98
Конвент – верховный орган власти, революционное собрание.
[Закрыть] его встретили шиканьем. Он воскликнул: «Видимо, у меня тут много врагов?», – на что из зала закричали: «Все! Все!».
В период борьбы между жирондистами[99]99
Жирондисты – партия умеренных республиканцев.
[Закрыть] и якобинцами жирондисты решили в первую очередь предать суду Марата за его призывы к самосудам. В ходе круглосуточного непрерывного заседания поименным голосованием жирондисты приняли решение о предании Марата суду. Он стал первым отданным под суд народным представителем.
Марат решил подчиниться декрету и явился в Революционный трибунал. Он подвергал свою жизнь опасности, т. к. в случае осуждения его ждала бы смерть. Но после недельного разбирательства и упорной защиты суд оправдал его.

Восторженный народ поднял его на плечи, надел ему на голову дубовый венок и так, на руках, отнес в Конвент. Это был триумф Марата, высший момент его жизни.
После такого поражения власть жирондистов стала стремительно таять, и через полтора месяца верх одержали якобинцы.
Двадцатипятилетняя жирондистка Шарлотта Корде считала депутата-якобинца Марата чудовищем, кровожадным тираном. Она приехала из провинции в Париж в июле 1793 г. Купив большой нож, она отправилась к Марату домой и передала ему записку с просьбой о встрече. В ней она писала, что хочет сообщить ему важные для Франции сведения.


Марат страдал болезнью, причинявшей ему постоянный мучительный зуд во всем теле, унять который он мог, только сидя в теплой ванне. Так они принял пришедшую к нему Шарлотту Корде: «Садитесь, мое дитя», – сказал он ей.
Шарлотта стала перечислять ему фамилии депутатов-мятежников из числа жирондистов. Марат стал записывать их на бумаге. Корде вытащила нож и вонзила его в сердце депутата. Он успел только крикнуть своей подруге-прачке, бывшей в соседней комнате: «Ко мне, милая!» Но было уже поздно!
Шарлотта Корде была арестована. На суде на вопрос о том, что ее побудило к убийству, Шарлотта ответила: «Его преступления. Я убила одного человека, чтобы спасти сотни тысяч других, убила негодяя, свирепоедикое животное, чтобы спасти невинных и дать отдых моей родине».
Шарлотту приговорили к смерти как убийцу. Перед казнью палач ударил ее по шеке, и, когда отрубленную голову показывали народу, ее щеки еще были красны от стыда. Один молодой человек так полюбил Шарлотту перед казнью, что открыто восхищался ею и призывал поставить ей памятник. Позднее он был казнен за эту странную любовь и принял смерть с облегчением.
Убитый Марат был похоронен с величайшими почестями, а потом его прах был перенесен в Пантеон – усыпальницу великих людей Франции. Но пробыл он там недолго. При очередном политическом перевороте антиякобински настроенная толпа вынесла его из Пантеона и сбросила прах в водосток Парижа.
Несколько десятилетий спустя при обследовании парижских водосточных труб на стене одной из них был замечен все еще висевший там полуистлевший саван Марата.
Майсурян А. Смерть Марата// Всемирная история. – М.: Аванта +, 1995.
ВРАГИ ПЕРВОГО КОНСУЛА
Первый консул[100]100
Консульство – период в истории Франции от государственного переворота 1799 г., совершенного генералом Бонапартом, до провозглашения его императором в 1804 г. В период консульства власть Формально принадлежала трем консулам, фактически вся власть была сосредоточена в руках первого консула – Бонапарта.
[Закрыть] Франции Наполеон Бонапарт не смог бы удержаться у власти, не проводя политику репрессий, иногда широкомасштабных. Ему угрожали роялисты,[101]101
Роялисты – сторонники королевской династии Бурбонов, свергнутой революцией 1789–1795 гг.
[Закрыть] повстанцы Бретани и мятежная Вандея, куда были посланы войска. Одному из вождей роялистов графу де Фротте пообещали амнистию, а затем, заманив его в засаду, застрелили. «Приказа с моей стороны не было, но я не могу сказать, что сожалею о его смерти», – прокомментировал это убийство Наполеон. Хотя большинство предводителей бретонских повстанцев капитулировали в 1801 году, непримиримые ушли в глубокое подполье и стали еще более опасными, потому что все их силы были подчинены единой цели – организовать покушение на жизнь Первого консула: Им деятельно помогали некоторые вернувшиеся эмигранты, а также лица, сочувствовавшие роялистам. Среди них были люди, уже завоевавшие себе известность успешными акциями против республики, имя Жоржа Кадудаля, например, давно уже гремело по всей Вандее. У якобинцев[102]102
Якобинцы – партия крайних республиканцев.
[Закрыть] были свои, не менее веские причины, по которым им страстно желалось свергнуть режим Наполеона, почувствовавшего себя в относительной безопасности лишь после битвы при Маренго летом 1800 года. Кстати, по мнению Стендаля, больше чем кого-либо Бонапарт в это время ненавидел якобинцев, и это несмотря на то, что он сам когда-то был якобинцем и довольно ярым. Наполеону удалось уцелеть лишь благодаря неустанной деятельности Фуше, который организовал исключительно эффективную искусную сеть полицейского шпионажа, покрывшую всю страну. В этом деле использовались не только полиция, но и шпионы, информаторы-доносчики и внедренные агенты-провокаторы. Фуше не гнушался ничем, в ход шли подкупы, амнистии и другие стимулы. Аресты из психологических соображений производились в основном по ночам, с арестованными не церемонились и в случае необходимости развязывали им язык пытками. Трудно было найти человека, который не дрогнул бы перед угрозой высылки, гильотины или расстрела. В лице бывших якобинцев Шарля Дезмаре, в прошлом семинариста, а теперь ставшего начальником полиции, и Пьера Франсуа Реаля Фуше нашел помощников себе под стать: у обоих был просто прирожденный дар выколачивать показания, причем если первый ограничивался просто вопросами, то второй был менее разборчив в средствах. Сам Первый консул очень ценил их, особенно Реаля.
Жозеф Фуше, министр полиции, был исключительно опасным инструментом в руках Бонапарта. Как и Вольтер, он получил церковное образование. Внешность его была зловешей и неприятной, особенно поражали страшные глаза, обладавшие почти гипнотическим воздействием. Желтое и костлявое лицо, с которого не сходило бесстрастное выражение, роднило его со змеей. Убийца монарха, голосовавший за казнь Людовика XVI, бывший активный деятель террора, заработавший себе кличку «Лионский мясник», потому что приказал казнить шестьдесят роялистов, привязав их к дулам орудий, он предал жирондистов, якобинцев и Директорию, однажды он предаст и Бонапарта. Фуше внушал в равной степени страх и отвращение. «Чудовище, зачатое в котле революции, чьими родителями стали анархия и деспотизм» – так отозвался о нем Шатобриан.
«Фуше не мог жить без интриги, которая была ему нужна не меньше, чем хлеб насущный, – сказал о нем его хозяин. – Он строил козни во все времена, везде, всеми доступными ему способами и против всех.» Ценя Фуше как талантливого мастера своего дела, отлично скоординировавшего работу своего министерства с деятельностью еще с полдюжины полицейских ведомств, имевших разное подчинение, Наполеон в то же время не доверял ему и опасался его.
Рене Савари, помощнику, а затем и преемнику Фуше, было дано поручение присматривать за ним, насколько, конечно; это было возможным, учитывая всю сложность поставленной задачи. Савари был высоким кавалеристом с очень привлекательной внешностью, которому тогда еще не исполнилось и тридцати. Когда-то он служил у Наполеона адъютантом, затем в чине полковника был назначен командиром гвардейского подразделения конных жандармов – отборных солдат, выполнявших функции военной полиции и использовавшихся для особо опасных и ответственных заданий. По словам Бонапарта, Савари любил его «как родного отца». Безгранично преданный императору, энергичный и слегка простоватый, он регулярно составлял рапорты о деятельности Фуше, однажды обвинив его в связи с бретонскими повстанцами. В убийстве герцога Энгиенского ему как исполнителю принадлежала главная роль. К другим успешным операциям Савари можно отнести подделку австрийских банкнотов перед кампанией 1809 года и русских ассигнаций в 1812 году. Он также руководил установкой взрывного механизма, при помощи которого, планировалась физическая ликвидация Бурбонов в 1814 году.
Как якобинцы, так и роялисты решили, что у них нет иного выхода, кроме как убить Бонапарта. В октябре 1800 года группа якобинцев, вооруженная пистолетами и кинжалами, уже приблизилась к ложе Первого консула в опере, но их успели схватить. После непродолжительного следствия все они были гильотинированы. Фуше знал о готовящемся покушении с самого начала через своих тайных агентов.
В том же году, в канун Рождества, Первый консул проезжал вечером по улице Сен-Никез, направляясь в оперу, чтобы послушать ораторию Гайдна. Он задремал в карете и был разбужен страшным взрывом, раздавшимся всего лишь через полминуты после того, как экипаж миновал телегу с каким-то грузом. Этим грузом оказались бочки с порохом, куски металла и битое стекло. Взрывной волной многих прохожих и зевак швырнуло в воздух на несколько метров. 35 человек было убито и искалечено. Только счастливая случайность спасла Наполеона – его кучер подвыпил и гнал лошадей быстрее обычного. Вину за это покушение Наполеон возложил на якобинцев – «грязных и кровожадных».
Фуше прекрасно знал, что якобинцы здесь были ни при чем, но тем не менее их вождей арестовали. Казалось, само небо послало этот предлог для расправы с остатками несгибаемых сторонников революционного террора. Но предварительно нужно было уничтожить их «генеральный штаб». 129 человек были отправлены гнить в кайеннские болота и на Сейшельские острова. Среди них были генерал Россиньоль, бывший, санкюлот, и Рене Ватар, редактор журнала «Свободный человек», тоже бывший, а также многие другие сторонники этого крайне левого течения, которые при Дантоне и Робеспьере заседали в революционных комитетах или служили офицерами в армии. В те дни, когда этих людей отправляли на каторгу и в ссылку, Первому консулу уже было известно об их полной невиновности в данном случае. Настоящими организаторами неудавшегося покушения были фанатичные роялисты, которых выследили и арестовали. Непосредственные участники этого предприятия пошли на эшафот. Кстати, методы тогдашних сыщиков были похожи на современные: уцелевшая подкова лошади, запряженной в повозку с пороховыми бочками, была опознана-кузнецом, от которого и потянулась ниточка к участникам заговора. Репрессии против якобинцев не прекратились, пока с ними не было покончено.
Одержимость властью становилась у Бонапарта с каждым днем все сильнее. «У меня нет честолюбия, – говорил он Редереру, – ну а если и есть, то оно настолько естественно для меня, являясь органической частью моего существа, что его можно сравнить с кровью, текущей в моих венах, с воздухом, которым я дышу». В другом случае он признался все тому же Редереру: «У меня есть лишь одна страсть, одна любовница – это Франция. Я люблю ее, и она никогда не предаст меня, щедро делясь со мной своей кровью и богатствами. Если я прошу у нее полмиллиона солдат, она дает их мне».
Конституция 1799 года вскоре показалась Наполеонуслишком либеральной. Республиканцы были бессильны остановить Первого консула, и с каждым днем он все больше приобретал повадки монарха. Опять появилось придворное платье, мужчины, еще совсем недавно надевавшие длинные брюки санкюлотов, стали носить штаны до колен и шляпы с перьями. Однако Наполеону хотелось иметь не только внешние признаки монарха, но и его абсолютные прерогативы. И вот в 1801 году законодательные палаты отказались принять закон против «анархистов», который наделил бы Наполеона полномочиями арестовывать любого человека без обоснования причины. Даже после проведения новых выборов, имевших целью сделать Трибунал, законодательный корпус и Сенат более сговорчивыми, последние отказались назначить его Первым консулом пожизненно, предложив лишь срок в 10 лет. Не имея на то никаких конституционных прав, режим устроил плебисцит. В бюллетени был вписан один вопрос: «Одобряете ли вы избрание Наполеона Бонапарта пожизненным консулом?» После проведения хорошо отрежиссированного спектакля с голосованием и окружения Люксембургского дворца кольцом гренадеров Сенат уступил. Более того, в придачу Наполеона наделили правом назначать остальных двух консулов и своегопреемника, а также правом приостанавливать действие конституции и пересматривать приговоры судов. Теперь он обладал абсолютной властью, как гражданской, так и военной, и был выше закона.
В феврале 1804 года был раскрыт еще один заговор с целью убить «тирана». Уже одни имена организаторов заговора свидетельствовали о чрезвычайной опасности, угрожавшей Наполеону: генерал Моро – победитель при Гогенлиндене, генерал Пишегрю, преподававший Бонапарту математику в Бриенне (после переворота фрюктидора в 1797 году он был выслан из страны), и Жорж Кадудаль – герой Вандеи, самый непреклонный и безжалостный из всех врагов Первого консула. Моро и Пишегрю были вскоре пойманы, но Кадудаля выследить полиции никак не удавалось, хотя стало доподлинно известно, что он находится в Париже. Встревоженный Фуше предупредил Бонапарта: «В воздухе полно кинжалов». Однако полиция все-таки напала на след Кадудаля, и 9 марта этот огромный силач с пудовыми кулаками был арестован на улице. При этом он убил и изувечил несколько агентов Фуше. Моро получил два года тюрьмы и затем после высылки проживал в Америке. Слава его побед еще не настолько успела изгладиться из памяти французов, чтобы его можно было подвергнуть более суровому наказанию. Пишегрю нашли мертвым в его камере. По официальной версии, он повесился на собственном галстуке, однако многие полагали, что он был умерщвлен по приказу Наполеона. Кадудаля гильотинировали. Было бы несправедливо не упомянуть и об акте милосердия, проявленном к заговорщикам. Среди многих других был и Жюль Арман де Полиньяк. По приказу Наполеона смертную казнь заменили пожизненным заключением.

С момента разоблачения заговора и ареста Моро и Пишегрю Наполеон был в состоянии постоянного бешенства. «Я что, собака, чтобы меня убивать на улице?» – выкрикнул он однажды. Будучи корсиканцем, привыкшим к вендетте, он решил воздать Бурбонам по заслугам за это покушение. Талейран и Фуше всячески поддерживали его в этом намерении. Как-то вспомнили про герцога Энгиенского, который жил недалеко от границы в Бадене. Самый способный из всех членов эмигрировавшей королевской семьи, он неплохо командовал во время революционных войн корпусом, составленным из дворян-эмигрантов, но к заговору и попытке покушения не имел решительно никакой причастности. Наполеону, однако, было все равно. В ночь с 14 на 15 марта 1804 года отряд французской конной жандармерии вторгся на территорию Бадена, окружил дом герцога в городе Эттингейме, арестовал его и увез во Францию. 20 марта герцог был доставлен в Париж и заключен в Венсеннский замок. Здесь неделю спустя, в полночь, состоялось заседание военного суда, на котором председательствовал генерал Мюрат. Герцог, не имевший даже адвоката, был приговорен к смерти. От исповеди он отказался, и в половине третьего ночи, сразу же после вынесения приговора, его вывели в ров, где уже была вырыта могила, и расстреляли. По сути дела, приговор был предрешен еще до похищения герцога: это было убийство, причем незаконное. Лаже Мюрат, губернатор Парижа и шурин Первого консула, человек, которого никак нельзя было упрекнуть в нерешительности или мягкосердечии, не сразу согласился подписать приговор, и его пришлось уламывать. Вскоре после этого он получил в подарок 100 000 франков из специального фонда. Слова, сказанные по этому поводу (обычно их приписывают Фуше или Талейрану) стали знаменитым каламбуром: «Это было хуже, чем преступление, это была ошибка».
Бонапарт действительно верил в то, что герцог участвовал в заговоре против него, и это несколько смягчает его вину. Позднее он попытался как-то оправдаться: «Совсех сторон мне угрожали враги, нанятые Бурбонами. Против меня использовали воздушные ружья, адские машины и всякие другие устройства. Какому суду я должен был подать прошение, чтобы защитить себя? Поэтому мне пришлось защищаться самому. Приговаривая к смерти одного из тех людей, чьи последователи угрожали моей жизни, я хотел вселить в них страх и думаю, что имел на это полное право». Он добавил: «Я – это Французская революция. Я говорю так и буду делать все, чтобы так было и впредь». Своим ударом по Бурбонам он достиг большего: он дал ясно понять, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на восстановление дореволюционной монархии.
Десмонд Сьюара. Наполеон и Гитлер. – Смоленск: Русич, 1995.