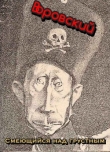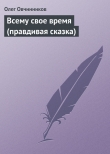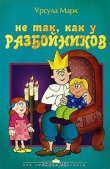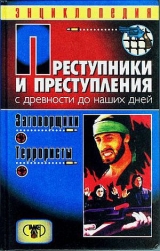
Текст книги "Преступники и преступления. С древности до наших дней. Заговорщики. Террористы"
Автор книги: Дмитрий Мамичев
Жанр:
Энциклопедии
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
МАРТ 1801-го
Петербург тех дней похож на город, захваченный неприятелем (согласно одному из свидетелей – «вовсе не веселый город»). Погода, по общему суждению, «ужасная», да еще объявлен с 1 марта десятидневный траур по случаю кончины герцогини Брауншвейгской. Каждый мартовский номер «Санкт-Петербургских ведомостей» содержит 35–50 фамилий отъезжающих за границу, и выходит (учитывая правило трехкратного упоминания в газете о каждом отъезде), что 12–15 семей, иностранных и русских, желают каждый день покинуть столицу. Это для тех лет очень много, тем более что летний сезон – обычное время путешествий – еще далек.
11 марта. Понедельник шестой недели великого поста. День российского переворота, столь не похожего на революцию во Франции; и тем знаменательнее, сколь часто в этот день на Неве возникают образы 1789-го, 1793-го и других знаменитых лет.
В этот день царь Павел I встает между четырьмя и пятью часами утра, с пяти до девяти работает.
Утренние доклады сановников, в том числе лидера заговора петербургского генерал-губернатора Петра Палена. Несколько дней назад Павел, обнаружив на столе у наследника, Александра, вольтеровские страницы о смерти Цезаря, решил, что это – намек, угроза, и в отместку раскрыл перед великим князем петровский указ о приговоре непокорному сыну, царевичу Алексею.
Полковник Саблуков видит и слышит, как отвечает Пален на вопросы царя о мерах безопасности: «Ничего больше не требуется. Разве только, Ваше Величество, удалите вот этих якобинцев» (при этом он указал на дверь, за которой стоял караул от конной гвардии).
«Вы якобинец, – вечером повторит Павел Саблукову. – Вы все якобинцы». Великий князь Константин, шеф конногвардейского «якобинского полка», явно под сильным подозрением: высочайший гнев умело направляется «не туда».
«Якобинцы-заговоршики», обвиняющие «якобинца-царя»: вот каковы были термины приближающейся дворцовой революции!
Наступает вечер. Заговорщики готовы. На их последнем совещании подвыпившие офицеры говорят о тирании, о подвиге Брута, цитируют древних авторов, подобно тому как это непрерывно делали французы, начиная с 1789 года…
В ночь на 12 марта 1801 года чаще восклицают, что нужен лишь хороший царь, а не конституция, и все же одно из крайних мнений было высказано столь громко, что не было забыто.
«Говорят, – пишет Саблуков, – что за этим ужином лейб-гвардии Измайловского полка полковник Бибиков, прекрасный офицер, находившийся в родстве со всею знатью, будто бы высказал во всеуслышание мнение, что, нет смысла стараться избавиться от одного Павла; что России не легче будет с остальными членами его семьи и что лучше всего было бы отделаться от них всех сразу».
Саблуков верно понимает значение этого эпизода: как элемент переворота 11 марта он ничтожен; подобные мысли были совершенно чужды большинству заговорщиков. Однако уже само произнесение подобных слов (невозможных во время прежних государственных переворотов) – это симптом нового вольнодумства, эхо 1789-го! Пусть слова сказаны под влиянием вина, возможно, за ними нет подлинного глубокого убеждения, и все же сказано громко, сообщено другим, запомнилось…
Петербургская полночь. Безмолвно движутся две колонны офицеров и несколько гвардейских батальонов.
О той ночи несколько десятилетий очевидцы и современники рассказывали разные подробности – правдивые, вымышленные, анекдотические, жуткие.


Идти недолго, и мы будто слышим ночное движение офицерских и солдатских колонн: иллюзия народного, «парижского» шороха, как перед штурмом королевского дворца 10 августа 1792 года. Но только иллюзия…
Разные мемуаристы позже припоминают тихие солдатские разговоры в строю: «Куда идем?»
«Господа офицеры разными остротами и прибаутками возбуждали солдат против императора».
«Я слышал от одного офицера, что настроение его людей не было самое удовлетворительное. Они шли безмолвно; он говорил им много и долго; никто не отвечал. Это мрачное молчание начало его беспокоить. Он наконец спросил: „Слышите?“ Старый гренадер сухо ответил: „Слышу“, но никто другой не подал знака одобрения».
В том ночном строю офицеры осторожно намекают солдатам на близящееся «освобождение от тирана», говорят о надеждах на наследника, о том, что «тяготы и строгости службы скоро прекратятся», что все пойдет иначе. Солдаты, однако, явно не в восторге, молчат, слушают угрюмо, «в рядах послышался сдержанный ропот». Тогда генерал-лейтенант Талызин прекращает толки и решительно командует: «Полуоборот направо. Марш!» – после чего войска повиновались его голосу.
Момент острейший. Позже, при других социально-политических обстоятельствах, у русских революционеров-декабристов зайдет разговор: чем привлечь солдат и надо ли среди них вести агитацию?
С народом на штурм – как во Франции? Или для народа, – но без него самого?
Среди декабристов были разные мнения: все сходились на том, что привлечение рядовых необходимо, но расходились в средствах. Сергей Муравьев-Апостол откровенно беседовал с солдатами, особенно cq старыми семеновцами. Пестель же склонялся к иной тактике, возражая против слишком раннего посвящения солдат: основная его идея – что в нужный час офицеры прикажут рядовым, куда и на кого идти, и они пойдут. Так вернее.
В ночь на 12 марта 1801 года лидеры заговора решительно используют слепое солдатское повиновение, механическое подчинение; «Кто палку взял да раньше встал, тот и капрал».
Обычное орудие приказа и принуждения перехвачено заговорщиками; сейчас оно не в руках Павла…
В половине первого ночи несколько десятков офицеров-заговорщиков – во дворце. Несколько цепей охраны не реагируют – явно сочувствуют конспираторам. У самых дверей царской спальни сопротивление немногих часовых легко пресечено. Дверь взломана – Павел проснулся, у него требуют формального отречения – он отказывается, отталкивает генерала Зубова, тот бьет царя золотой табакеркой.
Затем генералы устраняются и выходят из спальни, предоставляя заканчивать дело офицерам.
Знали ль генералы, что именно так дело пойдет?
Втайне они этого, конечно, ждали («не изжарить яичницу, не разбив яиц»). Позже Пален будто бы произнесет: «Дело сделано, но уж слишком».
20-летний штабс-капитан Скарятин во время заминки закричал: «Завтра мы будем все на эшафоте!»
Другие не помнят – кто первый, кто последний: на Павла кинулись полковник Яшвиль, майор Татаринов, Горланов, Скарятин…
Подробности страшны, иногда почти не передаваемы на бумаге. Пушкин писал о народной стихии – «бунте бессмысленном и беспощадном», но в эти минуты бессмысленность и беспощадность сопровождают бунт дворянский.
Кажется, ближе всего к истине запись, сделанная за генералом Беннигсеном; смысл ее – что и самим убийцам мудрено было бы понять, кто же нанес последний удар: «Многие заговорщики, сзади толкая друг друга, навалились на эту отвратительную группу, и таким образом император был удушен и задавлен, а многие из стоявших сзади очевидцев не знали в точности, что происходит» Пушкин определенно утверждает: «Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла І-го».
На завершение переворота понадобится еще несколько часов. Здесь уже нет тайны. Здесь все почти на виду.
Около часу ночи наследник Александр все знает.
«Я обожал великого князя, – вспомнит караульный офицер Полторацкий, – я был счастлив его воцарением, я был молод, возбужден и, ни с кем не посоветовавшись, побежал в его апартаменты. Он сидел в кресле, без мундира, но в штанах, жилете и с синей лентой, поверх жилета…
Увидя меня, он поднялся, очень бледный; я отдалчесть, первый назвав его „Ваше императорское величество“.
„Что ты, что ты, Полторацкий!“ – сказал он прерывистым голосом.
Железная рука оттолкнула меня, и Пален с генералом Беннигсеном приблизились. Первый очень тихо сказал несколько слов императору, который воскликнул с горестным волнением: „Как вы посмели! Я этого никогда не желал и не приказывал!“, и он повалился на пол.
Его уговорили подняться, и Пален, встав на колени, сказал: „Ваше величество, теперь не время… 42 миллиона человек зависят от вашей твердости“. Пален повернулся и сказал мне: „Господин офицер, извольте идти в ваш караул. Император сейчас выйдет“. Действительно, по прошествии 10 минут император показался перед нами, сказав: „Батюшка скончался апоплексическим ударом, все при мне будет, как при бабушке“.
Крики „ура“ раздались со всех сторон…»
По Беннигсену, все было грубо и просто: «Император Александр предавался в своих покоях отчаянию, довольно натуральному, но неуместному. Пален, встревоженный образом действия гвардии, приходит за ним, грубо хватает за руку и говорит: „Будет ребячиться! Идите царствовать, покажитесь гвардии“. Звучат слова о спасении отечества, матери, жены, братьев, сестер Александра; о „виновных“ пьяных офицерах-цареубийцах и невиновности Палена и Беннигсена, „не желавших“ цареубийства, но „не имевших сил“ остановить стихию; наконец, новому царю дается совет – как действовать, что говорить.
„Все будет, как при бабушке..“»
Меж тем «ура!» новому императору, которое слышит Полторацкий, еще не всеобщее – это Семеновский полк. Сейчас главная проблема – как отнесутся другие солдаты. Пален отлично понимает ситуацию и объясняет новому императору, что только он один и может их успокоить.
Солдаты же с большой тревогой прислушиваются к дворцовым шумам.
Отрывочные и систематические рассказы о той ночи сохранили богатый спектр солдатских настроений и высказываний – от бурной радости до готовности переколоть убийц Павла I.
В конце концов подчинились.
Наступило утро 12 марта 1801 года. Дворцовая революция заканчивается.
Один или двое раненых караульных. Один убитый.
Радость, «всеобщая радость»… К вечеру 12 марта в петербургских лавках уж не осталось ни одной бутылки шампанского. Раздаются восклицания, что миновали «мрачные ужасы зимы». Весна, настоящая встреча XIX века! Поэт-министр Державин восклицает:
Век новый!
Царь младой, прекрасный…
За сутки вернулись запрешенные Павлом круглые шляпы. Некий гусарский офицер на коне гарцует прямо по тротуару – «теперь вольность!».
Большая же часть страны неграмотна, и она-то в лучшем случае равнодушна или жалеет о покойном императоре, которого так боялись дворяне.
На календаре XIX век. На русском престоле Александр, сын Павла и внук Екатерины. Во время его коронации французская шпионка госпожа Бонейль позволяет себе замечание, приведшее к ее немедленной высылке из столицы: она сказала, что Александр провожает гроб Павла, окруженный убийцами своего отца и деда (Петра III), а также, вероятно, «теми кто и его убьет». Француженка не угадала в прямом смысле, и тем не менее предсказала многое…
Наполеон был взбешен, узнав, что столь ценный союзник по борьбе с Англией, по индийскому плану выбыл из игры. В последующие годы он не раз намекнет чувствительному Александру I на то, что отец был убит «с согласия сына»; в такой полемике, разумеется, не играли роль тонкости, вроде того, что Александр на самом деле мечтал лишь о свержении отца (Герцен позже съязвит: «Александр велел убить своего отца, но не до смерти»). Когда три года спустя Наполеон велел схватить и расстрелять родственника Бурбонов герцога Энгийенского, то в ответ на протесты русского правительства он, как известно, намекнул, что не имел бы возражений, если б русский царь так же расправился с убийцами своего отца (болезненность укола усугублялась тем, что многие участники дворцового заговора постоянно жили во дворце и находились в большой милости у Александра). Еще девять лет спустя взятый в плен французский генерал Вандамм в ответ на упреки Александра в плохом обращении с русскими пленными ответил, что он по крайней мере не отцеубийца. Александр схватился за шпагу, но дал себя удержать…
Эйдельман Н. Мгновение славы настает. – Д.: Лениздат, 1989.
КАРБОНАРИИ
Происхождение карбонариев,[103]103
Цеховые легенды то приурочивают происхождение союза к царствованию короля Филиппа Македонского, то связывают его с похищением саксонского принца (1455 г.), в котором, как известно, угольщики сыграли большую роль. По другой версии, союз этот был основан англичанами, которые в царствование королевы Елизаветы спасались бегством в Шотландию и там поддерживали свое существование угольным промыслом. По следующей легенде, родиной союза следует считать Францию. Король Франциск I (умер 1547 г.), заблудившись однажды в лесу, встретил радушный прием у угольщиков, вследствие чего он сделался покровителем их промысла. Карбонарии чтили в качестве своего патрона св. Теобальда: происходя из знатной фамилии, он жил отшельником в огромном лесу и жег там угольные кучи.
[Закрыть] или ордена угольщиков еще не установлено. Первые следы заговора в духе карбонариев мы встречаем в 1807 году. Движение было направлено против французского владычества. Существует очень распространенное мнение, что карбонарии произошли от последователей ордена des fendeurs (дровосеков),[104]104
Некоторые обычаи карбонариев соответствовали ритуалу «дровосеков» и франкмасонским обрядам. При основании союза могли участвовать и прежние франкмасоны.
[Закрыть] основанного в 1747 году во Франции и встречающегося еще в 1809 году, но мнение это, хотя и вполне вероятное, не подтверждено достоверными данными.
Внешним поводом к названию карбонариев могло служить то обстоятельство, что недовольные республиканские элементы и подвергавшиеся политическому преследованию спасались от своих врагов в ущельях и лесах Аппенин и там вели жизнь на манер угольщиков. Достаточно сказать, что карбонарии составляли политический тайный союз, который был обязан своим уставом и ритуалом, сильно напоминавшим церковные идеи и обряды, главным образом тому, что он насчитывал среди своих членов множество лиц, принадлежавших к высшему и низшему духовенству.
То терпимый и даже поощряемый правительством, которое видело в нем поддержку себе, то гонимый и преследуемый в качестве опасного для государства, союз угольщиков действовал с лихорадочной энергией заговорщиков южных 3 стран и, несмотря на всю изменчивость жизненных обстоятельств, достиг высшего расцвета. Самых пламенных последователей и неутомимых пропагандистов он находил в среде недовольного духовенства и многочисленных офицеров, получивших отставку после падения Наполеона. Избрав себе девизом: «Очищение леса от волков», он распространился в несколько лет по всей Италии. В эпоху его высшего расцвета – в двадцатых годах – он уже насчитывал в своих рядах около 700 тысяч человек. Число это, без сомнения, преувеличено, но все же оно дает понятие о том, какою популярностью пользовался этот союз.
Карбонарии проповедовали борьбу с тиранами Италии то есть с Францией и Австрией, поддерживали мелких князьков и деспотов, этот вечный «источник слез» для истерзанной страны и помогали им даже против великих держав. Иногда же карбонарии энергично выступали на защиту единства своей несчастной родины и тогда становились на сторону либеральной партии, преследовавшей эту цель.
Первоначальный устав союза не остался без изменений. Очень скоро была осознана невозможность управлять так сильно разросшимся и притом таким разнородным обществом, состоявшим из совершенно противоположных элементов. Поэтому руководители составили план преобразования союза и потихоньку привели его в исполнение. При этом обстоятельстве было исключено из числа союзников множество неприятных и недостойных союза членов. Последние сейчас же примкнули к возникшему в Палермо тайному обществу Calderari,[105]105
По всей вероятности, союз этот был создан князем Каноса (умер в 1838 г.). который, будучи приверженцем изгнанных из Неаполя Бурбонов, соединил в один союз всех заключенных в южно-итальянских тюрьмах и баньо. надеясь с их помощью затруднить положение французского правительства, а по возможности и свергнуть его. Получив по возвращении Фердинанда 1 в 1816 году должность министра полиции, Каноса обратил этот союз главным образом в орудие борьбы против карбонариев, хотя желаемая цепь и не была им достигнута. После революции 1820 года уже нет никаких сведений об его протеже.
[Закрыть] (котельщики), которое хотя и преследовало ту же цель, что и угольщики, то есть освобождение Италии, но скоро оказалось в резком противоречии с ними. Впоследствии они перенесли свою деятельность во Францию и Испанию. Они проникли даже в Германию под, названием «Союза мертвых». И, несмотря на все суровые гонения, которым карбонарии подвергались в Италии, союз их процветал, хотя и тайно, в продолжение целых десятилетий, и из него вышло впоследствии немало последователей радикального союза «Молодая Италия».[106]106
Молодая Италия – тайное общество, основанное в 1831 году Мадзини, добивалось независимости и единства Италии путем революции. Уже через два года после своего основания оно распространилось по всему полуострову. Но австрийская полиция через шпионов, которых она содержала в рядах союза, узнала о его стремлениях и принудило сардинское правительство принять меры против союза; множество членов союза было засажено в тюрьмы и предано суду. В феврале 1834 года «Молодая Италия» задумала совершить набег в Савойю и затем провозгласить Италию свободной и единой под знаменем республики. Но это безумно смелое предприятие, как мы это видели уже. не удалось. Вслед за тем союз потерял всю свою популярность. Лучшие патриоты покинули Мадзини и его отважных товарищей и посвятили все свои силы национальному союзу.
[Закрыть]
В пятом десятилетии прошлого столетия карбонарии понемногу прекратили свою деятельность и совершенно сошли со сцены. Эти итальянцы также, как и поляки, умели только составлять заговоры в пользу своей родины, умели страдать и бороться, но они были совершенно неспособны к трезвой и продолжительной работе для ее блага.
Место, где собирались карбонарии, называлось baracca (хижина), внутренность ее носила название vendita (угольный-склад), а окружающая ее местность должна была обозначать лес. Все такие хижины, находившиеся в одной итой же провинции, вместесоставляли «республику», которая управлялась alta vendita (большой хижиной). Центрального же управления в союзе, по-видимому, не существовало.
Члены одной и той же хижины называли друг друга boni cugini (добрые родственники), тогда как все не принадлежавшие к ним носили название pagani (язычники).
Хижина представляла из себя продолговатую, грубо отделанную комнату, пол которой был вымошен кирпичом. Направо и налево от входной двери стояло два деревянных чурбана; в противоположной, более узкой части хижины таких чурбанов было три. Там сиделс двое надзирателей, а здесь – председательствующий, оратор и секретарь. Распорядитель и надзиратели, в знак своеь должности, держали в руках топоры.
На чурбане мастера, прикрытом полотняным платком, стояло между двух горящих свечей распятие, а подле него – маленькие сосуды, наполненные тлеющими углями, водой, солью, землей, листьями; тут же была одна сухая и одна зеленая ветка, венок из шиповника, лестница, пучок крученых ниток и лента трех цветов: голубого, красного и черного.[107]107
Они должны были символизировать три главные добролетели карбонариев: веру, надежду и любовь.
[Закрыть]
На стене, как раз над головою мастера, висела картина, изображавшая святого Теобальда. Кроме того, комнату украшали 5 светящихся треугольников, на которых можно было разглядеть начальные буквы лозунга второй степени, герб Vendita и – священные инициалы первой степени. Были еще и другие символические картины: лес, горяший костер, дерево, перевернутое верхушкой вниз и простиравшее свои ветви к небу, топор, лопата, заступ, жердь и т. д.
Члены, достигшие высшей степени – мастера, сидели с покрытыми головами на высоких сидениях подле главного распорядителя, вдоль правой стены напротив них; у левой стены помещались на низких сиденьях и с обнаженными головами ученики. Все члены носили вокруг талии веревку.
Прием каждого нового члена обусловливался рекомендацией по крайней мере, трех «добрых родственников». Сопровождаемый мастером и провожатым, завернутый в мешок, кандидат переходил из «камеры размышлений» в круг перед дверью хижины. Здесь мастер, трижды топнув ногою, громко провозглашал: «Мастер, добрые, родственники, мне нужна помощь». Тотчас же голос из хижины отвечал: «Я слышал призыв доброго родственника: ему нужна помощь. Не принесет ли он дерева, чтобы подбросить его в костер?».
Тогда, по представлению председательствующего, провожатый получает позволение войти внутрь и после разговора, происходящего между ними обоими, кандидат вводится в помешение членов союза. Получив разъяснение относительно обязанностей карбонария, – он пил из «чаши забвения». После этого его проводили через лес – окружность хижины – сквозь воду и огонь (!), после чего, приняв установленную присягу, кандидат считался окончательно вошедшим в союз. И только тогда его освобождали от мешка.
Вслед за принятием нового члена происходило объяснение символических вещей, находившихся на чурбане председателя и в других местах хижины. При этом не обходилось без намеков на лица и предметы христианской религии, особенно указывали на Спасителя мира, «Доброго брата всех людей», и делалось это, по-видимому, для того, чтобы придать более возвышенное, мистическое освешение всей этой довольно прозаической церемонии.
Но лишь тогда, когда кандидат получал высшую степень, ему открывали истинное значение тайн союза. А для того, чтобы достигнуть этого, он должен был в продолжение нескольких лет оставаться учеником и доказать свою благонадежность.
Во второй степени, степени мастера, главную роль играли страдания Христа. Кандидата, скованного по рукам, водили от одного из главных членов Vendita к другому. Это должно было служить подражанием странствию Христа от верховного судьи к Пилату, которого изображал председательствующий, облаченный в красную мантию, тогда как надзиратели играли роли Каиафы, Ирода и других присутствовавших из народа.
В конце концов, новичка вводили в «масличную рощу» и там клали на него крест; после вторичной присяги он получал помилование. Таким образом, посвящение носило суровый характер, рассчитанный на то, чтобы поразить и устрашить неофита. Соответственно этому и символические изображения объяснялись теперь совершенно иначе в связи с рассказами о страданиях «доброго брата Иисуса». Но истинная тайна союза оставалась закрытой для членов, достигших второй степени. Только в классе «великих избранников» карбонарий получал полное понимание истинных целей союза.
Возведение в третью степень совершалось только над теми членами второй степени, которые дали несомненные доказательства своей мудрости, мужества, усердия безусловной преданности воле старших членов союза. Кроме этого, карбонарии, домогавшиеся попасть в «пещеру приемов», должны были, согласно их кодексу, «быть верными друзьями народной свободы и быть готовыми к борьбе с тираническим правительством, ненавистными, властителями старой прекрасной Авзонии».
Принятие в круг избранных решалось членами союза при помощи шаров. Три черных шара закрывали ищущему вход. Всякий претендент должен был иметь «33 года и три месяца, как Иисус, когда он умер».
В остальном церемония вступления совершалась без всякой связи с религиозными представлениями. Торжество происходило в каком-нибудь отдаленном месте, которое было известно только «посвященным». Пешера приема имела вид треугольника. Великий мастер избранных восседал на тронообразном возвышении. Два сторожа, получившие название «огней», благодаря особенному виду своих мечей, караулили у входа. Помощники великого мастера назывались солнцем и месяцем. Пешера освещалась тремя лампами, привешенными в углах треугольника и напоминавшими по виду солнце, месяц и звезды.
В этой обстановке кандидату открывали, что цель союза – политическая, что он добивается низвержения всех угнетателей Италии, и что время народного освобождения уже приблизилось. И тут же кандидату объясняли, как он должен действовать в случае столкновения с открытой силой. Театральная церемония завершалась тем, что все присутствующие становились на колени, направляли друг другу в грудь свои кинжалы и произносили священный обет «посвятить всю свою жизнь великому делу свободы, равенства и культурного развития составляющему душу всех тайных и явных действий карбонаризма». В том случае, если бы они нарушили присягу, они соглашались быть распятыми на кресте «добрыми родственниками», которые должны были выдрать у них из тела сердце и внутренности.
Рядом с карбонариями в Италии находятся еще многие другие тайные союзы, преследующие подобные же цели. Большинство из них существовало лишь короткое время или же не успело ничем ознаменовать свою деятельность.
К таким относится между прочим союз «Патриотических реформаторов». Он был основан в 1820 году в Мессине и имел несколько отделений во Флоренции, Милане, Турине и других местах, которые сносились одно с другим посредством шифра.
Одно время возбуждал опасения союз «Итальянских литераторов», возникший в 1823 году в Палермо. Невинное с виду название прикрывало весьма широко задуманные планы – освобождение народа от гнета церкви. Уполномоченные союза набирали последователей по всем главным городам страны и соединяли их в одну ложу, которой они управляли под названием «центурионов». Но ни в одной ложе не должно было быть больше десяти «сыновей Варравы». Посвященные узнавали друг друга по кольцу странного вида и по известным буквам I.N.R.I., которые они употребляли в своей переписке. Большая часть последователей союза окончила свою деятельность в тюрьме.
В начале XIX столетия мы встречаем в южной Италии тайные общества «Европейских патриотов» или «Белых пилигримов», «Филадельфийцев», действовавших в интересах Франции и, наконец, союз Decisi (решившихся).[108]108
Их символом была молния, стремительно падающая с неба и разбивающая вдребезги тиару и короны, пучок руты с топором и фригийская шапочка между двух топоров на мертвых головах. Их излюбленное изречение гласило: «Смерть, ужас и печаль»; их цветами были желтый, красный и голубой. Отличительными знаками служили черный шарф и длинный меч, на клинке которого виднелись буквы V. D. (VeroDeciso). Каждый член получал членский диплом, написанный кровью.
[Закрыть]
Эти последние составляли вооруженную организацию, члены которой собирались обыкновенно в ночное время в уединенно стоящих домах, в заброшенных монастырях, в ущельях и пешерах и там упражнялись в искусстве владеть оружием, под предводительством своего главного мастера Чиро Анникиаро (Ciro Annichiaro), хитрого и до дерзости смелого священника, приговоренного за убийство к галерам – Decisi, представлявшие из себя первоначально республиканский союз, образовали дерзкую шайку разбойников, которая в продолжение многих лет наводила страх и ужас на всю южную Италию, пока наконец военная экспедиция не положила конец этому безобразию, и 230 членов шайки вместе со своим главным вождем кончили жизнь на эшафоте.
Существовали в то время и другие тайные союзы: например, «Призраки в могиле» – союз этот, появившись в 1822 году в Неаполе, поставил своей целью изгнание Бурбонов, – «Новая реформа», союз, который «передал свои тайны только бывшим карбонариям или европейским патриотам».
В тесной связи с карбонариями был также союз, носивший название Apostolat Dantes, основанный в 1855 году и старавшийся распространить национальные идеи, особенно в средней Италии и в Папской области. Во главе этого союза стоял известный патриот Тамбурини, поплатившийся за свою дерзость десятилетним заключением в тюрьме. С тех пор никто уже больше не слышал об его замыслах.
В двадцатых годах в средней и верхней Италии сыграли известную роль «Гвельфы». Они стремились использовать всеобщее возбуждение страны против своих деспотов, превратив его в восстание, и выбирали себе предводителей преимущественно из членов высших степеней карбонаризма. Несомненно, что из него же они и ведут свое происхождение. Их ложи, носившие название «собраний совета», состояли всего из 6 членов, которые притом не знали друг друга и сообщались лишь при посредстве «видимого». Собрания Советов регулировались центральным управлением, верховным советом, заседавшим в Болонье.
Шустер Г. Тайные общества, союзы и ордена: В 2 т. – М., 1905–1907.