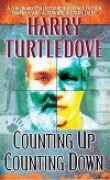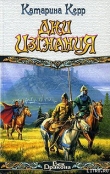Текст книги "Война среди осени"
Автор книги: Дэниел Абрахам
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
3
– Что с тобой? – спросила Киян.
Она уже переоделась в шелковую сорочку, в которой обычно спала, и собрала волосы в пучок на затылке. Только сейчас Ота обратил внимание, что солнце давно уже село. Он опустился на кровать рядом с женой и поморщился от ломоты в спине и коленях.
– Весь день провел сидя. Вроде ничего не делал, а тело ноет, будто ящики таскал.
Киян положила руку ему на спину и стала массировать позвоночник сквозь халат из тончайшей шерсти.
– Во-первых, ты уже тридцать лет как не таскаешь ящики.
– Двадцать пять, – поправил он, чуть откидываясь назад. – В этом году будет двадцать шесть.
– Во-вторых, ты не бездельничал. По-моему, ты сегодня встал до рассвета.
Ота обвел взглядом спальню – серебряную вязь на сводчатом потолке, пол и стены, инкрустированные костью и деревом, роскошную золотую сетку над постелью, ровный и тусклый огонек лампы. Восточная стена комнаты была из розового, тонкого, как яичная скорлупа, гранита, который светился, когда сквозь него проникали солнечные лучи. Ота уже забыл, когда видел этот свет в последний раз. Может, прошлым летом, когда ночи были коротки. Он закрыл глаза и лег, утонул в мягкой перине. Запахло смятыми лепестками роз. Киян придвинулась ближе, и он почувствовал знакомое тепло и тяжесть ее тела. Она поцеловала его в висок.
– Посланник наконец-то собрался в дорогу. Дай-кво его отозвал, – сказал Ота. – Это хорошо. Правда, одним богам известно, что его так задержало. Синдзя, наверное, уже на полпути к Западным землям.
– Что задержало? Работа Маати – вот что. Он же не выходил из библиотеки в последний месяц. Эя мне все докладывала.
– Ну, значит, известно богам и Эе.
– Я за нее волнуюсь. Кажется, она из-за чего-то переживает. Поговоришь с ней?
В сердце Оты вспыхнул ужас, потом негодование. Он так устал сегодня, и все-таки даже в спальне, словно хищник, поджидало еще одно затруднение, еще одно дело, которое нужно было решить. Эти чувства, должно быть, как-то выразились в его позе, потому что Киян вздохнула и отстранилась чуть-чуть.
– Ну вот, взвалила на тебя новую заботу.
– Не в этом дело. Просто беседовать с ней нет нужды.
– Понятно. В ее возрасте ты жил на улицах летних городов, таскал жареных голубей у огнедержцев и ночевал, где придется. И ничего с тобой не случилось.
– Я что, уже рассказывал?
– Раз или два, – ответила она, посмеиваясь. – Однако Эя стала как чужая. Ее что-то тревожит, а что – она не говорит. Может быть, она не доверяет мне?
– Если уж она тебе не доверяет, почему ты думаешь, что мне она все откроет?
Киян пожала плечами. Ота повернулся к ней. В глазах любимой поблескивали слезы, но лицо у нее было не печальное, скорее озадаченное. Он провел кончиками пальцев по ее щеке, а она задумчиво поцеловала его в ладонь.
– Не знаю. Потому что ты ее отец, а я – всего лишь мать? Я просто надеюсь – а вдруг. Дело в том, что она взрослеет. Уж я-то вижу, что к чему. Помню, когда я была в ее возрасте, отец взвалил на меня половину хозяйства. По крайней мере, я так думала. Я вставала раньше постояльцев, готовила ячменную похлебку, колбаски. Днем убирала комнаты. Правда, по вечерам отец и Старый Мани сами все делали.
Конечно, вина они хотели продать побольше, но отец и мысли не допускал, чтобы я крутилась между пьяных путешественников. Мне тогда казалось, что все так несправедливо.
Киян сжала губы.
– Но, может быть, я уже об этом рассказывала?
– Раз или два, – согласился Ота.
– Знаешь, когда-то мне до целого света дела не было. Я помню. Правда, уже понять не могу, как это. Ведь что угодно могло случиться. Тяжелый год, болезнь, пожар, и прощай, постоялый двор. А сейчас посмотри на меня: первая из первых, целый город мне угождает и кланяется до земли, а мир кажется таким хрупким…
– Мы постарели, – ответил Ота. – Так всегда бывает. Кто больше всех повидал, тому и кажется, что мир вот-вот рухнет. Разве не так? Мы с тобой многое в жизни видели.
Киян покачала головой.
– Есть еще кое-что. Если бы с моим постоялым двором что-то случилось, туго пришлось бы мне и Старому Мани. А тут, в городе и в предместьях, не счесть людей. И все они зависят от тебя. Вот почему тревоги больше.
– Я целыми днями сижу на троне и участвую в церемониях. Терплю, когда мне указывают, что я поступаю не так, как они привыкли. Не думаю, что мое присутствие что-то меняет. С таким же успехом они могли бы набить халат соломой и согнуть рукава в подобающем жесте.
– Ты о них заботишься.
– Вовсе нет. Я думаю о тебе, Данате, Эе. О Маати. Знаю, должен заботиться обо всех и вся, но я живой человек, милая. Да, я отрекся от имени, когда принял трон. Однако хай Мати – просто моя работа. И я бы ее бросил, если бы у меня был выход.
Киян обняла его. Волосы у нее пахли маслом лаванды.
– Ты хороший.
– Правда? Буду почаще каяться в самолюбии и невежестве.
– Если мне – тогда пожалуйста. А теперь дай беднягам тебя переодеть, и пусть отправляются спать.
Слуги уже не удивлялись тому, как быстро хай совершает омовения. Ота знал: его отец даже умудрялся получать удовольствие от того, что его одевают и купают другие. Но отца с детства готовили к такой жизни. Он следовал традициям и правилам этикета и никогда, насколько Оте было известно, не выходил из роли, для которой был рожден. Ота же стал изгнанником. Привык жить на свободе, в простоте, научился полагаться только на себя, а потому не выносил придворного раболепия. Ему каждый день приходилось мириться с тем, что кто-то подает ему пищу, моет руки, расчесывает волосы. Вот и на этот раз он покорно ждал, пока слуги тела снимут с него дневное облачение и переоденут на ночь, а когда вернулся, обнаружил, что Киян уже спит глубоким сном. Ота лег рядом, натянул одеяло и наконец закрыл глаза.
Однако сон не шел. Руки и ноги ломило от усталости, глаза слипались, и все же, как только его голова коснулась подушки, ум тут же проснулся, словно того и ждал. Ота лежал и слушал звуки ночного дворца: шелест ветра где-то за окном, тихое, утробное пощелкивание остывающих камней, дыхание жены. За дверью спальни кто-то кашлянул. Это был слуга, которого оставили бодрствовать на случай, если хаю что-то понадобится. Ота замер, стараясь не шевелиться.
Он не спросил Киян о здоровье Даната. А ведь собирался. Конечно, если бы что-то было не так, она и сама бы сказала. И все-таки Ота решил, что поговорит с ней утром. Отложит аудиенции, а вместо этого встретится с лекарями Даната. И повидает Эю. Он ничего не обещал жене, но ведь она просила. К тому же речь шла о его родной дочери. Ота попытался представить, каково это – иметь десяток жен. Стал бы он волноваться за всех детей так же, как сейчас волновался за двоих? Как бы он смотрел на своих мальчиков, зная, что одним суждено покинуть семью, другим – убивать друг друга в борьбе за вот это бессонное мягкое ложе, а потом – переживать за собственных сыновей?
Пламя ночной свечи медленно ело риску за риской, а Ота все слушал, как внутренний голос ноет в голове, терзаясь из-за тысячи настоящих и выдуманных бед. Торговые соглашения с Удуном еще не подписали. Возможно, у дочери действительно что-то случилось. Когда построили дворцы? Ничто не вечно, и они когда-нибудь рухнут. И башни тоже. Башни такие высокие, что касаются облаков. Что делать, если они упадут? Ночь подходила к концу. Нужно уснуть, иначе утром придется еще хуже. Он вспомнил, что надо поговорить с Маати, расспросить его про посланника дая-кво. За ужином.
И так без конца. Когда от ночной свечи осталась лишь четверть, Ота сдался и потихоньку выбрался из постели, чтобы хоть Киян могла поспать спокойно. Ступая босыми ногами по холодному полу, он подошел к дверям и выглянул. В соседнем покое дремал сторож – молодой человек, сын какого-нибудь слуги или раба. Его отец, наверное, был в милости у старого хая, вот мальчишка и удостоился чести сидеть у дверей, скучать в одиночестве, темноте и холоде. Лицо у спящего было умиротворенное, словно у мертвеца. Ота бесшумно проскользнул мимо и нырнул в темноту дворцовых коридоров.
В последние месяцы он стал все чаще гулять по ночам. Иногда – по два раза в неделю. Ота бродил в темноте, не зная сна. Ревниво оберегая свое одиночество, он обходил стороной места, где мог кого-нибудь встретить. На этот раз он взял фонарь и спустился по длинной лестнице на первый этаж, а оттуда – еще ниже, в тоннели, на подземные улицы, куда люди прятались зимой, спасаясь от жестокого, леденящего жилы холода. С приходом весны город под городом опустел и затих. В воздухе еще держался запах давно погасших факелов. Ота представил, что коридоры и галереи ведут в бездну, что темные проемы арок, узкие лестницы, чертоги, чьи своды никогда не видели солнца, уходят все глубже и глубже под землю, как в детской песенке.
Он шел куда глаза глядят, пока наконец не оказался в отцовском склепе. Это его нисколько не удивило. Усыпальница куталась во мрак. Стены покрывали старинные письмена, высеченные в камне. На богато изукрашенном постаменте белела урна в виде увядшего цветка. Под ней стояли три коробочки с прахом. Биитра, Данат, Кайин. Братья Оты, погибшие в битве за трон. Жизни, отданные ради права получить собственный склеп в темноте подземелья.
Ота поставил фонарь и сел на каменный пол, глядя на могилу человека, которого никогда не знал и не любил. Того, чье место занял. Вот какой конец ждал его самого. Урна, могила, высокие почести, дань уважения пеплу и костям. До белой урны оставалось еще лет тридцать, а может, сорок. Сорок лет церемоний, переговоров, бессонных ночей, ранних пробуждений и почти ничего больше.
И все же, когда придет время, усыпальница будет принадлежать лишь ему. Данату, его единственному сыну, не придется убивать или быть убитым. Ему не с кем будет сражаться за черный трон. Правда, это было слабое утешение. Слишком уж много жертв принес Ота, чтобы добиться того, что сын торговца получил бы задаром.
Как хорошо было бы, если бы он никогда не знал иной доли! Не покидал бы дворцовых покоев, не рыбачил на восточных островах, не обедал в трактирах неподалеку от Ялакета и не помнил, что такое свобода. Если бы он все забыл, то легко бы стал тем, кем его хотели видеть. Но вместо этого он жил своим умом, собирал ополчение, любил одну женщину, растил одного сына. Мудрость подсказывала, что он прав, однако терпеть упреки и косые взгляды от этого было не легче.
Пламя в лампе дрогнуло и зашипело. Ота встрепенулся. Сколько же времени он провел здесь? Когда встал, оказалось, что левая нога затекла: он слишком долго сидел на холодном камне. Ота взял фонарь и не спеша, стараясь не тревожить онемевшую ступню, побрел к лестнице, которая вела наверх, к солнечному свету. К тому времени, когда он вернулся во дворцы, онемение уже прошло. В окна заглядывало бледное серое небо – его лишь немного тронула бирюза. По коридорам и залам гуляло эхо голосов. Огромный величавый зверь, двор Мати, потягивался и зевал.
В его собственных покоях бурлила суматоха. Утхайемцы и слуги пестрым клубком окружили Киян. Она слушала их беспокойное квохтанье с выражением серьезнейшего участия, и никто, кроме мужа, не мог бы догадаться, что на самом деле происходящее забавляет ее. Руку она положила на плечо тому самому слуге, мимо которого Ота прокрался ночью. На лице у того не осталось и намека на сонное умиротворение.
– Любезные подданные, – прогремел Ота, заставив их разом обернуться, – вы что-то потеряли?
Все до единого замерли в позах нижайшего почтения. Ота ответил привычным жестом, так же, как отвечал по сто раз на дню.
– Высочайший, – промямлил Господин вестей, – мы явились пробудить вас и обнаружили, что кровать пуста.
Ота заметил, что Киян вздернула бровь, как бы говоря, что слово «пуста» относилось лишь к отсутствию мужа, а она сама с большим удовольствием поспала бы еще.
– Я гулял, – ответил он.
– Мы не успеем приготовить вас к аудиенции с посланником Тан-Садара.
– Отложите ее. – Ота прошел сквозь толпу к дверям спальни. – Все, что на сегодня намечено, отменяется.
Господин вестей разинул рот, словно пойманный лосось. Ота жестом спросил его, нужно ли повторять сказанное. Тот ответил позой смирения.
– Завтракать я буду здесь, – продолжил Ота, обращаясь к остальным. – И пошлите за моими детьми.
– Наставники Эи-тя… – начал один из придворных, но под взглядом хая умолк, словно забыл, что хотел сказать.
– Я намерен провести день с родными.
– Но, высочайший, пойдут слухи, – возразил другой. – Начнут говорить, что мальчик опять сильно кашляет.
– К завтраку подайте черный чай, – сказал Ота. – И вообще, принесите чай сразу. Мне нужно согреться.
Он вошел в покои. Киян последовала за ним и закрыла за собой дверь.
– Тяжелая ночь?
– Не мог заснуть, – ответил он, усаживаясь возле очага. – Только и всего.
Киян поцеловала мужа в макушку, где, как она заверила его, волосы уже начали редеть, и вышла из комнаты. Послышался мягкий шорох одежд. Киян переодевалась, мурлыкая под нос какую-то песенку. Тепло очага ласковой рукой гладило ступни Оты. Он прикрыл глаза.
Ничто не вечно. Всему придет конец. И дворцам. И даже башням. Он попытался представить, как мог бы жить, если бы в мире не было Мати – кем бы он стал, чем занимался, – и вдруг ощутил в груди каменную тяжесть. Как поступить, если башни рухнут? Куда идти? А может, и пойти будет некуда?
– Папа-кя! – звонко крикнул Данат. – Я гулял во втором дворце и попал в комнату, где никто еще не бывал. Смотри, что я нашел!
Ота открыл глаза и повернулся к сыну, чтобы рассмотреть игрушку из бечевы и дерева. Эя пришла полторы ладони спустя, когда на тонкие гранитные ставни упало солнце. В тот день Ота больше не вспоминал о могиле отца.
Маати решил, что Атай-кво не нравится ему, потому что вообще никому не может нравиться. Нет, в его поведении, словах, манерах, привычках не было ровным счетом ничего раздражающего. Но ведь живут на свете очаровательные негодяи, которых все любят, несмотря ни на что. Значит, чтобы уравновесить их, должен был родиться Атай. Маати смог терпеть его целых три недели только благодаря водопадам похвал и восторга, которые Атай без устали на него изливал.
– Теперь все изменится, – сказал посланник однажды, когда они сидели у Семая на крыльце. – Мы превзойдем Вторую Империю. Начнется новая эра.
– А как хорошо предыдущая кончилась, – с обычной иронией пророкотал Размягченный Камень.
Утро выдалось теплое. Стриженые дубы, отделявшие дворцы от жилища поэта, зазеленели яркой молодой листвой. Над вершинами деревьев, едва различимые сквозь переплетение ветвей, поднимались в небо каменные башни. Семай потянулся через посланника, чтобы подлить в чашу Маати рисового вина.
– Рано еще судить, – возразил Маати, поблагодарив Семая кивком. – Мы говорим, как будто уже опробовали метод.
– Главное, в этом есть здравый смысл, – ответил Атай. – Я уверен, что все получится.
– Если мы что-то упустили, того, кто за это возьмется, ожидает весьма печальный конец, – заметил Семай. – Дай-кво проверит все до мелочей, прежде чем станет рисковать жизнью поэта.
– В следующем году, – заявил Атай. – Ставлю двадцать полосок серебра, что этот метод пленения начнут применять уже в следующем году.
– По рукам, – вставил андат и повернулся к Семаю. – Расплатишься за меня, если что?
Поэт не ответил, но в уголках его рта спряталась улыбка. Маати потребовались годы, чтобы понять, как в Размягченном Камне проявлялись черты Семая, в чем они составляли единое целое, а в чем были непримиримыми врагами. Иногда Семай понимал андата с полуслова, а иногда его дни омрачались молчаливой, скрытой от посторонних глаз борьбой. Поэт и его андат были ни дать ни взять старая супружеская пара.
Маати пригубил рисовое вино. Это была настойка на персиках, частичка осеннего урожая среди цветения весны. Атай неловко отвел взгляд от широкого лица андата.
– Должно быть, вам не терпится вернуться к даю-кво? – предположил Семай. – Вы и так пробыли у нас дольше, чем полагали.
Атай отрицательно помахал рукой. Маати показалось, что он был рад возможности забыть про андата и обратиться к человеку.
– Что вы, это время для меня бесценно! – сказал посланник. – Маати-кво войдет в историю как величайший поэт нашего поколения.
– Выпейте еще, – предложил Маати и чокнулся с Атаем, но Семай остановил их, указав на дорожку среди деревьев. По ней бежала маленькая рабыня; полы ее халата раздувались, как паруса. Атай поставил чашу, встал и одернул рукава. Наступил час, которого все ждали: девочка спешила сказать, что восточный караван отправляется и посланнику пора идти. Маати с облегчением вздохнул. Спустя пол-ладони библиотека снова будет принадлежать ему одному. Атай изобразил формальную позу прощания. Маати и Семай ответили.
– Я напишу вам как можно скорее, Маати-кво, – сказал посланник. – Для меня было честью работать с вами.
Маати неуверенно кивнул. Наконец после неловкой паузы Атай развернулся и пошел прочь. Маати смотрел вслед поэту и рабыне, пока те не скрылись за деревьями, а потом облегченно вздохнул. Семай, посмеиваясь, заткнул пробкой флягу с вином.
– Согласен. Кажется, дай-кво нарочно его выбрал, чтобы раздражать хая.
– Или просто хотел от него отдохнуть, – добавил Маати.
– А мне он понравился, – сказал андат. – Правда, мне вообще все нравятся.
Они вошли в дом. Все внутри содержалось в безупречном порядке – полки с книгами и свитками, мягкие кушетки, стол с расставленными на нем черными и белыми фишками. На подоконнике горела лимонная свеча, однако по комнате, яростно жужжа, по-прежнему кружила муха. Каждую зиму Маати забывал про мух, а потом весной удивлялся их появлению. Ему стало интересно, куда же они прячутся во время страшных морозов и как определяют, что пора выползать наружу.
– А ведь он прав, – заметил Семай. – Если вы не ошиблись, это станет самым важным открытием со времен Империи.
– Наверняка я что-то пропустил. Планов, как вернуть былое могущество, придумали уже с полсотни. Если бы это было возможно, кто-то давно бы уже нашел верный способ.
– Не знаю, как там с другими способами. Я изучил только ваш и могу сказать, что он хотя бы выглядит убедительно. В этом его преимущество. Почти уверен, что дай-кво скажет то же самое.
– А может, и смотреть не станет, – предположил Маати, но тем не менее улыбнулся.
Семай был первым, кого он познакомил со своими теориями. Тогда Маати еще и сам не понимал их важности. Им двигало обыкновенное любопытство. И только рассказывая о своих задумках Семаю, он осознал наконец, каких глубин коснулся. Именно Семай посоветовал ему обратить на работу внимание дая-кво. Все рвение и восторги посланника не стоили одного дельного замечания Семая.
Они поговорили еще немного, обменялись впечатлениями об Атае, посмеялись. Наконец Маати распрощался с другом и потихоньку, чтобы не началась одышка, отправился домой. Он приехал в Мати четырнадцать, нет, уже почти пятнадцать лет назад. Ни одно место на земле не стало для него таким же родным, как этот город, его величественные дворцы, подземные чертоги, мостовые из черного камня, кузницы и вечный запах угольного дыма. Маати шел по тропинкам, усыпанным мраморной крошкой, нырял под арки, с которых свисали, струясь, шелковые флаги. В полумраке садов пела рабыня. Мелодия была простая, но удивительно чистая, полная грусти. Он свернул на дорожку, которая вела ко входу в его комнаты за библиотекой.
Маати обнаружил, что думает о том, как заживет, если дай-кво и вправду сочтет его работу достойной внимания. Странная мысль. Он столько времени был в немилости: сначала из-за истории с гибелью своего учителя, Хешая, потом из-за того, что разрывался между любовью к жене и сыну с одной стороны и служением даю-кво с другой. И, наконец, из-за того, что, будучи поэтом, ввязался в политику и поддержал Оту Мати, старого друга и врага, в борьбе за трон. Нетрудно было решить, что он стал поэтом по ошибке. Ведь главный секрет раскрыл ему другой ученик, который вскоре покинул школу. Ота, будущий грузчик, посыльный и хай. Маати примирился с такой тихой жизнью: библиотекой, тесным кружком друзей, несколькими любовницами, которые соглашались делить постель с опальным поэтом, располневшим из-за обильной пищи и сидячей работы.
После стольких поражений он уже не верил, что избавится от клейма неудачника. Слишком уж сладок был этот сон, чтобы оказаться правдой. Оставалось только мечтать, что он никогда не кончится.
Эя ждала его на крыльце, сосредоточенно изучая мотылька, который сел ей на руку. Она была так похожа на родителей: высокие скулы, как у матери, отцовские темные глаза и очаровательная улыбка. Маати на ходу изобразил приветствие, и когда Эя пошевелилась, чтобы ответить, мотылек мягко вспорхнул с ее руки. Оказалось, что его скромные коричневые крылышки украшает черный с оранжевым узор.
– Атай что, уехал? – спросила Эя, пока Маати отпирал дверь.
– Наверняка уже перебрался через мост.
Маати вошел, Эя без приглашения последовала за ним. Комната, где он обитал, была просторная, пусть и не такая великолепная, как хайские чертоги и не такая уютная, как дом поэта. Это было жилище библиотекаря – с брусками туши возле низкого стола, пятнами от вина на обивке кресел, с маленькой бронзовой жаровней, полной старого пепла. Эя хотела закрыть дверь, но Маати ее остановил.
– Пусть проветрится немного. На улице уже тепло. Как провела день, Эя-кя?
– С отцом. Ему захотелось побыть с семьей, поэтому пришлось все утро торчать во дворцах. После полудня он уснул, и мама разрешила мне уйти.
– Странно слышать. Мне казалось, Ота почти не спит, он же день и ночь работает, правит городом.
Эя пожала плечами, не соглашаясь и ничего не отрицая. Она прошлась по комнате, щурясь куда-то в пространство за распахнутой дверью. Маати сложил руки на животе и внимательно на нее посмотрел.
– Тебя что-то тревожит.
Девочка покачала головой, но при этом еще сильнее нахмурилась. Маати ждал. Наконец Эя резко и как-то по-птичьи развернулась к нему. Она приготовилась что-то сказать, но медлила, набираясь храбрости.
– Я хочу выйти замуж.
Маати моргнул, покашлял, чтобы выиграть время, и подался вперед. Кресло под ним заскрипело. Эя стояла, скрестив на груди руки, и смотрела на него почти осуждающе.
– У тебя есть мальчик? И кто же он? – спросил Маати, и тут же спохватился. Если дошло до брака, ни о каком «мальчике» речи быть не могло, по меньшей мере надо было сказать «избранник». Эя только насмешливо фыркнула в ответ.
– Не знаю. Кто угодно.
– Любой сойдет?
– Нет, не любой. Не хочу жить с каким-нибудь огнедержцем из предместий. Мне нужен кто-то достойный. Кто придется мне по душе. У отца больше нет дочерей. Я знаю, с ним уже обо мне говорили. А он все ничего не делает. Сколько еще ждать?
Маати потер подбородок. Он вовсе не ожидал такого разговора и совсем не представлял, как себя вести. Щеки у него загорелись.
– Понимаешь, Эя-кя, ты еще молода. То есть… Молодые женщины обычно проявляют интерес к мужчинам. Ты меняешься. Насколько я помню, в твоем возрасте у людей появляются определенные чувства…
Эя посмотрела на него так, будто он выплюнул крысу.
– Я, наверное, что-то не понял, – растерялся Маати.
– Не в этом дело, – сказала она. – Я уже сто раз целовалась с мальчишками.
Щеки все пылали, но Маати решил этого не замечать.
– Ясно. Ты, наверное, хочешь жить отдельно, а не на женской половине? Если так, ты всегда можешь…
– Талит Радаани выходит замуж за третьего сына хая Патая, – сказала Эя и быстро прибавила: – Она на полгода младше меня.
Маати почувствовал себя так, будто в его руках вдруг щелкнула и сложилась головоломка. Теперь он прекрасно понимал, что к чему. Он потер колени и вздохнул.
– И, конечно же, она заела тебя хвастовством.
Эя смахнула предательские слезы.
– Ведь она младше и ниже тебя по положению. Должно быть, нашла теперь доказательство, что она не чета другим.
Эя пожала плечами.
– Или что в тебе нет ничего особенного, – мягко продолжил Маати, стараясь не обидеть ее. – Угадал?
– Не знаю, что она там думает.
– Тогда расскажи, что думаешь ты.
– Не понимаю, почему он не может найти мне мужа! Мне даже не надо будет уезжать. Иногда люди просто женятся, и все. Они годами не живут вместе, но союз уже заключен, и все о нем знают. Почему он не сделает для меня то же самое?
– А ты его просила?
– Он сам должен знать, – огрызнулась Эя, меряя шагами расстояние между открытой дверью и очагом. – Он – хай Мати. И не настолько глуп.
– А еще он не… – начал Маати и прикусил губу, чтобы не сказать «ребенок». Женщина, которой себя считала Эя, не потерпела бы такого слова. – Ему не четырнадцать лет. Мужчинам, таким, как я и твой отец, легко забыть, что значит молодость. К тому же, я уверен, что он пока не хочет выдавать тебя замуж и даже не допускает мысли об этом. Ты – его дочь. Это тяжело, Эя-кя. Тяжело терять своего ребенка.
Она остановилась и наморщила лоб. Из кроны дерева со звонким криком выпорхнула птица. Маати услышал, как захлопали ее крылья.
– Это не потеря, – возразила Эя, но уже не так уверенно, как раньше. – Я же не умру.
– Нет, не умрешь. Зато уедешь в другой город, к мужу. Ты, конечно, будешь присылать нам весточки с посыльными. Однако вряд ли вернешься к родителям. И ко мне. Это не смерть, милая, но все равно потеря. Мы все и так уже много потеряли. Мы не хотим новой утраты.
– Но ты мог бы уехать вместе со мной. Мой муж обязательно разрешил бы, иначе зачем за него выходить?
Маати рассмеялся и встал.
– Мир слишком сложен, чтобы решать все заранее, – сказал он, ероша волосы Эи, как раньше, когда она была еще маленькой. – Поживем – увидим. Не исключено, что я уеду отсюда. Все зависит от дая-кво. Возможно, вернусь в селение поэтов, чтобы пользоваться их библиотеками.
– А можно я поеду с тобой?
– Нет, Эя-кя. Женщин туда не пускают. Знаю, знаю. Это несправедливо. Но я ведь не скоро еще уеду. Почему бы нам не пойти на кухню и не раздобыть медового хлеба?
Они оставили комнату открытой для весеннего воздуха и солнца. Дорога на кухни лежала через огромные залы с высокими сводами, мимо беседок, в которых готовились к ночным танцам и пирам. Шелковые стяги взлетали на ветру, как будто радовались теплу и свету. В садах мужчины и женщины лежали на траве, закрыв глаза и обратив лица к небу, словно цветы. Маати знал, что за стенами дворцов город не знает отдыха. Кузнецы, как всегда, трудились ночи напролет, чтобы наутро лавки получили их товар: изделия из бронзы, железа, серебра и золота. А еще там можно было купить любую вещь из камня. Только здесь, в Мати, их лепили вручную, словно из глины, пользуясь удивительной силой Размягченного Камня. Во дворцах же не заметно было и намека на работу. Казалось, что у придворных забот не больше, чем у котов. Маати снова задумался, что было тому причиной: напускная беспечность или обыкновенная лень.
На кухне дочь хая и его постоянный гость легко получили несколько толстых ломтей медового хлеба, обернутых в плотную хлопковую ткань, и каменную фляжку с холодным чаем. Маати рассказал Эе обо всем, что делал Атай с тех пор, как она последний раз приходила в библиотеку, и о дае-кво, и об андатах, и о том, что сам повидал, пока не приехал в Мати. Ему нравилось проводить время с девочкой, льстило, что она тянется к нему. А еще он самую чуточку торжествовал: Эя обсуждала с ним то, о чем никогда не говорила с Отой!
Они расстались, когда торопливому весеннему солнцу оставалась всего ладонь до западных гор. Маати остановился у фонтана, омыл руки в холодной воде и задумался о планах на вечер. Он слышал, что в одном чайном доме неподалеку собирался выступать зимний хор: наконец-то работе долгих темных месяцев предстояло увидеть свет. Мысль была неплохая; правда, книга, фляжка вина и кровать с теплыми шерстяными одеялами соблазняли его ничуть не меньше.
Маати был так занят выбором между этими скромными удовольствиями, что не заметил свет в своих окнах. Женщину, сидевшую у него на постели, он тоже не замечал, пока она не заговорила.