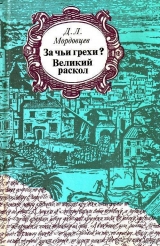
Текст книги "За чьи грехи?"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
XI. «Возьми одр свой и ходи…» [33]33
Возьми свой одр и ходи – слова Христа расслабленному из известной евангельской притчи (Матфей, гл. 9, ст. 6 и др.); одр – постель.
[Закрыть]
Между тем наверху, у царя, вот что происходило.
Алексею Михайловичу в тот же вечер успели доложить, что сынок Афанасия Лаврентьича не убит и не пропал без вести, а проявился за морем, во граде Веницее; что там он гуляет в немецком платье, «пьет богомерзкую табаку» и играет в зернь; что словами своими бесчестит московское государство и его, великого государя; что он вывез с собою за море столько денег, что швыряет ими направо и налево и выкупает с каторги полоняников; что, наконец, собирается в Рим, к папе, чтоб перейти там в папину веру, а свою православную веру ногами потоптать. Говорили намеками, что Афанасьевы новшества к добру не приведут.
Вообще все это говорилось осторожно, с оглядкою – не ровен-де час.
Алексей Михайлович слушал все эти подходы, но своего мнения не высказал, хотя и выразил сожаление об отце, обманувшемся в любимом сыне.
Его только одно удивляло – почему сам Афанасий не явился к нему, чтоб лично доложить обо всем, что он узнал.
Потому на другой день, рано утром, государь приказал позвать к себе Ордина-Нащокина. Посланный воротился и доложил следующее: Афанасий Лаврентьевич так убит, что опасно занемог и не может головы поднять с подушки; что всю ночь он метался и в бреду все повторял: как он теперь явится великому государю на очи. Боятся, как бы старик со стыда и горя, когда придет в себя, рук на себя не наложил.
Это известие так встревожило государя, что он тотчас же пошел на половину царицы, чтоб посоветоваться. В таких делах женский ум может иногда скорее разобраться, чем мужской: в деле Нащокина затрогивалась область семьи, область сердца; а тут женщина – дальновиднее мужчины и найдет разгадку там, где мужчина, может быть, и искать не будет. Он же так любил Афанасия, что ему страшно было потерять его.
У царицы он застал свою любимицу – Софьюшку. Юная царевна все носилась со своим «Лусидариусом». Он ей просто спать не давал – так эта книга волновала ее воображение. Теперь ей не давал спать вопрос о том, где собственно находится рай на земле; а что он был на земле – из «Лусидариуса» это ясно как день.
– Как же, мама, – горячилась она, – тут именно глаголет «Лусидариус», что первая часть мира есть Азия, в ней же восходит солнце, от рая же исходит источник един, из того источника текут четыре реки: едина нарицается Виссон; егда же изыдет из рая, тогда именуется Гангия… Ну, видишь, мамочка, на земле рай.
– Кажись бы, на земле, – неуверенно отвечала Марья Ильишна.
– Так, мамочка, – продолжала Софья, – ну, слушай: «вторая река Гедеон; егда изыдет из рая, нарицается Нил; третия Тигр; четвертая Ефрат».
– Так, так, милая, – задумчиво соглашалась царица.
– Как же, мамочка, в рай попасть? можно? – приставала неугомонная девочка.
– Нет, нельзя, милая: вить Бог Адама и Еву изгнал из раю.
– Так что ж, мама! Он согрешил – яблочко съел, а мы не ели.
Царица невольно рассмеялась.
– Дурочка еще ты – вот что.
– Нет, мама, а ты слушай, – настаивала Софья, – тут пишется, что до рая человеку сущу во плоти пойти невозможно…
– Видишь? – перебила ее Марья Ильишна.
– Нет, а ты слушай – понеже, – говорит, – облежат рай великие горы и чащи лесные; подле оных лесов великие поля, широты и долготы презельные, и на тех полях много превеликих драконов и иных лесных зверей; потом начнется ближе всех к тем местам край земли – Индия земля и великая река Индус, яже течет из горы Кауказосы и течет в Чермное море. В тое землю трудно дойти человеку, понеже на единой половине в Вендейское море течет река превеликая Индус, и прилежит ко границе великое море, яко невозможно по нем прейти в четыре лета»… Так как же, мамочка, – волновалась Софья, – коли невозможно в четыре лета перейти сие поле, то в пять можно? Говори же, мама, можно?
За этим горячим разговором застал их Алексей Михайлович.
– Чего Софья-ту из себя выходит? – спросил царь.
– Да все вот рай хочет найти, – улыбнулась государыня.
– Рай? – обратился Алексей Михайлович к дочери. – Уж и ты не хочешь ли по Воиновым следам идти?
– По каким Воиновым следам, батюшка царь? – удивилась Софья.
– А сынка Афанасьева Ордина-Нащокина.
– А что, батюшка? – встрепенулась царевна.
Она знала, что Воин пропал без вести. Она знала этого Воина, красивого молодца, часто его видела и во дворце, и в церкви, и была к нему, по-своему, конечно, по-детски, очень неравнодушна. А потому она очень покраснела, когда отец упомянул его имя.
– Что ж Воин? – не глядя на отца, переспросила она. – Вить его давно нет на свете.
– Нет, дочушка, здравствует, и так же, как ты вот, дорогу в рай отыскивает, – серьезно отвечал Алексей Михайлович.
И царица, и царевна посмотрели на него в недоумении.
– Ты шутишь, государь? – спросила первая.
– Не до шуток мне, матушка-царица, – грустно отвечал царь. – Я пришел к тебе об этом именно и посоветовать. Воин отыскался, жив и невредим.
– Ах, батюшка! – невольно воскликнула Софья.
– Подлинно говорю – жив, – продолжал Алексей Михайлович, – и ноне во граде Веницее обретается. Отай ушел он из московского государства, беженцем, как блудный сын [34]34
Блудный сын – широко известная евангельская притча о сыне, покинувшем дом отца, а затем испытавшем много бедствий и вернувшемся (Лука, гл. 15). Здесь имеется в виду стихотворная «Комедия притчи о блуднем сыне» Симеона Полоцкого, вошедшая в его рукописный сборник «Рифмологион» и изданная в 1685 г. Предполагают, что одним из побудительных мотивов к написанию пьесы была история бегства Воина Ордина-Нащокина.
[Закрыть], и своим воровством отца убил: Афанасий, узнав про воровство сынка, зело занемог. Да и каково отцу, и то надо сказать. Всю ночь, ноне, говорят, Афанасий-ту огнем горел и метался: «Как я, говорит, теперь великому государю на очи покажусь?» Смерти бедный старик просит.
– Ах, он, горемычный! – соболезновала царица.
– И мне его жаль, ах, как жаль! – повторял Алексей Михайлович. – А как поправить дело? Что делать – я и ума не приложу.
Царица задумалась. Все молчали. Софья тихо ласкалась к отцу и вопросительно глядела в его задумчивые глаза.
– Как ни как, а старика надоть пожалеть, – сказала Марья Ильишна: верный старик, царства твоего и твоего государского покоя рачитель – его поберечь надоть, утешить.
– И я так думаю, Маша, – согласился «тишайший».
– А с сынком – расправа после, – пояснила царица.
– А что Воину будет, батюшка? – тревожно спрашивала отца Софья.
Она была девочка умная, всегда любила быть с большими, и потому она многое знала, что говорилось и делалось при дворе: оттого, может быть, она и вышла из роду вон – стала небывалым явлением среди женщин XVII века.
Алексей Михайлович не отвечал на ее вопрос, а только погладил ее головку.
– Ты права, Маша, – повторил он, – утешим старика, и понеже, ни мало не помедля: я напишу ему сам, успокою его. А то долго ли до греха! Помрет старик с печали и со страху. Пойду – напишу.
И Алексей Михайлович поспешил к себе.
– Вон оно, дочка, что значит рай-ту искать, – сказала Марья Ильишна.
– А разве, мама, он рай искал? – встрепенулась Софья.
– Вестимо. Тесно, вишь, и душно ему стало в московском государстве: пойду-де и я поищу, где солнце встает и где оно заходит. Ишь новый Иван-царевич выискался – поехал жар-птицу искать да моложеватые яблоки! Живой-ту воды не нашел, а мертвой-от водицы родителю прислал. Утешил старика!
– А что ему за это будет, мама? – робко спросила Софья.
– Ну, не похвалит за это государь.
– Казнить велит?
– Не знаю, а только не похвалит.
– Его, мама, привезут из Веницеи?
Софья что-то вспомнила и бросилась к своей излюбленной книге – к «Лусидариусу». Она торопливо перевернула несколько страниц и остановилась.
– Так вон он где теперь, Воин, в Венецыи, – сказала она, что-то соображая; потом прочла: – «Там Венецыя, юже созда царь Уптус, оттоле вышла река Рын, и течет по французской земле…» Ах, мама, куда он зашел! Вот молодец!
– Смотри, как бы этому молодцу не пришлось отведать этой Венецыи в Москве, – заметила царица.
Но Алексей Михайлович оказался добрее, чем думала Марья Ильишна.
Когда Ордин-Нащокин, после мучительно проведенной ночи и тревожного утра, к полудню забылся сном, ему принесли от царя письмо.
Сон несколько подкрепил несчастного старика. Открыв глаза, он увидел перед собою улыбающееся лицо Симеона Полоцкого.
– Великий государь тебе милость прислал, Афанасий Лаврентьевич, – сказал он с южнорусским акцентом, – бальзам на раны.
– Какую милость? – испуганно спросил Нащокин.
– Говорю: бальзам на раны, – повторил вкрадчиво хохол, – возьми одр твой и ходи; прочти сие.
Он подал ему письмо Алексея Михайловича. Руки Нащокина дрожали, когда он распечатал его; но когда стал читать, слезы умиления полились у него из глаз: царь утешал его, просил не предаваться отчаянию, оправдывал даже его преступного сына.
Нащокин не мог дольше сдерживать себя: он вслух, восторженно прочел окончание царского письма:
«Твой сын – человек молодой (читал он, глотая слезы) – хощет создание Владычне и руку его видеть на сем свете, якоже и птица летает семо и овамо, и, полетав довольно, паки к гнезду своему прилетит. Так и сын твой вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание ко святой купели и к тебе скоро возвратится» [35]35
Полный текст письма Алексея Михайловича приводится у Соловьева (кн. 6, с. 71–72) Письмо относится к началу 1660 г. Юрий Богданович (Зиновьевич) Хмельницкий (1641–1685), сын Богдана (Зиновия) Хмельницкого; украинский гетман. Участвовал в гетманских междоусобицах, в войне с поляками, уходил в монастырь, переходил на сторону Польши; в 1685 г. был окончательно отстранен от гетманства и казнен по приговору турецкого паши. Зять Юрия Хмельницкого Павел Тетеря Моржковский был избран гетманом в 1662 г. на Корсунской раде после отречения Ю. Хмельницкого. Тетеря вел постоянную борьбу за власть с И. Брюховецким, которым и был казнен в 1667 г. Об этом бурном времени в истории Украины подробно рассказывает Н. И. Костомаров в своих исследованиях (кн. 6), которые активно использовались Мордовцевым в этом и других произведениях.
[Закрыть].
Нащокин с благоговением целовал послание царя, целовал и плакал.
– Возьми одр твой и ходи, – повторял Симеон Полоцкий.
XII. Слепцы вожатые
Во все время, пока продолжались переговоры русских или вернее – московских послов с польскими комиссарами о мире, военные действия не прекращались ни с той, ни с другой стороны; но только, если можно так выразиться, боевая линия, с весны 1665 года, передвинулась гораздо южнее. Война шла почти исключительно, можно сказать, в пределах правобережной Украины, к западу и югу от Киева.
В то время правобережная Украина совершенно отпала от Малороссии и имела своих гетманов, польских или турецких ставленников, как Юрий Хмельницкий, Тетеря и другие. Вся же левобережная Украина и Запорожье находились под главенством гетмана Брюховецкого, посланцев которого мы уже видели в Москве, весною 1664 года, на аудиенции у Алексея Михайловича в столовой избе, где мы в первый раз увидели и Воина Ордина-Нащокина.
Весною 1665 года Брюховецкий с несколькими украинскими полками и великорусскими ратными людьми перешел на правую сторону Днепра. С польской же стороны против него шел знаменитый польский полководец Чарнецкий [36]36
Стефан Чарнецкий (1599–1665) – коронный гетман, киевский воевода, первым применивший в польских войсках тактику партизанской войны. Ян Собеский (1624–1696) – талантливый польский полководец, с 1674 г. король Польши Ян III. Махновский (Маховский) – польский полковник; в 1666 г. был разбит под Межибожьем и в оковах привезен в Крым.
[Закрыть]с не менее знаменитым коронным хорунжим Яном Собеским, впоследствии королем Речи Посполитой, с Махновским, с гетманом Тетерею и другими.
Чарнецкий двигался по направлению к Суботову, некогда бывшему владению Богдана Хмельницкого, где когда-то этот последний держал у себя в плену этого самого Чарнецкого, посла поляков при Желтых-Водах.
Брюховецкий же в это время стоял ниже Чигирина, у Бужина, где тогда находился и запорожский кошевой Серко [37]37
Серко Иван был кагальницким полковником, затем запорожским кошевым. О его участии в описываемых событиях см. Костомаров, кн. 6, с. 25 и др.
[Закрыть]с своими казаками.
Весенний день близился к вечеру, когда один из передовых отрядов польского войска, среди пересекающихся лесных дорожек, троп и болот, как казалось его предводителю, сбился с пути. В это время на одной из боковых троп, из-за болота, показалось трое путников. Это были бродячие нищие, слепцы, которых там называют «старцями» и которые, как великорусские «калики перехожие», бродят по ярмаркам и распевают духовные стихи, думы, а иногда и сатирические песни, по желанию слушателей. Иногда они поют и под звуки лиры, кобзы или бандуры, почему и называются то лирниками, то кобзарями, то бандуристами.
Завидев слепцов, польские жолнеры остановили их. Двое из них были слепые – один старик, другой помоложе, а третий – мальчик, их «поводатырь» или «мехоноша». У всех у них было в руках по длинному посоху, а за плечами крест-накрест висели сумы для подаяний.
– Вы здешние, хлопы? – спросил их усатый шляхтич со шрамом на щеке.
– Тутошни, панове, – отвечал старший слепец.
– А дорогу до Суботова хорошо знаете? – спрашивал дальше шляхтич.
– Как же не знать, панове? – отвечал младший. – Вы сами, бувайти здорови, ведаете, что жебрака, как и волка, ноги кормят: как волк знает в лесу все дорожки, так и слепцы жебраки.
Некоторые жолнеры рассмеялись.
– И точно волки, а малец совсем волчонком смотрит. Ты чей?
– Ничей, – бойко отвечал мальчик.
– Как ничей? – удивился шляхтич.
– Ничей, пане: моего батька татары зарезали, а мать в полон увели.
– А это за то, что вы против панов все бунтуете.
– Мы не бунтуем, пане.
– Ладно! Так показывайте нам дорогу до Суботова. А сегодня мы туда дойдем?
– Не скажу, – отвечал старший.
– Как не скажешь, пся крэвь! – вспылил шляхтич.
– Не скажем, – повторили оба слепца.
Шляхтич замахнулся было палашом, чтоб ударить того или другого за дерзкий ответ, как его почтительно остановил один из городовых казаков, родом украинец.
– Они, вашмость, не не хотят сказать, а не знают, – сказал он, – это такая хлопская речь: когда они чего не знают, то говорят – «не скажу».
– Так-так, панство, – подтвердил старший слепец, – уж такая у нас, у хлопов, речь поганая. А сдается мне, панове, что сегодня вы не дойдете до Суботова – далеконько еще.
– Так марш вперед! – скомандовал шляхтич.
Скучившиеся было около слепцов жолнеры расступились, и отряд двинулся. Где-то позади какой-то хриплый голос затянул:
и тотчас оборвался. Слышны были шутки, перебранки, смех.
– А пусть жебраки запоют какую-нибудь думу – все будет веселей идти, – предложил городовой казак с огромной серьгой в ухе.
– И то правда! пусть затянут свою хлопскую думу, – согласились другие. – Эй, вы, слепаки! затяните-ка думу, да хорошую!
– Какую ж вам, панове? – отвечал старший слепец, не оглядываясь, но ощупывая посохом путь.
– Какую знаете, – был ответ.
Слепцы тихонько посоветовались между собою, и младший из них, вынув из-под полы своей ободранной «свитины» бандуру, стал ее налаживать и тихо перебирать пальцами струны. Скоро он затянул одну из любимейших для каждого украинца думу – «Невольницкий плач» – думу, содержание и мелодия которой хватали за душу каждого, потому что в то время чуть не из каждой украинской семьи кто-либо томился в крымской или турецкой неволе. Скоро и второй голос присоединился к первому, и оба голоса, равно как и мелодия думы, буквально рыдали.
Дума говорила о том, что не ясный сокол плачет-выкрикивает, а то сын к отцу-матери из тяжкой неволи в города христианские поклон посылает, ясного сокола родным братом называет: «Сокол ясный, брат мой родненький! Ты высоко летаешь, ты далеко видишь, отчего ты у моего отца и матери никогда в гостях не побываешь? Полети ты, сокол ясный, брат мой родненький, в города христианские, сядь – упади у моего отца и матери перед воротами, жалобно прокричи, про мою казацкую участь припомяни. Пусть отец и матушка мою участь казацкую узнают, свое добро-имущество с рук сбывают, богатую казну собирают, головоньку мою казацкую из тяжкой неволи вызволяют! Потому что как станет Чорное море выгравать, так не будут знать ни отец, ни матушка, в которой каторге меня искать – в пристани ли Козловской, или в Цареграде на базаре. А тут разбойники, турки-янычары, станут на нас, невольников, набегать, за Красное море в Арабскую землю продавать, будут за нас сребро-злато, не считая, и сукна дорогие поставами, не меряя, без счету брать…» [39]39
«Невольницкий плач» – одна из наиболее известных украинских дум, лиро-эпических песен, главным образом исторического содержания, исполнявшихся преимущественно слепыми бандуристами. Текст приведенной думы («Плач невольников у турок о выкупе», вар. А) см.: «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова», т. I, Киев, 1875, с. 93–95.
[Закрыть]
Воодушевление певцов росло все больше и больше. Слушателям, особливо же из городовых казаков, которые все были чистейшие украинцы, казалось, что это поют и плачут сами невольники, измученные, ослепленные мучителями-янычарами, что действительно они обращаются к соколу, к ясному солнцу, к небесному своду. Все толпились поближе к певцам и слушали-слушали, затаив дыхание или же украдкой смахивая со щеки предательскую слезу. А они, поднимая свои слепые глаза к небу, пели все с большим и большим воодушевлением. Сама бандура, совсем не хитрый инструмент, и та, казалось, рыдала – и у нее дух захватывало от рыданий.
Потом бандура и голоса певцов как-то обрывались, и этот перерыв еще больше томил душу слушателя: казалось, он ждал, что же будет дальше в этом безбрежном море печали.
А бандура опять тренькала, сначала один голос, потом другой, – и снова раздавался невольничий плач и проклятие:
«Будь ты проклята, земля турецкая, вера бусурманская! ты наполнена сребром-златом и дорогими напитками, только бедному невольнику на свете невольно: ни Рождества Христова, ни Светлого Воскресенья бедные невольники не знают, все в проклятой неволе, на турецкой каторге, на Чорном море изнывают, землю турецкую, веру бусурманскую проклинают: ты, земля турецкая, ты, вера бусурманская, ты, разлука христианская: не одного ты разлучила за семь лет войною – мужа с женою, брата с сестрою, детей маленьких с отцом и матерью! Высвободи, Боже, невольника на святорусский берег, на край веселый, меж народ крещеный!»
– Поганая песня! самая хлопская! – послышалось среди жолнеров.
– Спойте другую, а то мы уснем. Пойте веселую!
– Вот что, люди божьи, спойте им про казака, что штаны латает, либо про Пазину! – со смехом отозвался городовой казак с огромной серьгой в ухе.
И вдруг неожиданно старый слепец, повернувшись лицом к жолнерам и взяв бандуру у товарища, быстро забренчал и, семеня ногами, запел:
Хто попа й попадю
А я ПАзину люблю,
Люблю у день и в ночи,
Ясне свитло гасючи.
На Пазини корали —
Сто золотых давали.
А ни батько купив,
А ни мати дала:
Сама добра була —
С козаками добулА:
ЗдобулА, здобулА —
Бо хороша була!
– Ай да дед! виват! виват! – кричали жолнеры.
А слепец, серьезно отплясав, снова повернулся и зашагал, ощупывая посохом дорогу.
– Еще веселой! еще, старче Божий! – не унимались жолнеры.
Старик опять повернулся к ним лицом, повел слепыми очами, в которых видны были только белки, взял у товарища бандуру и, перебирая по струнам пальцами, залихватски затренькал и стал выделывать ногами невообразимые выкрутасы, приговаривая:
Баба рака купила,
Три полушки дала,
Тричи юшку варила,
Добра юшка була!
Снова взрыв хохота и одобрительные возгласы.
– Да эти хлопы хоть куда! превеселый народ! А еще говорят, что под польскою властью им не хорошо живется: если б в самом деле было не хорошо, то не выдумали бы таких песен.
Между тем начинало темнеть. Пора было и привал делать.
– Эй, слепаки! – крикнул шляхтич со шрамом на щеке. – Далеко еще до Суботова?
– Далеконько, пане, – был ответ.
– Засветло не дойдем?
– Где дойти, пане, – не дойдем.
– Так делать привал! – шляхтич. Приказ начальника облетел весь отряд. Задние ряды также остановились. Надвигались задние отряды и располагались у опушки густого леса.
Скоро по всей равнине запылали костры. Слышался смешанный гул голосов, ржанье коней, хлопанье бичей. У одного из крайних к лесу костров расположились и слепцы, сняв с себя сумки, и слышно было, как тихо тренькала бандура и так же тихо, монотонно раздавался голос младшего слепца, который пел:
Летит орел проти сонця,
Згорда позирае:
Хто не знае коханнячка,
Той счастя не знае.
Плыве козак через море,
В мори потопае:
Хто не знае коханнячка —
Той журбы не знае. [40]40
Летит орел против сонця. – Н. И. Костомаров, приводя обширный свод песен с аналогией казак-орел, замечает: «Молодец хотел бы, чтоб у него были орлиные крылья, летал бы он к девицам или к своей возлюбленной… Один из любимых образов в народной поэзии – летание орла над морем – сопоставляется с разными положениями и ощущениями молодца» (Кн. 8, с. 652).
[Закрыть]
Скоро весь польский стан, утомленный продолжительным переходом, спал крепким сном. Скоро и костры потухли.
XIII. Вместо карася – щука
Ночь была тихая, теплая, но темная. В такие ночи особенно ярко горят звезды.
Тихо было и в стане. Слышно было, как иногда фыркали лошади, позвякивая путами, но и те, кажется, поснули. Не спал только соловей, задорно щелкавший в соседней чаще, да иногда из этой чащи доносился глухой стон «пугача» – филина.
Как ни была темна ночь, но при слабом мерцании звезд хороший глаз мог различить на белом фоне разбитой у опушки леса палатки человеческую тень, которая медленно шевелилась, то нагибаясь к земле, то поднимаясь. Всматриваясь пристальнее, можно было заметить, что от одного из потухших костров, именно от того, около которого расположились на ночлег слепые нищие, тихо отделились две человеческие фигуры и так же тихо поползли по направлению к той палатке, на белом фоне которой шевелилась человеческая тень.
Когда те две тени, которые отделились от костра, неслышно подползли ближе к палатке, то по движениям той одинокой тени они могли различить, что эта одинокая тень молится.
Две тени все ближе и ближе подползают к палатке.
Вдруг эти тени моментально накрывают собою молящуюся тень, наклонившуюся к земле. Произошло какое-то движение, борьба, но ни звука.
Так же беззвучно эти тени понесли что-то в кусты и исчезли в чаще леса. Около палатки одинокой тени уже не было.
В стане опять тихо – ни звука, ни движения. В чаще, между двумя трелями соловья, глухо простонал филин. Ему ответил, ближе к стану, такой же стон ночной птицы.
Но не ночная птица стонала это. Крик филина раздался из горла одной из человеческих теней, пробиравшихся в глубину лесной чащи и тащивших ту одинокую тень, которая молилась у палатки.
– Не крутись, ляше, – не выпустим, – шепотом сказала одна тень, и в этом шепоте можно было узнать голос того слепого нищего, который недавно пел у костра:
Хто не знае коханнячка —
Той счастя не знае.
– Не бойся, ляше, – мы тебе ничего не сделаем, – говорил шепотом другой голос – голос другого слепца, – а пуще всего не вздумай кричать – так и всажу меж ребер вот этот нож по самый черенок.
Тот, к кому относились эти слова, силился что-то сказать, но не мог, – у него во рту был «кляп».
– Ну, теперь его можно и на ноги поставить, – сказал старший нищий, мнимый слепец, – ну, ляше, иди с нами, а то тебя важко нести.
– Ну-ну, ляшеньку, вставай… держись… мы люди добрые.
Они опустили ношу на землю. Тот встал и набожно перекрестился.
– А! да лях, кажись, по-нашему крестится, – заметил один нищий, – а ну, ляше, перекрестись.
Пленник перекрестился.
– Вот чудо! А побожись, перекрестись, поклонись, что не будешь кричать, и мы у тебя «кляп» вынем изо рта. Ну!
Пленник повиновался и перекрестился три раза. Стон филина послышался ближе. Ему отвечал один из нищих таким же стоном.
– Ну, вот теперь ты и без «кляпа», ляше. Пленному освободили рот от затычки.
– Ну, теперь здравствуй, ляше, вашмосць! Мам гонор, – шутливо заговорил старший нищий, – сказывай, пан, кто ты?
– Я не поляк, я – русский из московского государства, – отвечал пленный чистою московскою речью.
Те были ошеломлены этой неожиданностью.
– Как! ты не лях? Оттака ловись!
– Вот поймали щуку замес карася! Как же ты попал к ляхам?
– Меня польские жолнеры взяли в полон, когда я из Мультянской земли, от волох, пробирался в Черкасскую землю, в Киев-град, к святым угодникам печерским, – отвечал пленник.
– Те-те-те! вот подсидели райскую птицу!
– Как же ты, человече, попал к волохам? – спросил старший нищий.
– По грехам моим… Так Богу угодно было, – уклончиво отвечал пленник.
– Э! да ты, человече, я вижу, не разговорчив: думаю, что с нашим «батьком» ты скорей разговоришься.
Они продолжали двигаться лесною тропой. Начинало светать, когда перед ним открылась небольшая полянка среди чащи леса.
– Лугу! пугу! – раздался вдруг крик филина; но это выкрикнул не филин, а старший нищий.
– Пугу! пугу! – послышался ответ с полянки.
– Козаки с лугу! – сказали оба нищие.
На этот возглас послышалось тихое, радостное ржание коней.
– Здоровы бывали, хлопцы! с добычею! А какую птицу поймали?
Это говорил показавшийся на полянке запорожец в высокой смушковой шапке с красным верхом, в широких синих штанах и с пистолетами и кинжалами за поясом. Сбоку у него болталась длинная кривая сабля. Тут же оказался и мальчик «поводатырь» с бандурою в руках и с мешком за плечами.
– И ты уж тут, вражий сын? – заметил ему старший нищий.
– Тут, дядьку, – улыбнулся мальчик.
Это уже были не слепцы, жалкие и согбенные, а молодцы с блестящими глазами, хотя и в нищенском одеянии, ободранные и перепачканные.
Тот, кого они привели с собой, оказался богато одетым молодым человеком, но не в польском, а в немецком платье.
Запорожцы – это оказались они – с удивлением глядели на своего пленника. Они, по-видимому, не того искали.
– Так ты не лях? – снова спросили его.
– Я уж вам сказал, что я из московского государства, – был ответ.
– А в польском войске давно?
– Недели три будет.
– А кто ведет войско – не Ян Собеский?
– Нет, сам Чарнецкий, а с ним и Собеский, и Махновский с гетманом Тетерею и татарами.
– Тетеря! собачий сын! совсем обляшился! – с сердцем произнес старший запорожец-нищий. – Попадется он нам в руки, лядский попыхач! А теперь они идут к Суботову?
– К Суботову, а после, сказывали, Чигирин добывать будут, а добывши Чигирина, хотят перепуститься за Днепр.
– За Днепр! как бы не так! Мы им зальем за шкуру сала.
– А сколько у них войска и всякой потребы? – спросил другой запорожец, что был при лошадях.
– Силы не маленьки, – отвечал пленник, – а сколько числом – того не ведаю.
Запорожцы стали собираться в путь. Мнимые нищие сняли с себя лохмотья и надели казацкое одеяние, которое вместе с оружием и «ратищами» – длинные пики – спрятано было в кустах. Тотчас же были и кони оседланы.
– Так скажи же теперь нам, человече, как тебя зовут? – спросил старший запорожец. – Надо ж тебя по имени величать.
– Зовут меня Воином, – отвечал пленник.
– Воин! вот чудное имя! – удивились запорожцы.
– Вот имячко дали эти москали! Чудной народ. Мы знаем в святцах только одного Ивана Воина. А по батюшке как тебя звать?
– Мой батюшка Афанасий.
– А прозвище?
– Ордин-Нащокин.
– Не слыхали такого. Ну, да все равно: батько кошевой, может, и знает. Ну, теперь на-конь, братцы. Да только вот что, Остапе, – обратился старший запорожец к тому, который оставался при лошадях, – мы, брат, этого воина несли на руках, а ты его повези теперь на коне, потому – у нас четвертого коня не припасено для него.
– Добре! – отвечал тот. – Пускай хлопцы подумают, что я везу бранку – красавицу ляшку. Ну, брат Воин, взбирайся на моего коня, да садись позади седла и держись руками за мой «черес».
Воин сделал, что ему велели. Перед ним на седле поместился Остап.
– Что, ловко сидеть? не упадешь? – спросил он пленника.
– Не упаду.
Мальчик «поводатырь» снял свой измятый «бриль» и стал прощаться с запорожцами.
– А, вражий сын! – улыбнулся старший запорожец. – На же тебе злотого.
И он подал мальчику монету. Получив награду, мальчуган, словно лесной мышонок, юркнул в чащу и исчез. Запорожцы двинулись в путь.








