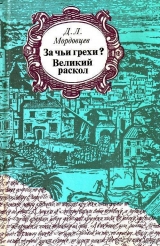
Текст книги "За чьи грехи?"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
XXXV. С самим встретиться!..
Был уже сентябрь месяц на исходе.
Воин Афанасьевич Ордин-Нащокин, с успехом исполнив возложенное на него царем трудное поручение по сбору ратных людей с привятских и прикамских волостей, находился уже в Казани в распоряжении воеводы Борятинского и ожидал со дня на день выступления в поход, когда рано утром, сидя на берегу озера Булака, куда он ходил, чтобы размыкать свою тоску, к нему подошла старая цыганка и, вглядевшись в него, таинственно проговорила:
– Об чем закручинился, добрый молодец? Коли о том, что на Москве, так ту кручину я руками разведу, а коли о том, что случилось в Астрахани, – так и к той кручине я ума-разума приложу.
Воина поразил этот двойственный намек цыганки.
– А ты почем знаешь о моей кручине? – спросил он.
– Черная птица всюду летала, всюду все видала и добрым людям помогала: поможет и тебе черная птица, добрый молодец, – по-прежнему таинственно отвечала цыганка.
– Чем же она поможет мне?
– А кручину с сердца сымет, а замест кручины – радость положит; а та радость астраханской кручине сродни будет, а тебе, добрый молодец, вдвое сродни, – все так же загадочно отвечала цыганка.
Суеверный страх внушали Воину эти слова – он был сын своего века и верил в чудесное, как Аввакум верил тому, что он беса из-под печки выгнал и скуфьей бил.
– Что ж ты судьбу мою покажешь мне? – спросил он нерешительно.
– Покажу, – отвечала цыганка. – Ты видишь в озере вон то белое оболочко?
Она показала на воду.
– Вижу, – отвечал Воин.
– Так я и судьбу твою вижу из глаз твоих: вон Арбат, а вон Веницея град – вон, вон – с оболочкой все уплыло, и вот новая судьба плывет…
Воин вскочил с места: ему казалось, что он видит сон.
– Почему ж Веницея? – спросил он.
– Не знаю, так мне черная птица говорит… А слышишь, как кто-то «не белы снежки» поет и плачет? Воин испуганно перекрестился…
– Чур! чур! сгинь-пропади!
– Полно, добрый молодец, не чурайся! – улыбнулась цыганка. – Ты думаешь, что я бес? Нет, на мне крест – видишь? – и она показала висевший у нее на груди крест.
Воин чувствовал, что им овладевает какая-то таинственная сила, и сила эта исходит от этой неведомой женщины. Но в то же время рассудок говорил ему, что из него хотят что-то выпытать – для чего? для кого?
Вследствие этого он сам решился выпытать из цыганки, что она действительно знает о нем.
– А ты знаешь, кто я? – спросил он.
– Знаю, кто ты был, и узнаю, кто ты есть, – был уклончивый ответ.
– Кто ж я был? – спросил Воин.
Цыганка посмотрела ему в глаза, потом стала глядеть на воду.
– Вижу: столовая изба – в ней царь сидит и бояре… Какие хохлатые люди! – большие… царску руку целуют… А после них – тот, что на тебя похож, тож руку у царя целует… На Арбате в саду ночью соловей заливается, а красная девица в слезах потопает… Сгинул добрый молодец, пошел искать за море живой и мертвой воды… Не нашел живой воды – кручину нашел… Томится добрый молодец, что птица в клетке: и дверцы отворены, и крылья есть, да летать страшно – коршуны кружат в небе… И запела пташечка: «не белы-то снежки…» Плачется добрый молодец на свою горькую судьбину…
Цыганка остановилась, а Воин, казалось, все еще слушал ее: перед ним проходила вся его жизнь. Но в то же время он ясно видел, что эта женщина действительно многое знает: несомненно, что ей известны главные моменты из последних лет его жизни. Но откуда она могла узнать все то, что известно только ему одному да его жене? И он решился выпытать, что еще ей известно.
– Хорошо говорит тебе твоя черная птица, – сказал он после небольшого раздумья. – А што она еще скажет тебе?
– Вижу, вижу, – заговорила она снова таинственно, – вон опять плывет оболочко в воде, и затем за оболочком летит из-за моря пташка… Откуда ни возьмись коршуны, и пымали бедную пташку… Опять пташка в полону… Это не пташка, а добрый молодец в полону у польских людей… Польские люди спят, а слепые люди выкрадывают добра молодца, и добрый молодец очутился у хохлатых людей… Над Москвою оболочко… В Новодевичьем монастыре всенощная, и добрый молодец там ищет красну девицу, а во место красной девицы – черная черница!
Цыганка вдруг замолчала, и, казалось, собиралась совсем уходить.
– Ну, что ж дальше было с добрым молодцем и с черничкой? – спросил с улыбкой Воин.
– Што было – сам знаешь, – неохотно, по-видимому, отвечала цыганка, – а вот што было:
«Как и курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес,
А черничка да сынка привела»…
Воин в волнении схватил ее за руку.
– Так это правда?.. У меня сын родился?.. Сказывай?
Но цыганка вдруг вырвалась и побежала берегом Булака в город.
– Куда ж ты? Погоди! – кричал ей вслед Воин. – Возьми денег за труд.
– Черной птице твоей казны не надо! – не оборачиваясь, отвечала цыганка и скрылась.
В странном смущении остался на берегу Булака Воин. Что от него нужно было этой цыганке? Несомненно – она из Москвы и кем-нибудь подослана. Но кем? От кого она могла узнать такие подробности об его жизни? Она сказала, что снимет с его сердца кручину, а вместо кручины даст ему радость. И эту радость она поведала ему: она прямо сказала, что та, которая была черничкой, привела ему сына. Неужели это правда? А они с женой почти четыре года кручинились, что у них нет детей. Его Наталья думала, что неплодием наказал ее Бог за побег из монастыря. И вот она теперь мать… Ясно, что цыганка ею подослана. Но отчего ж она этого не сказала прямо? Отчего Наталья не уведомила его о себе? Ведь почти четыре месяца, как он с нею расстался, а она ничем не дала о себе знать. Да и где было искать его, когда он мыкался все лето по Вятке да по Каме?
Да и Бог знает, когда еще им придется свидеться. Вон какой пожар распустили по всей русской земле! С Дону началось, с какого-то кабака, а вон куда зарево хватает – до Москвы до самой, до державного места! Астрахань, Царицын, Саратов, Самара – вся низовая сторона, все в огне. И полымя все дальше и все шире захватывает – до Белого моря дошло, до Соловок, до Пустозерска; Аввакума-де из земляной тюрьмы выручать пошли, патриарха Никона из Ферапонтова вывести хотят…
А какие «прелестныя» грамоты рассылает вор по всему московскому государству! Хана крымского с ордами зовет на Русь, персидского шаха в братья себе прочит, в Запорожье его воры мутят… Теперь все языки поднимаются – татарва, черемиса, мордва, чуваши… Нижний обложили…
Такие невеселые мысли бродили в голове Воина, когда он, после встречи с цыганкой, возвращался от Булака.
А тестя, князя Прозоровского, не воротить уж к жизни. А знает ли об этом Наталья? Дошло ли до нее, что отца ее уже нет на свете? Снизу, говорят, нет к Москве ни проходу, ни проезду: всюду пожар и кровь.
В тихом, ясном осеннем воздухе стелятся по небу белые нити паутины… Вёдро, значит, еще долго постоит… Но вон и гуси длинною вереницею тянутся уж на теплые воды, за море…
Воин грустно покачал головой: ему вспомнилось его мыканье по белу свету, там, в заморщине… А тут он мыкался по Вятке да по Каме… дикая, бедная сторона, не то что там: какие города, села! а здесь – одна беднота, голод… Вот голодные люди и идут добывать себе хлеба либо смерти: им все равно помирать голодною смертью с наготы да с босоты.
«Женишка и детишка испроели» – правда, правда: Воин сам все это видел… Он все это доложит великому государю, когда Бог живым донесет его до Москвы. А там его ждет сынок, Наталья, – да дождутся ли…
– А! Воин Афанасьич! здравствуй на многая лета – до конца века!
– Спасибо, Афанасий Ивлич, как твое здоровье?
– Сам себе дивуюсь, как еще на ногах Бог держит.
– Да, правда, Афанасий Ивлич, кручинно тебе было с этою тяготою на Вятке: шутка ли! сто стругов снарядил в такую пору, когда все в нетех. Ну, да слава Богу, за тобой государево дело не стало.
Это встретил Воина товарищ его по наряду на Вятке ратных людей для плавной государевой службы и по постройке там же ста стругов для Волги, – Афанасий Косых, мужчина лет под шестьдесят, но еще бодрый, с резкою сединой в русой бороде.
– Ты откудова это теперь? – спросил Воин Афанасия.
– От воеводы, от князя от Юрья: назавтра поход объявил против вора, и стружечки мои чтоб наутрее отошли от Бакалды вниз до Симбирского с кормом и с зелейными запасы, а сам он идет на вора по сухопутью, – отвечал Косых.
– Так завтра? Ну, слава Богу! – И Воин перекрестился, хотя у него на сердце заскребли кошки. «Шутка ли! с самим встретиться», – подумал он.
XXXVI. Монисто князя Юрия Борятинского
– Кажись, он, соколик, глазки открыл?
– И точно, матушка Ираида, смотрит: не подымает ли его Господь?
– Ох, отец Варсунофей, я, кажись, уж не чаю.
– Не говори, матушка, на все божья воля: уж коли меня, старца негодного, Бог вызволил с турской каторги да из Шпанской земли довел досюдова и сподобил меня приложиться к мощам святых угодников, преподобных Гурия и Варсунофия, так его, воина Христова, поднимет Господь.
Этот разговор осторожным шепотом вели между собой старый инок в черной скуфейке с старенькою живою монашкою, черные живые глаза которой так, по-видимому, не ладили с ее сухим, темным морщинистым лицом.
Они сидели в просторной горнице, в окна которой проникал нежный свет загоравшейся на востоке зари. В той же горнице, на высокой кровати у стены, полузадернутой зеленым тафтяным пологом, лежал средних лет мужчина, по-видимому, тяжко больной. Голова его, обрамленная спутавшимися волосами, и мертвенно-бледное, с следами сильного загара лицо резко оттенялись от белой подушки.
Больной действительно открыл глаза.
– Где я? – слабо прошептали его запекшиеся губы. Старый инок на цыпочках подошел к нему и осторожно нагнулся.
– А! – с горечью протянул больной. – Так я все еще в Веницеи… а мне чаялось…
– Нету, батюшка, ты не в Веницеи, а на святой Руси, – с нежностью сказал старый инок, – ты, должно, меня старого пса признал, што выкупил с полону, с каторги: тебе и мерещится Веницея.
– Так где ж я? – изумленно спросил больной.
– В Синбирском, батюшка, у боярина и воеводы Ивана Михайлыча Милославского [77]77
Иван Михайлович Милославский – боярин, видный сановник (род Милославских возвысился благодаря браку царя Алексея Михайловича и Марьи Ильиничны Милославской), умер в 1685 г. Мордовцев ошибся: в 1671 г. симбирским наместником был Иван Богданович Милославский (см.: Соловьев, кн. 6, с. 306–308; здесь рассказывается об участии Милославского в борьбе против Степана Разина).
[Закрыть]в опочивальне, – проговорил старый инок.
Больной закрыл глаза. Ему казалось, что все это сон. Но между тем в уме его вставали новые неясные образы. Эти запорожцы, которых он видел в столовой избе у царя. Но это сон: он во сне, будто бы в Казани, на берегу Булака видел цыганку, и она много ему наговорила и о сыне, и о запорожцах. Только теперь он видел их не в столовой избе и не у Брюховецкого, а где-то здесь, близко… И тот еще, самый большой, что упал в столовой избе, закричал: «вот оно, аспидово отродье – сынок Ордина-Нащокина!» А вот сам Разин… Он помнит, как он этого самого вора Разина хватил саблей по голове… Да, все это сон, хотя он, кажется, и лежит с открытыми глазами…
– Он опять, соколик, открыл глазки, – слышит он шепот.
– Бредит, должно в огне.
– Кто это говорит? – спрашивает больной, силясь поворотить голову.
– Я, соколик, – говорит монашка, подходя к нему робко.
– Опять цыганка! – слабо простонал больной.
– Я не цыганка, я старица Ираида, от Натальи Семеновны к тебе прислана.
– От Натальи? А где она?
– В Москве, соколик.
– Так это не сон?
– Не сон, соколик, опомнись… Припомни – ты был в бою с вором Стенькою, тебя порубили в бою казаки воровские, и мы не чаяли видеть тебя в живых. А теперь, слава Господу, ты в память приходишь… Перекрестись, родной.
Воин (это был он) хотел было перекреститься – и не мог, застонал: рука его была на перевязи; он был ранен.
Но эта боль заставила его вспомнить все или почти все. Рать воеводы и князя Юрия Борятинского из Казани подоспела к Симбирску в то время, когда симбирский воевода, боярин Иван Милославский, истомленный почти месячным сиденьем в облоге от воров, уже хотел было сдаться – отворить ворота в кремль. Разин с казаками и татарами стремительно бросился на царское войско. Завязалась отчаянная борьба…
Воин все вспомнил, но это был какой-то ад… Гром пушек, гиканье налетавших на них казаков, аллалаканье татар, вышедших с топорами и рогатинами, – все это смешалось в какой-то страшной картине…
Лично он вспомнил, как на то крыло, где он находился, ударили татары под предводительством мурз Багая и Шелмеско; потом в середину лавы врезался сам Разин с тремя запорожцами… Запорожцы узнали его, он узнал их… Но тут все смешалось в его уме: мелькнул белый конь под Разиным, готовый, кажется, раздавить Воина; но Воин махнул саблей и угодил в голову Разину… Больше он ничего не помнит.
Теперь Воин осмотрелся кругом сознательно. Да, это не сон, и то не был сон.
Около его постели опять стояли старый инок и цыганка в монашеском одеянии. В первом он узнал бывшего полонянина Варсунофия, которого он выкупил в Венеции.
– Ты как сюда, старче, попал? – спросил его Воин, все еще смутно сознавая свое положение.
– К тебе, батюшка Воин Афанасьич, приплелся я с Москвы, – отвечал старик, – тебе отслуживать за мою волю, што ты дал.
– Как же ты узнал, что я здесь?
– Я за тобой, батюшка, с самой Казани. Воин недоумевающе посмотрел на монашенку.
– А меня прости Христа-ради, батюшка Воин Афанасьич, за Казань, – сказала она, низко кланяясь. – Я не цыганка: я старица Ираида из Новодевичьей обители.
– Для чего ж ты в Казани цыганкой прикинулась? – спросил Воин с удивлением.
– Так, батюшка, приказала Наталья Семеновна, – отвечала монашка.
– Моя жена?
– Она самая, батюшка.
– А для чего? – еще с большим удивлением спросил Воин.
– Ее спытай, батюшка: ее это воля была, – отвечала монашка. – Для-ради ее супокою мы вот с Варсунофьюшком и пошли искать тебя, потому – нас, людей божьих, старцев, кому охота обижать? А пошли она гонца с грамоткою, и по нонешнему времячку ему бы не сносить своей головы: ноне и царских гонцов по дорогам воры вешают. А мы што? – мы та же каличь, нишшая братья убогая, с нас нечего взять. А мы-то с Варсунофьюшком в бродячем деле дотошны: он, сам ведаешь, с самой бусурманской веры, да с Шпанской земли доплелся до белокаменной; а я, родимый, с той самой поры, как нас с инокиней Надеждой, што ноне твоя благоверная, отпустила мать игуменья из Новодевичья за мирским сбором и как инокиня Надежда из Успенского собору ушла к тебе, – с той поры я все брожу по свету, по угодничкам: и киевским угодничкам маливалась, и самого етмана Брюхатого видала, и соловецким угодничкам, Зосиме-Савватею, маливалась же, да и у казанских чудотворцев, у Гурия и Варсунофея, святые раки лобызала. Там мы с Варсунофьюшком и тебы, соколика, сустрели, да за тобою как псы верные и сюда прибрели. А все для-ради супокою матушки Натальи Семеновны. И цыганкой-то я обернулась для-ради ее же благополучия. А ноне вот Бог привел и за тобой походить. Как это пришел под Синбирской с ратными людьми с Казани князь Борятинский, – и ты, батюшка, с ним же пришел, да как учинился у вас смертный бой с вором и антихристом Стенькой, – с утра до ночи бой шел, а мы ни живы, ни мертвы ждем, чем кончится, – коли к ночи слышим: побили-де царские рати вора Стеньку наголову, и сам-де он бежал в малом числе, и голова-де у него перевязана – саблей рассечена, и рассек-де его, сказывают, Воин Ордин-Нащокин, а сам-де Воин убит лежит. Как услыхали мы это, батюшка Воин Афанасьич, что ты мертв лежишь, мы и света божьего за слезами не взвидели. Коли слышим: жив-де еще Ордин-Нащокин, токмо зело порублен. И велел тогда воевода и боярин Иван Михайлович Милославский снести тебя, голубчика, к нему в палаты, и лекаря к тебе приставил, а нас – во хожалок место. И был ты все без памяти который день, а ноне вон божиим изволением в себя пришел.
Монашка радостно при этом перекрестилась на иконы. Перекрестился и старик Варсунофий.
– Так вор Стенька, сказываете, разбит? – спросил Воин с просветлевшим взором.
– Разбит начисто, батюшка Воин Афанасьич, – в один голос отвечали старица и старец, – и тою же ночью бежал.
– Бегу яся, нИ солоно хлебавши, – добавил Варсунофий, – а клевреты его, што не успели бежать, вон все висят на виселицах вдоль берега, – ишь какое ожерелье изнавешано их! – И старик показал рукою в окно.
– И запорожцев повесили, тех, что с тобой вместе, батюшка, в столовой избе у государевой руки были – Гараську, да Пашку, да Мишку, – добавила старица Ираида.
– Да и татарские мурзы Багай да Шелмеско, што государю челом били на государевых воевод, – и они повешены ж, – присовокупил Варсунофий. – А этот мурза Багай, сказывали, мало не заколол боярина и воеводу Ивана Михайловича Милославского: мы, – говорит, – помираем голодною смертью, с наготы да с босоты, а вы, говорит, вон какие жирные, – дак его ратные люди с коня сбили и связали, а ноне вон он болтается у самой Волги, што твоя колода.
В это время в опочивальню, в которой лежал раненый Воин, вошел пожилой мужчина с окладистой бородой и широкой лысиной ото лба. На нем было богатое боярское одеяние.
– Ба-ба-ба! – весело заговорил вошедший. – Да кажись наш богатырь Илья Муромец в добром здоровье?
– Спасибо, боярин Иван Михайлович, – по милости божьей, сам видишь, я очнулся, – отвечал Воин.
Вошедший был боярин и воевода симбирский Иван Михайлович Милославский.
– Слава Богу, слава Богу! – продолжал боярин. – Надо тотчас же еще гонца послать – родителя и супругу твою порадовать весточкою, што ты в себя пришел наконец. Да и великий государь рад будет такой вести: вить ты саблей огрел вора прямо по башке – зело добре назнаменовал!.. Может, от твоего знаменья он, вор Стенька, и плечи нам показал: бежал, аки тот Святополк Окаянный [78]78
Святополк Окаянный (ок. 980–1019) – русский князь. сын Владимира Святославича, после смерти которого (1015 г.), борясь за княжение в Киеве, Святополк убил своих братьев Бориса, Глеба и Святослава; за эти предательские убийства он и получил прозвище Окаянного.
[Закрыть].
– А где воевода князь Юрий? – спросил Воин.
– Да все еще монистом своим занят, – с улыбкой отвечал Милославский.
– Каким монистом, боярин? – удивился Воин.
– Да вон воров нанизывает на веревки – шутка ли, боле шестисот зерен жемчугу бурмицкого нанизал уж на свое монисто… Самые крупные зерна у него – три запорожца, што еще с Брюховецким воровали, да двое мурзишек татарских, Багайка да Шелмеско, кои всю татарву да черемису на нас подняли, – знатное монисто! – есть чем похвастать князь Юрью… А не подоспей он – я бы попал в монисто к вору Стеньке… Никто как Бог!
XXXVII. Эпилог
В Грановитой палате, в столовой избе, у великого государя с боярами сиденье. Тут же и святейший патриарх Иосиф с освященным собором.
Великий государь и святейший патриарх и бояре думают: великая смута и крамола охватила всю русскую землю; все низовые города взяты вором на копье; воеводы, дети боярские и служилые люди прияли от злодеев наглую смерть; царские рати либо осилены вором и побиты, либо передались злодею; замутилась вся русская земля, и что будет дальше – Богу ведомо…
Ниоткуда – ни луча надежды…
Как быть? что умыслить? где набрать столько ратей?
Великий государь сам думает идти чинить промысл над крамольниками… Но с кем? где его воеводы? Все они оказались бессильными…
Отвратил Создатель лицо свое от людей своих… За чьи грехи?…
«Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в мори далече!» – шепчет святейший патриарх, поднимая глаза к лику Спасителя.
Дьяк Алмаз Иванов, угрюмо уставившись в какую-то бумагу, прислушивается, кажется, как за окном ворона каркает…
Думают бояре – есть им о чем подумать! – на них идет эта страшная буря: а кто их укроет? Ромодановский, Шереметев, Борятинский, Долгорукий? Но от них нет вестей; да и гонцы их все погибают в пути – всех ловят и убивают крамольники.
Вон как постарел Алексей Михайлович за этот год… И сколько потерь: жену потерял, дочь и двух сыновей похоронил… «И бе дом его пуст»…
Слышатся подавленные вздохи да карканье вороны за окном…
И на крыльце, где обыкновенно собирались стольники, стряпчие и дворяне, теперь не слышно «шумства» и споров; напротив, испуганным шепотом передают собравшиеся один другому, что будто бы уж и Симбирск взят и выжжен, взята и разорена Казань, Лысково, Нижний, Темников, Корсун, Саранск, оба Ломова, Пенза, Арзамас – все в руках у злодеев, – что все холопи и крестьяне разбежались, режут и вешают господ, жгут боярские усадьбы, – что хлеба в полях потопчены, потравлены или выжжены, – что скоро страшный атаман, которого ни пуля, ни сабля не берут, нагрянет в Москву… Куда деваться?.. где спасение?..
Алексей Михайлович ждет совета от святейшего патриарха, на него вопросительно поглядывает – не вразумит ли его Господь?
А святейший патриарх только шепчет, глядя на лик Спасителя: «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в мори далече»…
И Он услышал!..
Там, на крыльце, или на дворе, пронесся вдруг ропот не то изумления, не то испуга:
– Гонец!.. гонец пригнал!.. с какими вестями?..
И столовая изба вся встрепенулась – точно шум ветра прошел по ней…
Глаза у всех уставлены на дверь – ожидание, томление, испуг…
«Услыши ны, Боже!..»
Гонец в дверях – едва переступает порог, он бледен, шатается он, кажется, скоро грохнет на пол… Он ничего не видит – ни царя, ни бояр…
– Поддержите… он упадет…
Бояре его поддерживают… Он силится говорить…
– Великий государь!.. воевода князь Юрий… твои государевы рати… вора Стеньку… и его толпища… разбили наголову…
Крик радости вырвался из сотни грудей. Все крестились…
– Самого вора Стеньку… Воин Ордин-Нащокин… саблею посек в голову… а Воина изрубили…
Гонец не договорил. От Симбирска до Москвы он загнал семь лучших коней – не спал и не ел во весь путь…
Гонца увели, он потерял сознание…
Все оглянулись на старого Ордина-Нащокина, который сидел недалеко от царя: по лицу старика текли слезы – слезы скорби и радости.








