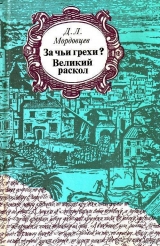
Текст книги "За чьи грехи?"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Даниил Лукич Мордовцев
За чьи грехи?
Повесть из времен бунта Разина
I. Царское сиденье
В Грановитой палате [1]1
Грановитая палата (1487–1491) Московского Кремля служила местом торжественных церемоний и посольских приемов. Стены и своды палаты были расписаны на сюжеты библейской и русской истории. Колокольня Ивана Великого построена в Кремле в 1600 г., считалась самым высоким зданием Москвы, ее высота до креста была 38,5 сажени (порядка 81 м). Алексей Михайлович (1629–1676), второй царь (1645–1676) из династии Романовых; от первого брака с Марьей Ильиничной Милославской имел детей Федора, Ивана и царевну Софью (1657–1704), правившую (1682–1689) страной при совместном царствии брата Ивана V и Петра I (1672–1725), сына Алексея Михайловича и его второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной. Фаворитом Софьи был князь Василий Васильевич Голицын (1643–1714), дипломат и гос. деятель, предпринимавший дважды (1687 и 1689) неудачные походы против крымского хана. В 1689 г. Софья была низложена Петром I, позднее пострижена в монахини и заточена, а Голицын сослан в Архангельский край.
[Закрыть], в столовой избе, у великого государя с боярами «сиденье».
Это было 5 мая 1664 года.
С раннего утра, которое выдалось таким ярким и теплым, обширная площадь около дворца запружена каретами, колымагами и боярскою дворовою челядью с оседланными конями в богатой сбруе. Экипажи и кони принадлежат московской знати, нахлынувшей во дворец к царскому сиденью: обширное постельное крыльцо, словно маковое поле, пестрит цветною и золотою одеждою площадных стольников, стряпчих и дворян московских.
Эта пестрая и шумная толпа поминутно расступается и поклонами провожает знатных и близких бояр, которые через постельное крыльцо проходят прямо в царскую переднюю. Это уже великая честь, до которой стольникам, стряпчим и дворянам высоко, как до креста на колокольне Ивана Великого.
Но и передняя уже давно полна: кроме бояр, в ней толпятся, по праву, окольничие, что удостаиваются великой чести быть иногда «около» самого государя, равнодумные дворяне и думные дьяки.
Наконец, в самой столовой избе, в «комнате», – высшая знать московская, самые сановитые бородачи. Тут же и великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец. Он сидит в переднем углу, на возвышении со ступенями. Под ним большое золоченое кресло. Столовая изба так и блестит золотом и серебром изящной, а чаще аляповатой московской работы: на одном окне, на золотом бархате, красуются рядом четверо серебряных часов-курантов; у того же окна – серебряный стенной «шандал»; на другом окне – большой серебряник с лоханью, а по сторонам его – высокие рассольники; на третьем окне, на золотом бархате – другой серебряный рассольник да серебряная позолоченная бочка, «мерою в ведро». На рундуке, против государева места, и на ступенях постланы дорогие персидские ковры; около столпа, упирающегося в потолок столовой избы, – поставец: на нем ярко горят под лучами весеннего солнца всевозможные драгоценные сосуды – золотые, серебряные, сердоликовые, яшмовые.
Едва царь уселся в кресло, как на постельном крыльце произошло небывалое смятение. Послышался смешанный говор, из которого выделялись отдельные голоса:
– Хохлы! хохлатые люди едут!
– Это черкасы, гетмановы Ивана Брюховецкого [2]2
Иван Мартынович Брюховецкий (ум. 1668), кошевой запорожских казаков, с 1663 г. гетман Левобережной Украины, ведя непрерывные войны с поляками и своими политическими соперниками на Украине, неоднократно посылал в Москву просить помощи. Низовой называлась часть Украины с Запорожской Сечью (в низовьях Днепра). «Тишайший» – устойчивый, почти титулярный эпитет Алексея Михайловича (о его сложном значении см.: Панченко А. М., Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984, с. 7–9). Вопреки историческому значению позднее этот эпитет был переосмыслен как характеристика мягкого нрава царя; отчасти это отразилось и в изображении Алексея Михайловича у Мордовцева.
[Закрыть]посланцы на отпуск к великому государю.
– Смотрите! смотрите! каки усищи!
– И головы бриты, словно у татар.
– Только у татар хохлов нету, а эти с хохлами. Действительно, из-за карет и колымаг, запружавших дворцовую площадь, показалась небольшая группа всадников. Это и были гетманские посланцы, всего пять человек. Их сопровождал стрелецкий сотник, а почетную свиту их составляли три взвода стрельцов от трех приказов, только без пищалей, как полагалось по придворному церемониалу. Своеобразная, очень красивая одежда и вся внешность украинцев, столь редких в то время гостей на Москве, не могли не поражать москвичей. Высокие смушковые шапки с красными верхами, лихо заломанные к затылку и набекрень; выпущенные из-под шапок, словно девичьи косы, чубы-оселедцы, закинутые за ухо и спускавшиеся до плеч; длинные, ниспадавшие жгутами, черные усы; яркие цветные жупаны, отороченные золотыми позументами; такие же яркие, только других, еще более кричащих цветов шаровары, пышные и широкие, как юбки, и убранные в желтые и красные сафьянные сапоги с серебряными «острогами» и подковами, – все это невольно бросалось в глаза, вызывало удивление москвичей.
Посланцы сошли с коней и направились к постельному крыльцу.
– Потеснитесь малость, господа стольники и стряпчие! Дайте дорогу посланцам его ясновельможности гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого и всего войска запорожского низового, – говорил стрелецкий сотник, проводя посланцев чрез постельное крыльцо.
– Добро пожаловать, дорогие гости! – слышались приветствия среди толпившихся на крыльце.
Посланцы вступили в переднюю, а из нее введены были в столовую избу пред лицо государя. Их встретил думный дьяк Алмаз Иванов. Бояре, чинно сидевшие в избе и почтительно уставившие брады свои и очи в светлые очи «тишайшего», так же чинно повернули брады свои и очи к вошедшим. Полное, добродушное лицо царя и особенно глаза его осветились едва заметною приветливою улыбкой.
Посланцы низко поклонились и двумя пальцами правых рук дотронулись до полу. Это они ударили челом великому государю, по этикету. Но все молчали.
Тогда выступил Алмаз Иванов и, обратясь к лицу государя, громко возгласил:
– Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель! Запорожского гетмана Ивана Брюховецкого посланцы, Гарасим Яковлев с товарищи, вам, великому государю, челом ударили и на вашем государском жалованье челом бьют.
Посланцы снова ударили челом.
– Гарасим! Павел! – снова возгласил дьяк, обращаясь уже к посланцам. – Великий государь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованьем: тебе, Гарасиму, – атлас гладкий, камка, сукно лундыш, два сорока соболей да денег тридцать рублев.
Герасим ударил челом на государском жалованье и поправил оселедец, который, словно девичья коса, перевесился с бритой головы на крутой лоб запорожца.
– А тебе, Павлу, – продолжал дьяк, обращаясь к Павлу Абраменку, товарищу Герасима, – тебе – атлас, сукно лундыш, сорок соболей да денег двадцать рублев.
И Абраменко ударил челом.
– А вас, запорожских казаков (это дьяк говорил уже остальным трем запорожцам, стоявшим позади посланцев) и твоих посланных людей (это опять к Герасиму) царское величество жалует своим государским жалованьем от казны.
И остальные ударили челом.
Царь, сидевший до этого времени неподвижно в своем золотном одеянии, словно икона в золотой ризе, повернул лицо к Алмазу Иванову и тихо проговорил:
– Сказывай наше государское слово.
И дьяк возгласил заранее приготовленную и одобренную царем и боярами речь.
– Герасим! Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, велел вам сказати: приезжала есте к нам, великому государю, к нашему царскому величеству, по присылке гетмана Ивана Брюховецкого и всего войска запорожского с листом. И мы, великий государь, тот лист выслушали, и гетмана Ивана Брюховецкого и все войско запорожское, за их службу, что о нашей царского величества милости ищут, жалуем, милостиво похваляем и, пожаловав вас нашим царского величества жалованьем, велели отпустить к гетману и ко всему войску запорожскому. И посылаем с вами к гетману и ко всему войску запорожскому нашу царского величества грамоту. Да к гетману ж и ко всему войску запорожскому посылаем нашего царского величества ближнего стольника Родиона Матвеевича Стрешнева да дьяка Мартемьяна Бредихина. И как вы будете у гетмана, у Ивана Брюховецкого, и у всего войска запорожского, и вы ему, гетману, и всему войску запорожскому нашего царского величества милость и жалованье расскажите.
Проговорив это, Алмаз Иванов, по знаку царя, приблизился к «тишайшему» и взял из рук его грамоту, и тут же передал ее главному гетманскому посланцу, который, почтительно поцеловав ее и печать на ней, бережно уложил в свою объемистую шапку.
Затем дьяк, опять-таки по знаку царя, обратился снова к послам:
– Гарасим! Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас, посланцев гетмана и всего войска запорожского, к руке.
«Гарасько-бугай», как его дразнили в Запорожье товарищи за его воловью шею и за такое же воловье здоровье, тихо, но грузно ступая по полу своими желтыми сафьянными сапожищами с серебряными острогами, приблизился к ступеням, которые вели к государеву сиденью, осторожно поставил ногу на первую ступень, как бы боясь, что она не выдержит воловьего груза, потом на вторую и, перегнувшись всем своим массивным корпусом, бережно приложился к белой, пухлой, «як у матушки игуменьи» (подумал он про себя), выхоленной царской руке, словно к плащанице. За ним приложились и остальные посланцы. Только последний из них, Михайло Брейко, поцеловав царскую руку и почтительно пятясь назад, оступился на ступеньке и грузно повалился на пол у подножия государского сиденья.
– Оце лихо! николи с коня не падав, а тут, бачь, упав! – невольно вырвалось у него.
Наивность запорожца рассмешила «тишайшего», а за ним рассмеялась и вся столовая изба.
Молодец, однако, скоро оправился и стал на свое место, а дьяк Алмаз снова выступил с отпускной речью.
– Гарасим! – возгласил он. – Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованьем – в стола место корм.
Посланцы в последний раз ударили челом на государеве жалованье – на корму – и удалились.
– Какие молодцы! – весело сказал Алексей Михайлович, когда за казаками затворилась дверь. – С таким народом любо жить в братской приязни и любительстве.
В это время из-за широких боярских спин, с задней скамьи, поднимается стройный молодой человек и выступает на середину избы. Одежда на нем была богатая, изысканная, какую носила тогдашняя золотая молодежь. Из-под кафтана темно-малинового бархата ярко выделялся зипун из белого атласа с рукавами из серебряной объяри; к вороту зипуна пристегнута была высокая, шитая, разукрашенная жемчугом и драгоценными камнями «обнизь» – род стоячего воротника. Кафтан, скорее кафтанец, на нем был такой же щегольской: запястья у рукавов кафтанца были вышиты золотом, по которому сверкали крупные зерна жемчуга, а разрез спереди кафтанца и подол оторочены были золотною узкою тесьмою с серебряным кружевом; шелковые шнуры с кистями и массивные пуговицы с изумрудами делали кафтанец еще наряднее.
При виде нарядного молодого человека Алексей Михайлович приветливо улыбнулся. Тот истово ударил челом – по-божески: поклонился до земли и коснулся лбом пола.
– А – это ты, Иван Воин, – приветствовал его государь.
Молодой человек поднялся с полу и откинул назад курчавые волосы. Лицо его рдело от смущения, хотя он и ответил улыбкой на улыбку царя.
– На отпуск пришел? – спросил последний.
– На отпуск, великий государь, – был ответ.
Алексей Михайлович обратился к Алмазу Иванову.
– Все готово к отъезду?
– Все, государь, – отвечал дьяк, – все в посольском приказе.
– И грамоты к послам, и наша царская казна?
– Все, великий государь, как ты указал и бояре приговорили.
– Хорошо. Поезжайте же (Алексей Михайлович обратился к молодому человеку) – поезжай с Богом, да кланяйся от меня отцу. Простись со мной – и ступай с Богом.
Молодой человек поднялся к царскому сиденью и горячо поцеловал государеву руку. Алексей Михайлович поцеловал его в голову, как родного сына.
– Учись у отца служить нам, великому государю, – сказал он в заключение.
Молодой человек вышел из столовой избы весь взволнованный.
II. А соловей-то заливается!..
Вечером того же дня, с которого началось наше повествование, по одному из глухих проулков, выходивших к Арбату, осторожно пробиралась закутанная в теплый охабень высокая фигура мужчины. Легкая соболевая шапочка так была низко надвинута к самым бровям и ворот охабня так поднят и с затылка и выше подбородка, что лицо незнакомца трудно было разглядеть. По всему видно было, что он старался быть незамеченным и неузнанным. По временам он осторожно оглядывался – не видать ли кого-либо сзади. Но переулок, скорее проулок, был слишком глух, чтоб по нем часто могли попадаться пешеходы, особливо же в такой поздний час, когда Москва собиралась спать или уже спала.
Но северные весенние ночи – предательские ночи. Они не для тайных похождений: ни для воров, ни для влюбленных. Впрочем, глядя на нашего незнакомца, смело можно было сказать, что это не вор, а скорее политический заговорщик или влюбленный.
По обеим сторонам проулка, по которому пробирался таинственный незнакомец, тянулись высокие каменные заборы, с прорезями наверху, оканчивавшиеся у Арбата и загибавшиеся один вправо, другой влево. И тот, и другой забор составляли ограды двух боярских домов, выходивших на Арбат. При обоих домах имелись тенистые сады, поросшие липами, кленами, березами и высокими рябинами, только на днях начавшими покрываться молодою яркою листвой. Из-за высокой ограды сада, тянувшегося с правой стороны, по которой пробирался ночной гость, неслись переливчатые трели соловья. Незнакомец вдруг остановился и стал прислушиваться. Но не трели соловья заставили его остановиться: до его слуха донесся через ограду тихий серебристый женский смех.
– Это она, – беззвучно прошептал незнакомец, – видно, что ничего не знает.
Он сделал несколько шагов вперед и очутился у едва заметной калитки, проделанной в ограде правого сада. Он еще раз остановился и прислушался. Из-за ограды слышно было два голоса.
– Только с мамушкой… Господи благослови!
Тихо, тихо щелкнул ключ в замочной скважине, и калитка беззвучно отворилась, а потом так же беззвучно закрылась. Незнакомец исчез. Он был уже в боярском саду.
Русские женщины, особенно жены и дочери бояр XVI и XVII века, жили затворницами [3]3
Русские женщины… жили затворницами. В описании русского домашнего быта Мордовцев опирался как на собственные обширные изыскания, так и на современные ему исторические труды, в частности Н. И. Костомарова, «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях» которого содержал богатый материал по этому предмету. «Русская женщина была постоянною невольницею с детства до гроба. У знатных и зажиточных людей Московского государства женский пол находился взаперти, как в мусульманских гаремах. Девиц содержали в уединении, укрывая от человеческих взоров; до замужества мужчина должен быть им совершенно неизвестен; не в нравах народа было, чтоб юноша высказал девушке свои чувства или испрашивал лично ее согласия на брак» (Костомаров, кн. 8, с. 84–85)…свейские замки, т. е. шведские замки, использующие щеколдный засов; начали распространяться в России с конца XVII века. Ксения Годунова (ум. 1622), дочь царя Бориса Годунова: после воцарения в Москве Лжедмитрия (1605 г.) была пострижена в монахини под именем Ольги и сослана в Белозерский монастырь (позже переведена в Сергие-Троицкий). Ей приписывались лирические песни, известные по записям, сделанным для английского священника Ричарда Джемса, посетившего Россию в 1618–1620 гг. в составе английского посольства. Небольшой очерк о Ксении Годуновой Мордовцев включил в свою книгу «Русские исторические женщины. Популярные рассказы из русской истории. Женщины допетровской Руси» (Спб., 1874). Там же приводится и полный текст песни Ксении (с. 231–232).
[Закрыть]. Они знали только терем да церковь. Ни жизни, ни людей они не знали. Но люди – везде и всегда люди, подчиненные законам природы. А природа вложила в них врожденное, роковое чувство любви. Любили люди и в XVII веке, как они любят в XIX и будут любить в XX и даже в двухсотом столетии. А любовь – это божественное чувство – всемогуща: перед нею бессильны и уединенные терема, и «свейские замки», считавшиеся тогда самыми крепкими, и высокие каменные ограды, и даже монастырские стены!
А если люди любят – а любовь божественная тайна, – то они и видятся тайно, находят возможность свиданий, несмотря ни на какие грозные препятствия.
Недаром юная Ксения Годунова, заключенная в царском терему и ожидавшая пострижения в черницы, плакалась на свою горькую долю:
Ино мне постритчися не хочет.
Чернеческого чина не сдержати,
Отворити будет темна келья —
На добрых молодцов посмотрити…
Хоть посмотреть только! Да не из терема даже, а из монастырской кельи…
– Воинушко! свет очей моих! – тихо вскрикнула девушка, когда, сбросив с себя охабень и шапку, перед нею, словно из земли, вырос тот статный молодой человек, которого утром мы видели в столовой избе и которого царь Алексей Михайлович назвал Иваном Воином.
Девушка рванулась к нему. Это было еще очень юное существо, лет шестнадцати – не более. На ней была тонкая белая сорочка с запястьями, вышитыми золотом и унизанными крупным жемчугом. Сорочка виднелась из-за розового атласного летника с широкими рукавами – «накапками», тоже вышитыми золотом с жемчугами.
– Вот не ждала – не гадала…
Пришедший молчал. Он как будто боялся даже заговорить с девушкой и потому обратился прежде к старушке-мамушке, вставшей со скамьи при его появлении.
– Здравствуй, мамушка, – тихо сказал он.
– Здравствуй, сокол ясный! Что давно очей не казал?
Пришедший подошел к девушке. Та потянулась к нему и, положив маленькие ручки ему на плечи, с любовью и лаской посмотрела в глаза.
– Что с тобою, милый? – с тревогой спросила она.
– Я пришел проститься с тобой, солнышко мое! – отвечал он дрогнувшим голосом.
– Как проститься? Для чево? – испуганно заговорила девушка, отступая от него.
– Меня государь посылает к батюшке и к войску, – отвечал тот.
Девушка как подкошенная молча опустилась на скамью. С розовых щечек ее медленно сбегал румянец. Она беспомощно опустила руки, словно плети.
Теперь она глядела совсем ребенком. Голубые ее с длинным разрезом глаза, слишком большие для взрослой девушки, смотрели совсем по-детски, а побледневшие от печали губки также по-детски сложились, собираясь, по-видимому, плакать вместе с глазами.
– Для тово я так давно и не был у тебя, – пояснил пришедший, – таково много было дела в посольском приказе.
Девушка продолжала молчать. Губы ее все более и более вздрагивали. Пришедший приблизился к ней и взял ее руки в свои. Руки девушки были холодны.
– Наташа! – с любовью и тоской прошептал пришедший.
Девушка заплакала и, высвободив свои руки из его рук, закрыла ими лицо.
– Наташа! – продолжал он с глубокой нежностью. – Если ты любишь меня…
При этих словах девушка быстро встала как ужаленная…
– А ты этого не знал? – глухо спросила она, вся оскорбленная в своем чувстве этим «если».
– Прости, радость моя! Мое сердце кровью исходит, ум мутится, – быстро заговорил пришедший, – сил моих нету оторваться от тебя… Коли ты любишь, ты все сделаешь.
Девушка вопросительно посмотрела на него. Но он, по-видимому, не решался продолжать и стоял, потупив голову, словно бы прислушиваясь к соловью, который изливал свою безумную любовь в страстных трелях любовной мелодии.
– Наташа! обвенчаемся ныне же, сейчас! – и поедем вместе к батюшке! – вырвалось у него признание, как порыв отчаянья.
Девушка, казалось, не поняла его сразу. Только глаза ее расширились.
– Я уже и священника знакомого условил, – продолжал пришедший, – я уже совершенен возрастом – могу делать, что Бог на душу положит; а мне Бог тебя дал, сокровище бесценное! Мы обвенчаемся и поедем к батюшке – он благословит нас: он знает тебя.
Безумная радость блеснула в прекрасных глазах девушки, но только на мгновенье. Русая головка ее, отягченная огромною пепельного цвета косою, опять беспомощно опустилась на грудь.
– А мой батюшка? – с тихим отчаяньем прошептала она, – как же без батюшкова благословенья?
– Твой батюшка опосля благословит нас.
Девушка отрицательно покачала головой.
– Бежать отай из дому родительского… отай венчаться без батюшкова – без матушкова благословенья… да такого греха не бывало, как и свет стоит, – говорила она словно во сне.
Молодой человек опять взял ее холодные руки.
– Не говори так, Наташа. Вон в польском государстве – сказывал мне мой учитель, из польской шляхты – в ихнем государстве молодые барышни всегда так делают: отай повенчаются, а после венца прямо к родителям: повинную голову и меч не сечет. Ну – назад не перевенчаешь – и прощают, и благословляют. Так водится и за морем, у всех иноземных людей.
Девушка грустно покачала головой.
– Али я бусурманка? али я поганая еретичка? – тихо шептала она. – Беглянка – сором-от, сором-от какой! Как же потом добрым людям на глаза показаться? Да за это косу урезать мало – такого сорому и греха и чернеческая ряса не покроет.
– Наталья! не говори так! – недовольным голосом перебил ее молодой человек. – Это все московские забобоны – это тебе наплели старухи да потаскуши-странницы. Мы не грех учиним, а пойдем в храм Божий, к отцу духовному: коли он согласен обвенчать нас – какой же тут грех и сором?.. А коли и грех, то на его душе грех, не на нашей. Ты говоришь – сором! – сором любить, коли сам Спаситель сказал: «Любите друг друга, любитесь!» Но сором ли то, что мы с тобою любилися в этом саду, аки в раю, сердцем радовалися! Ах, Наташа, Наташа! ты не любишь меня…
Девушка так и повисла у него на шее.
– Милый мой! Воин мой! свет очей моих! я ли не люблю тебя!
– Ты идешь со мной?
– Хоть на край света!
– Наташа! идем же…
– Куда, милый? – не помня себя, спохватилась девушка.
– В церковь, к венцу.
– К венцу! – Девушка опомнилась. – Без батюшкова благословенья?
– Да, да! ноне же, сейчас, со мной, с мамушкой!
– Нет! нет! – И девушка в изнеможении упала на скамейку.
Молодой человек обеими руками схватился за голову, не зная, на что решиться.
А соловей заливался в соседних кустах. Песня его, счастливая, беззаботная, рвала, казалось, на части сердца влюбленных. Мамушка сладко спала на ближайшей скамье, свесив набок седую голову.
– Наташа! ласточка моя! – снова заговорил молодой человек, нагибаясь к девушке и кладя руки на плечи ей. – Наташечка!
– Что, милый? – как бы во сне спросила она.
– Всемогущим Богом заклинаю тебя! святою памятью твоей матери молю тебя! будь моею женой – моим спасеньем.
– Буду, милый мой, суженый мой!
– Так идем же – разбудим мамушку.
– Нет! нет! не тяни моей душеньки! Ох, и без того тяжко… Владычица! сжалься.
– Так нейдешь?
– Милый! суженый – о-ох!
– Последнее слово – ты гонишь меня на прощанье?
– Воинушко! родной мой! не уходи!
Девушка встала и протянула к нему руки. Но он уклонился с искаженным от злобы лицом.
– О! проклятая Москва! ты все отняла у меня… Прощай же, Наталья, княженецка дочь! – словно бы прошипел он. – Не видать тебе больше меня – прощай! Жди другого суженого!
И, схватив охабень и шапку, он юркнул в калитку и исчез за высокой оградой.
Девушка протянула было к нему руки – и упала наземь, как подрезанный косою полевой цветок.
А соловей-то заливается!..








