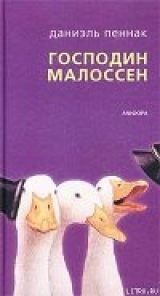
Текст книги "Господин Малоссен"
Автор книги: Даниэль Пеннак
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
54
МОЙ ПРИГОВОР
Если существует рекорд по быстроте вынесения решения суда, то я его побил.
4 минуты 31 секунда, засчитано!
271 секунда, и все они отмерены биением моего сердца.
Надежда!
Надежда…
О чем мы говорим?
Ты возвращаешься домой, твоя любимая вот уже десять лет как ушла. Ушла и забрала с собой твое сердце, твою мебель, твой ковер и твоего лучшего друга. И уже прошло десять лет. Первые четыре года ты каждый вечер омывал ноги в собственных слезах. Но время идет… Десять лет. Ножные ванны остыли, слезы испарились, сердце набило свою кубышку новыми переживаниями… Итак, ты возвращаешься в свой дом, где другая уже переделала все заново. Десять лет прошло. Здравствуй, дорогая, здравствуй, любимый. Неспешно пропустишь стаканчик аперитива. Лениво отужинаешь. Но вот звонок в дверь. Твое сердце выскакивает тебе в тарелку, потом по столу, со стола на пол, ты не можешь его удержать, оно рвется открыть. А вдруг это она? Вдруг это она?!
Надежда…
Вот ты на больничной койке. Твое тело давно уже растеклось по подставленным лоханям, твоя энцефалограмма – ровнее не бывает, от тебя остался один нос на подушке. Белые халаты рассматривают твой нос. Белые халаты не верят своим глазам: ноздри дрожат! Нос еще внушает надежду!
Надежда…
Вот политиканствующий сброд гоняется за мандатами, чтобы набить себе карманы. Опять придется выбирать из одних и тех же, бесстыжих, неистребимых, уморительных до ужаса, и все же ты идешь туда, ты выбираешь одно из этих имен, твой бюллетень на секунду замирает в сомневающейся руке, остановившейся над щелью, но ты наконец отпускаешь свой голос, который вопит, падая в душную ночь урны…
Надежда…
Говорят: безумный, как надежда…
Вот ты перед судом присяжных тяжелым грузом в двадцать один пункт обвинения на шее. Иудейский осел, приседающий под тяжестью всех грехов мира! Ни одного смягчающего обстоятельства. Газеты окрестили тебя чудовищем века. По сравнению с тобой Джек Потрошитель – образцовый зять. Ты кошмар всех семей, сеющий ужас в человеческом сердце, абсолютное зло, более древнее, чем этот мир. Адвокаты торопились отделаться от тебя, как будто наглотались слабительного. После обвинительной речи, присяжные готовы сожрать тебя на месте. Они удалились с быстротой разбегающегося прыгуна.
И все же ты надеешься!
В конце концов, ведь ты невиновен.
Найдется же среди них хоть один праведник, который возопит об этой невиновности!
Ты всегда верил в существование праведников.
Или вдруг в последнюю минуту появится новый свидетель.
Пробуждение совести.
Победившая правда!
Это не он сделал, это я!
Ты надеешься…
Каждая секунда процесса подталкивала тебя к краю, каждое слово рыло яму у тебя под ногами, молчание твоего адвоката висело надгробной плитой над развернувшимися прениями. Ты прекрасно знаешь, что надгробные плиты ненадолго зависают в воздухе. Ты это знаешь.
И все же ты надеешься…
В коридоре, где ты ждешь вынесения приговора, тебя охраняют два жандарма с деревянными лицами. Интересно, они тоже ждут? Считают секунды? Ты смотришь на них украдкой. На что надеется военный? Сержант надеется стать старшим сержантом, лейтенант – старшим лейтенантом. Простая армейская мудрость. Порции надежды, отмериваемые автоматическим распределителем карьеры. А на что надеется маршал Франции, проглотивший последнюю порцию? Маршал надеется попасть в Академию. Ибо только бессмертные академики свободны от пут надежды.
Сколько всяких глупых мыслей может набиться в голову за 271 секунду безумной надежды…
Глупых и бесполезных, если только задуматься, что происходит в это время в зале, где обсуждается решение суда.
Присяжные вернут мне мою свободу, вот все, на что я надеялся. Это хорошие люди, которых сбили с толку адвокаты, но председатель их образумит. Он-то на своем веку повидал настоящих преступников! Он сможет отличить виновного от Малоссена. Он ведь знает, что самые лучшие адвокаты, защищая вас или обвиняя, ратуют лишь за себя! Он, председатель суда, знает этих коммерсантов от адвокатуры! Он прекрасно знает, что никто не может быть виновным до такой степени ! Он серьезный человек, господин председатель, может быть, он и есть тот праведник…
Сидя на своей скамье, я с закрытыми глазами вручал весь капитал своей надежды председателю этого суда. Я даже не просил с него процентов. Пусть он только вернет мне свободу, ничего больше. Не так уж это и много! Кому она нужна, моя свобода? Пес-эпилептик, сторожащий семейку чокнутых, – вот и все богатство, что я прошу мне вернуть. К тому же попробуй узнай, во что эти поганцы превратят мою свободу, если меня долго продержат вдали от них. Стоило бы подумать о спокойствии общества. (Прошу прощения у Общества.) Этой стороной проблемы нельзя пренебрегать, господин председатель. Меня следует немедленно отправить в мои пенаты. Это лучшая услуга, какую вы можете оказать Обществу. Осуждать, осуждать, вечно осуждать, а кто о будущем побеспокоится, наконец? На что будет способна Верден, если она вырастет без меня? Вы не задавались подобным вопросом, господин председатель? А я – да! Вы видели, как Верден появилась на свет? А я видел! Нет, в тот год моя мать подарила нам не ребенка, а пороховую бочку! Атомную бомбу, которая грохнет под вашим же августейшим задом, если вы оставите ее без моего присмотра… Да выпустите же меня отсюда, черт бы вас всех побрал!
Что-то умоляло, сидя у меня в голове, умоляло и угрожало… угрожало и ныло: это не я, это не я… ну вы же прекрасно понимаете, что это не мог 6ыть я !
271 секунда…
Красная лампочка замигала над дверью.
– Рекорд побит, – сказал охранник, стоявший справа.
– Поздравляю, – отозвался тот, что слева.
– Идемте, – сказал правый.
– Пора платить по счетам, – добавил левый.
***
Как они все ждали моего появления в зале суда! Они глядят и не могут наглядеться на меня – убийцу. Начиная с моей обыкновенной вислоухой головы и заканчивая моей повинной головой под мечом приговора, считая все превращения моего котелка с каждым новым этапом судебного заседания, они, запасшись терпением, ждут, требуя лишь одного: голову убийцы! Они выискивают в ней отличия с той же ненасытностью, с какой ищут черты сходства в маленьком клубочке новорожденного.
Именно такое выражение я заметил на лицах присяжных, вновь оказавшись на своем месте: девять лиц, склонившихся над колыбелью моей чудовищности. Этот не наш. Мы не такие, как он. Эта зверушка не нашей породы… И бесчисленный взгляд из зала суда подтверждал это.
– Обвиняемый, встаньте.
Жандарм слева слегка подтолкнул меня локтем. Тот, что справа, подтолкнул взглядом.
Я встал.
– После совещания суд присяжных на первый пункт обвинения ответил «да»…
Мне понадобилось некоторое время, чтобы уяснить себе смысл трех вопросов, заданных судом моим присяжным заседателям, но, в конце концов, я все-таки понял:
Господа присяжные заседатели признают меня виновным во вменяемых мне в вину преступлениях?
– Да.
Совершил ли я их умышленно?
– Да.
Смягчающие обстоятельства?
– Никаких.
Вот на что они потратили двести семьдесят одну секунду моей надежды. По залу пронесся ропот, который тут же был пресечен стуком председательского молотка.
Последний акт.
Приговор!
– В соответствии с вышеизложенным суд приговаривает вас к пожизненному заключению и тридцати годам принудительных работ без права на пересмотр сроков наказания.
Взрыв всеобщей радости. Я никогда еще не доставлял такого удовольствия стольким людям сразу. Четырнадцатое Июля, ни больше ни меньше! Только салюта не хватает. Все обнимаются. Все, сколько их есть, радуются избавлению от зла. Аллилуйя!
Последняя картина, оставшаяся у меня в памяти от этого празднества, – лицо председателя, на которого я возлагал все свои надежды. Вытянувшись в мою сторону, не переставая яростно молотить по своей деревянной наковальне, он орал, стараясь перекричать поднявшийся гам:
– Считайте, что вам повезло, что вы – француз, Малоссен, в Соединенных Штатах вам бы присудили три тысячелетия! Или маленький укольчик!
XIII. ВСЕ КЛАДБИЩЕ ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ
«Чертов фильм, – пробурчал Марти, – все кладбище только о нем и говорит!»
55
– Не хочу! – орет Малыш. – Убери это сейчас же!
Слезы хлынули рекой у него из глаз так внезапно, что он вымок до пояса, прежде чем подумал, что надо бы их утереть.
– Подожди!
– Не буду ждать, не буду, не буду! Убирай сейчас же!
– Но это еще не конец!
– Мне плевать! Убирай! Убирай, говорю! Порви!
– Да все будет хорошо, вот увидишь! Конец будет что надо! Как в театре!
– Вовсе нет! Какой еще театр? Его же приговорили!
– А мы поможем ему сбежать! Я придумал классную штуку!
– Все равно его приговорили!
– Малыш прав, – вмешивается Тереза. – И, если хочешь знать мое мнение, я нахожу это гадким, впутывать Бенжамена в такую историю.
– Засунь его, знаешь куда, свое мнение!
– Жереми, потише, – сказала Клара, – не разговаривай с Терезой таким тоном.
– Она меня достала, ваша Тереза! Только масла в огонь подливает! Всегда! Посмотри на нее! Тоже мне, Святая Справедливость!
И правда, сидя там, наверху, на второй полке двухъярусной кровати, в жесткой прямоугольной рамке накрахмаленной ночной рубашки, устремив осуждающий взгляд на Жереми, Тереза являет собой аллегорию Правосудия, все та же неизменная модель.
– Можешь говорить что угодно, но в символических категориях все это выглядит весьма подозрительно… то, что ты делаешь со своим старшим братом.
– Да ничего я с ним не делаю ! Я просто рассказываю ! Ты понимаешь разницу или нет?
– А Малыш? Ты думаешь, он понимает разницу?
Малыш заливался в три ручья. Это уже не просто горе. Это настоящий прорыв дамбы.
– А Верден? Ты думаешь, она поймет разницу, когда подрастет?
Верден будто только и ждала, когда Тереза даст зеленый: разом распахивает горящие пламенем глаза и пасть кипящего вулкана. Прорвавшееся наружу глубинное бешенство пробуждает Превосходного Джулиуса, чьи завывания перекрывают весь оркестр. Не хватает только ритмического сопровождения соседских швабр, отбивающих такт по батареям, – а, вот и они! – и непременных истерических вокализов во дворе – началось.
– Ладно, я понял! Понял я! Понял! Мстительным пинком Жереми отталкивает свой табурет рассказчика в угол и швыряет исписанные листы в лицо Терезе. Он бросается вон, хлопнув дверью. Хоть улыбка Это-Ангела и призывает всех не обращать внимания на это происшествие, я все же считаю, что пришло время вмешаться.
– Клара, – говорю я, вставая, – постарайся удержать, что осталось, а я побежал за Жереми, пока он не бросился на рельсы метро.
***
Я нашел его на кухне; он сидел, уронив на руки свою несчастную голову проклятого поэта, среди грязных тарелок, яблочных очистков и прочих свидетельств беспорядка, которые мы не успели убрать – так он торопился прочитать нам последние полсотни страниц, бедняга.
Я решил действовать открыто.
– Остынь, Рембо, и лучше помоги-ка мне с посудой.
Складывая тарелки в стопку, я спросил его:
– И как же заканчивалась твоя глава? Что это за эффектная развязка, которую ты придумал?
Стоит только хорошенько попросить автора, и его печаль как рукой снимет. Он объяснил мне в двух словах, собирая столовые приборы.
– Когда председатель произнесет свою последнюю реплику, ты помнишь: «Считайте, что вам повезло, что вы – француз, Малоссен…»
– Да: «…в Соединенных Штатах вам бы присудили три тысячелетия!»
– «…или маленький укольчик!» Точно. Так вот, как раз в этот момент я появляюсь за спиной у этого болвана, приставляю ему дуло к затылку, а в другой руке держу лимонку с сорванной чекой и приказываю жандармам отдать тебе свои пушки и лечь лицом вниз.
– Ух ты! А дальше?
– Дальше пока ничего. Я как раз на этом остановился. Полный провал, понимаешь?
– Понимаю.
Он ставит стаканы в раковину с тарелками и открывает кран. Ему нравится мыть посуду вместе со мной, особенно после моего выхода из тюрьмы. Он называет это «играть Баха дуэтом». Я намыливаю, он споласкивает и вытирает. По ходу дела обсуждаем, разговариваем о том о сем.
– Скажи мне честно, Бен.
– Да?
– Тебе нравится?
– Да.
– Ты говоришь так, чтобы мне было приятно?
– Я говорю, что думаю.
– Ты полагаешь, это хорошая мысль, посадить тебя в Шампронскую тюрьму?
– Это здорово, снова ощутить запашок дядюшки Стожила.
– Чтобы соблюсти единство места. А как тебе адвокаты?
– Лучше, чем настоящие.
– Тебе не кажется, что я немного… переборщил?
– Нет, очень правдоподобно. Откуда ты это знаешь, всю эту судейскую подноготную?
– От Забо, у нее там знакомые.
Забо… С тех пор как отняли «Зебру» и Королева Забо решила переделать драматурга в романиста, она носится с нашим Жереми как курица с яйцом! Он является к ней со своей писаниной через день. Королева с учеником уединяются в директорском кабинете и крепко спорят, не насмерть, конечно, но все же… Ученик отчаянно отстаивает свои позиции. Он легко сдает мелкие ошибки в орфографии, синтаксисе или, скажем, в композиции, уступает свои ребяческие выкрутасы и прочие погрешности невызревшего стиля, но сражается, как коммунар, за спасение каждого сантиметра запутанного сюжета. По мнению Королевы, он уж слишком загибает. Скрипит фломастер, щелкают ножницы, все издательство «Тальон» ходит ходуном от этой правки. Только и успевай прижиматься к стене в коридоре, пропуская вихрь обиды и несущийся ему вдогонку порыв утешения. Королева углубляет тематику, Жереми оттачивает патетику. Королева желает большей округлости стиля, Жереми настаивает на малоссеновской самобытности: «Бенжамен именно так и говорит, он нам так и рассказывает, больше того, он именно так и думает! Я-то его лучше вашего знаю!» – «Мыслить, говорить и писать – это разные вещи!», – возражает Королева, надавливая на перо и опираясь на доводы. Битва стилей, одним словом. Королева знает, чего хочет. И она этого добивается, повернув все так, чтобы Жереми продолжал считать автором себя. Самый юный романист Франции!
– А эта «мамочка-следователь», которая сдает тебя, потому что она, видите ли, слишком хорошо тебя понимает, что ты об этом думаешь?
– Забавная мысль. Твои фокусы?
– Это идея Забо. Думаешь, такое бывает?
– Материнский взгляд на вещи? Да, это существует. Осторожно, у тебя льется через край.
Он закрывает кран и на несколько секунд погружается в разглядывание раковины.
– Скажи мне правду, Бен, этот процесс, приговор, в них можно поверить?
– Я сам почти поверил.
– А ты сам, ты считаешь, что ты похож на себя в моем рассказе?
– Ты никогда себя до конца не узнаёшь, сам знаешь, но у меня такое впечатление, что главное ты ухватил…
В детской все стихло. Дверь тихонечко открывается, и появляется голова Клары. Она бросает на меня вопросительный взгляд, и я спешу успокоить ее гримасой. Дверь так же неслышно закрывается.
– Могу я задать тебе один вопрос, Бен?
Стоя все так же, с закатанными рукавами, облокотившись на раковину, Жереми являет мне свой профиль моралиста.
– Насчет того, что сказала Тереза… Думаешь, в романе можно все рассказывать?
***
Знаю, знаю, можно говорить все что угодно, но мы не имеем права таскать за собой читателя на протяжении восьми глав, а в конце объявить ему, что вся эта трагическая напряженность, чувство несправедливости, растущее с каждым словом, наконец, этот чудовищный приговор, – что все это просто шутка и на самом деле все было иначе. Подобные действия кардинальным образом подрывают доверие, за такие действия следовало бы наказывать. Например, показательным выбрасыванием рукописи за окно, это самое меньшее! Это правда, правда, моя вина, и притом огромнейшая! Но кто настолько смел, чтобы вмешаться и встать между Королевой Забо и ее автоматической кассой? Кто осмелился бы преградить дорогу Жереми, бурлящему творческой энергией? У кого хватило бы отваги помешать ему выдавать нам каждый вечер добрую порцию своего рассказа? Кто готов сложить свою голову на этот алтарь? Есть желающие? Пусть явится хоть один, я с превеликим удовольствием сдам ему ключи от лавочки.
И потом, что оно значит, это разочарование?
Что за ним кроется, в сущности? (Как говорит Тереза.)
Или все бы предпочли, чтобы меня осудили пожизненно по-настоящему? (Как говорит Малыш.)
Тридцать лет без права пересмотра?
Благодарствуйте.
Могу сказать только одно: большое спасибо.
Если даже те, кто полностью убежден в моей невиновности, желают меня потопить, что ж, тогда, и в самом деле, нужно признать, что и правда не все спокойно в нашем королевстве.
И здесь требуют цельности, надо же! Чем не присяжные! И ради этой цельности вы жертвуете невиновным… Лучше судебная ошибка, чем бессвязный сюжет, так?
Браво!
Еще раз, спасибо.
О наша хваленая гуманность…
***
И это не считая того, что вовсе не все в рассказе Забо-Жереми – неправда. Конечно, многое придумано, и как! Но здесь – и правда тоже, настоящая правда. Впрочем, разберемся по порядку.
1. Выдумка
Мое заключение в Шампронской тюрьме. Это неправда. Неистребимое желание Жереми покрыть наши несчастья благоуханной тенью Стожила, вот и все. Как мучительно не хватает нам сейчас благословенной тени нашего дядюшки Стожила!
Читатель предпочел бы описание арестантского дома, где я по-настоящему провел последние несколько месяцев? Поверьте, это совсем не так интересно, как может показаться. Эти места предварительного заключения не поддаются описанию. К тому же они в точности соответствуют тому представлению о них, которое само собой складывается у добропорядочных граждан. Там все пропадает. Даже желание описывать окружающее.
Итак, не было никакого Шампрона, ни Фосиньи. Не было также ни адвокатов, ни процесса, ни приговора. К тому же кто в такое поверит? Слишком неправдоподобно! Начальник тюрьмы, пристрастившийся к воспитательному садизму? Да что вы! Адвокаты-хамелеоны, столь же блистательные с одной стороны, как и с другой? Наговоры! Присяжные, отравленные средствами массовой информации? Вздор! Их мнение свободно и беспристрастно! Пощечина Правосудию!
Что же касается судебных ошибок… Где? У нас? Когда? А? Вы шутите… Это всё осужденные протестуют! Стоит ли им верить…
2. Правда
Зато настоящая правда состоит в том, что я долгие месяцы провел в тюряге, вдали от моих родных и от моей любимой.
Что дивизионный комиссар Лежандр из кожи вон лез, пытаясь пришить мне прежние дела, и чуть было в этом не преуспел, – это тоже чистая правда.
Правда также и то, что за мое пухлое дело взялся следователь – назовем его Кеплен. Полная серость, не за что зацепиться, обыкновенная следственная машина. И, если бы это зависело от него, процесс состоялся бы, и еще какой, пожизненное мне точно было бы обеспечено.
Также верно и то, что нашелся адвокат, который решился взвалить на себя мою защиту. Знакомый знакомых, молодой, начинающий, который – что прекрасно его характеризует – пожелал остаться неизвестным. Пользуюсь возможностью поблагодарить его. Он сделал все, что мог. Вы сделали все, что могли, мэтр. И это было нелегко.
Все это время, настоящее время заключения, я не считал ни недель, ни месяцев. Знаю только, что длилось это долго. По вечерам, сидя в камере, я утешался мыслью, что Жереми в этот ужасный час взял наше племя в свои руки. В часы свиданий в тюрьме он устраивал мне пробные чтения – надо же кому-то довериться, и возвращался домой с моим благословением: «Потрясающе, Жереми, замечательно! Так держать!» Надо сказать, что я немного сердился на Королеву Забо за то, что она подогревала в нем уверенность в собственной гениальности, притом полностью переписывая его тексты, но я успокаивал себя тем, что такова, в конце концов, жизнь…
Это было долго, однако это могло бы превратиться и в «бесконечно долго»…
Но верить в худшее – значит допустить, что мое племя представит, хоть на секунду, что я, невинный, сижу за решеткой. Верить в худшее – это вообразить себе мир, в котором бывшие комиссары Кудрие не приглядывают за своими зятьями. Верить в худшее – это не принимать в расчет Жервезу с ее черными ангелами и тамплиерами. Верить в худшее – это забыть, что Жюли никогда не сбегает просто так.
Верить в худшее – это согласиться на конец. Не дождетесь.
56
– Как? Мы уже больше не в театре?
– И ты тоже в деле?
– Кажется, Казо не доехал.
– Король послал меня за фильмом.
– Да? Это с фонариком, что ли? И без предупреждения?
– Мы думали, что вы уже свалили. Ведь так договаривались, или нет?
– Кто договаривался?
– Только тронь меня, все расскажу дочке вьетнамца!
– Держи его!
Инспектор Жозеф Силистри нажал на «стоп» как раз в том месте, где начинались тумаки.
– Ты узнаешь эти голоса?
– Мужские – да, а вот с девушкой сложнее.
– Ну и?
– Тот, что помоложе, это Клеман.
– А второй?
– Второй… знаете, я не хотел бы говорить глупости, но…
– Хочешь прослушать еще раз?
– Да, не помешало бы.
– Это Леман, – ответил Жереми. – Это голос Лемана. Я его узнаю.
Так инспектор Силистри и опознал голос Лемана: дав послушать запись Жереми Малоссену, «постановщику в пространстве» саги о семье Малоссенов.
– Ты уверен?
– На все сто.
Инспектор Силистри стал расспрашивать его об этом Лемане.
– Он зашибал в Магазине в то самое время, когда Бенжамен играл там в крайнего. Именно с Леманом Бен разыгрывал свой номер со слезами.
– Тот самый Леман, которого ты пригласил в свой спектакль играть самого себя?
– Да, поэтому-то Клеман и упоминает о театре.
– А имя Казо тебе о чем-нибудь говорит?
– Нет, ни о чем.
– А голос девушки? Совсем не узнаешь?
– Нет.
– Ну да ладно. Ты оказал неоценимую услугу своему брату.
– Его выпустят?
– Ну, не сразу. Ему же не только смерть Клемана шьют.
– А этой записи достаточно, чтобы свалить Лемана?
– Нет, ее нельзя использовать как доказательство.
– А что же делать?
– Да ничего. Ты знаешь, меня же отстранили от дела. А вот попортить кровь господину Леману, это не лишнее. Ты знаешь его телефон?
***
В последующие недели кровь господина Лемана, в самом деле, испортилась. Началось все с ночного телефонного звонка. Леман давно уже сладко спал. Ругаясь на чем свет стоит, он схватил трубку. Голос, который он тут же узнал, сказал ему:
– Как? Мы уже больше не в театре?
У Лемана не хватило духу даже переспросить. Он бросил трубку, будто обжегся. Бессонная ночь. Следующие несколько ночей инспектор Жозеф Силистри дал ему поспать спокойно. Воспоминание понемногу сгладилось. Показалось! Да, конечно, померещилось!
А потом телефон снова зазвонил.
– Как? Мы уже больше не в театре?
– Кто это? Что это такое?
Убитый страхом, Леман ожидал уже чего угодно. Но то, что он услышал, было страшнее, чем что бы то ни было. Он услышал в ответ собственный голос:
– И ты тоже в деле?
– Что это? Что это такое? Кто говорит?
Никто уже не говорил. Прерывистое молчание повешенной трубки.
И так далее, в том же духе.
Пока Леман не разбил свой телефон вдребезги.
Через неделю его разбудил домофон. Кто-то шестью этажами ниже звонил к нему в квартиру. Кто-то звонил ему из парадной его собственного дома. Который час? Боже мой, который сейчас час? Натыкаясь на мебель, он добрался до трубки.
– Что такое?
– Король послал меня за фильмом… – ответил голос Клемана.
Господин Леман сбежал из дома.
Он спрятался в гостинице на улице Мартир. Он заплатил наличными и не сообщил своего имени. Он думал, что умрет на месте, когда однажды вечером, проходя мимо бюро администратора, услышал, как привратник позвал его:
– Господин Леман?
Он не сообразил ответить, что он не господин Леман.
– Вам письмо.
В письме только эти несколько слов:
«Только тронь меня, все расскажу дочке вьетнамца».
***
– Зачем ты это делаешь, Жозеф? Почему бы тебе его прямо не допросить?
Жервеза удивлялась. Полицейские обычно так не работали. Старый Тянь этого бы не одобрил.
Силистри защищал свой метод.
– Ничего, пусть этот тип поверит в привидения. Когда Леман хорошенько промаринуется в собственном страхе, он выложит нам все, вот увидишь.
Жервеза не верила Силистри.
– Я тебе не верю. Достаточно его допросить, и он все тебе расскажет, ты сам это знаешь. Зачем ты это делаешь?
– Нет, так просто он не сдастся. Жилистый, упрямец.
– Все равно не верю. Ты не работаешь, а мстишь, Жозеф.
Жервеза пояснила:
– Ты озлоблен. Ты злишься и бросаешься на этого Лемана, потому что он тебе попался под горячую руку. Кто же тебе так насолил, а?
Но так просто Силистри говорить не заставишь. Нужно было сказать ему то, что он сам должен был сказать. И Жервеза это сделала:
– Успокойся, Силистри. Отец моего ребенка не Титюс.
– Откуда тебе знать?
– И не ты, я уверена.
Аргумент сработал.
– Но кто-то же должен быть…
– Так ли уж это необходимо?
– Что?
Силистри посмотрел на Жервезу. Потом он посмотрел на жену Малоссена, которая присутствовала при споре в качестве беспристрастного арбитра.
– Так ли уж необходимо знать, кто это? – уточнила Жервеза.
Силистри привлек арбитра в свидетели:
– Вы слышали?..
Жена Малоссена прекрасно слышала.
– Жервеза в чем-то права. В рождении детей столько таинственного. Тайной больше, тайной меньше…
«Святой союз монашки и феминистки…» – подумал инспектор Жозеф Силистри, когда вышел на улицу. Только этого не доставало! Он много месяцев охранял Жервезу… и для чего? Чтобы в конце концов услышать, что личность насильника не имеет значения. «Что ни говори, Жервеза, а я оторву Титюсу яйца!» Ярость, ослеплявшая инспектора Силистри, не давала ему сомкнуть глаз. Он спал теперь не больше Лемана, то есть вообще не спал. Да, Леман! Не заняться ли нам наконец Леманом… Он как лунатик побрел к новой норе Лемана.








