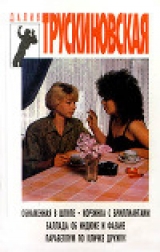
Текст книги "Корзинка с бриллиантами"
Автор книги: Далия Трускиновская
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Далия Трускиновская
Корзинка с бриллиантами

Мы стояли справа от служебного входа, а она – слева. Причем мы стояли боевым треугольником, а она – просто так. Боевой треугольник придумала Светка. А может, не сама придумала, а где-то подсмотрела. Идея простая – двое стоят рядышком, вплотную, спиной к интересующим нас событиям, а третья выглядывает между их плеч и голов. И все трое поддерживают громкий разговор ни о чем. Очень удобно.
Так вот, на этот раз Светка с Алкой прикрывали меня, чтобы я наконец-то разглядела «генеральскую дочку». Вообще это словечко внедрила Светкина мама. Захочет Светка купить импортную косметику – «это для генеральской дочки!» Или, скажем, я поступила на инъяз – «факультет для генеральских дочек!» Естественно, когда на горизонте появилась эта краля, мы ее прозвали генеральской дочкой, хотя, наверно, никакого папы-генерала у нее нет.
Светка с Алкой трепались, а я таращилась на дочку.
Одета она была действительно по фирме, весь прикид даже не с «Бурды» содран, а года на полтора «Бурду» опережает. И ноги такие, что помереть и не жить. И колготки ажурные. И юбка такая короткая, как на старых мамкиных фотографиях. От таких юбок все мэны тащатся.
Кроме того, она очень уверенно вела себя. Мы, когда ждем после репетиции или спектакля кого-нибудь из артистов, так боже упаси стоять в одиночку. Все, кто выходят из служебного входа, так пялятся! И в глазах прямо написано: «А я знаю, за кем это ты бегаешь!»
И вот стоим мы втроем с одной стороны, делая вид, что никак не расстанемся после спектакля, а она стоит с другой стороны и никакого вида не делает, а просто ждет.
– Саблуков с Васиной уже вышли, сейчас ОН выйдет, – быстро шепчет Светка, – он обычно после Саблукова в душ ходит!
Действительно – в освещенных дверях появляется ОН! Я замираю – ОН!!!
Двадцать минут назад он стоял посреди сцены, а весь зал аплодировал ему, и как аплодировал! И я аплодировала, стоя в проходе, и снова изумлялась тому, как красиво его лицо. Фантастически красиво. Даже когда он просто молчит и приходит в чувство после умопомрачающей сцены.
– Смотри! Смотри внимательно! – командует Алка.
Я смотрю, хотя ничего хорошего не вижу.
Он подходит к ней, тихо здоровается и забирает у нее большой пластиковый пакет. Неужели она не постеснялась войти в театральный зал с таким здоровенным пакетом, – думаю я, и вдруг до меня доходит, что она вовсе не была в зале, ей незачем ходить на все его спектакли. Вот для меня единственная возможность увидеть его – это, как на работу, ходить в театр, а она уверена, что встретится с ним и просто так…
Она берет его под руку. И они проходят мимо нас.
Я пытаюсь поймать его взгляд, но он смотрит сразу на всех троих и рассеянно улыбается.
– Девочки, приветик! – говорит он нам. Он нас знает, хотя я не уверена, что помнит, как нас зовут. Мы примелькались ему, когда бегали в клуб юных театралов. Он тогда еще вел у нас кружок истории театра. Собственно, мы со Светкой и теперь почетные члены клуба, хотя впрошлом году окончили школу. А Алка еще учится в десятом классе и хочет поступать на театроведение. Скоро у нее начнутся выпускные экзамены. И она уже не сможет вместе с нами торчать в театре и около.
Он и она сворачивают за угол. У него такая походка, что я вспоминаю эльфов из мультиков. Теперь можно отойти подальше от служебного входа и обсудить случившееся.
– Помяни мое слово, у нее папуля крупная шишка! – убежденно говорит Светка.
– Ну почему ты так в этом уверена? – Аллочке лишь бы поспорить. – Прикид еще ничего не доказывает. Интердевочки тоже все прикинутые по фирме.
– Макаров на шмутки не поймается! Видела, как он ее под ручку?.. Этот знает, что делает. Если бы у Юльки был папа-генерал, он бы Юльку так же под ручку водил.
Слышать это не очень приятно. Макаров не такой. Он просто не может быть таким. Макаров! Николай Макаров. Николай Ильич Макаров. Это – ОН. Господи, я готова петь это имя…
– Да, с папой-генералом у Юльки пролет, – тут даже Алке не с чем спорить. – И все-таки…
– Давай разберемся. Ведь Макаров даже не квартиру снимает, а вообще комнату в коммуналке! Это тебе о чем-нибудь говорит? Ну?
– На зарплату советского артиста только в коммуналке и снимать! – авторитетно цитирует Алка. Это она Тасю Медведеву цитирует. – Ну, а вдруг он просто искал поближе к театру? Или копит деньги на что-нибудь такое… ну, на машину?
– Ой, держите меня! – отвечает на это Светка.
Макаров близорук, и кроме того, уже дважды попадал в автокатастрофы. Так что машину он вряд ли купит. Мы со Светкой знаем это от Таси Медведевой. Она только второй год работает в театре, тоже снимает комнату в коммуналке и не стесняется дружить с нашим клубом.
Девчонки начинают считать плюсы и минусы, и у них получается, что за генеральской дочкой наверняка и четырехкомнатная квартира, и дача, и мамина машина, и фамильные бриллианты, и вообще! А за мной ни фига. Не дурак же Макаров – после такого бурного развода, оставшись на паре чемоданов, брать за себя бесприданницу.
Я молчу. Все это чушь собачья. Генеральская дочка может оказаться кем угодно. Ну, скажем, двоюродной сестрой. Невестой кого-то из друзей. Или даже женой – теперь не все замужние носят обручальное кольцо.
Просто я люблю его. Уже два года. Я полюбила его еще до развода, когда он сыграл Дон Гуана. Конечно, у меня с папой-генералом пролет, мой батя ежемесячно присылает мне когда тридцатку, а когда и сороковник. Генеральской дочке и на косметику бы не хватило. А в августе и это счастье окончится. Мне исполнится восемнадцать.
В общем, мы еще немного потрепались, посадили Алку на трамвай и пошли со Светкой к троллейбусной остановке.
– Послушай, – сказала Светка, – возьми сигареты. Мать повадилась в сумку лазить. Я одну сигарету суну в косметичку, до завтра хватит. И зажигалку тоже возьми.
– Хорошо, – ответила я. – На обеде отдам.
Мы с ней работаем по соседству, и я часто хожу обедать к ним в буфет, потому что в нашем и отравиться недолго.
Светкин троллейбус пришел первый. Своего я ждала еще минут пять. Потом села у окна, и напрасно. Потому что с этого проклятого окна и началась вся катавасия.
Я увидела Макарова.
Он стоял у подъезда и закуривал сигарету. Генеральской дочки рядом с ним не было.
У меня буйная фантазия. Я поняла это так – он проводил ее и сейчас неторопливо пойдет домой. И это замечательно! Потому что навстречу из темноты выйду я и попрошу закурить. Случайная встреча. А сигареты у меня есть. Слово за слово…
Когда я на остановке выскочила из троллейбуса, то уже придумала совершенно потрясающий разговор.
Я шла навстречу Макарову, заранее зажав в руке пачку, но он все не появлялся навстречу. И вот я дошла почти до того подъезда и увидела, что оттуда выходит генеральская дочка, уже без пакета, а он повернулся к ней и протянул руку.
Они пошли прочь, а я машинально побрела следом. Они вошли в переулок и остановились возле не то «восьмерки», не то «девятки», – пересекая по инерции этот чертов переулок, я не видела, сколько там дверок.
Зайдя за угол, я выглянула из-за водосточной трубы.
Они повернулись друг к другу. Я отчетливо видела изумительный профиль Макарова. Он взял ее за плечи и несколько раз коротко поцеловал. Потом он отступил назад, они что-то сказали друг другу, генеральская дочка обошла машину, открыла ее, села за руль и открыла ему дверцу. Он тоже сел, и они уехали. А я так и осталась стоять со своими сигаретами.
Девчонки были правы.
Говорят, от курева на душе легче. Я достала зажигалку и закурила.
Легче мне, конечно, не стало. Курить я пробовала и раньше – с практической целью. От сигарет худеют. А у меня, как утверждает Светка, щеки со спины видны. И Алка говорит, что мои щеки уже в зеркало не влезают. Они меня совсем замучили с прическами и косметикой, а щеки как торчали, так и торчат.
Но одно дело курить ради красоты, а другое – от расстроенных нервов. Ради красоты можно и потерпеть…
Когда я поняла, что нервы не унимаются, то выбросила недокуренную сигарету. Какая-то дрожь привязалась, мелкая и противная, внутри, в области пищевода, наверно. Может, из-за Макарова, а может, и от сигарет. И вообще стало холодно. Я же не собиралась ночью слоняться по городу и не захватила с собой куртку.
Оставалось одно – ехать домой.
А дома получился скандал.
Мамка уже досматривала телик. Она сходу на меня налетела – где я пропадаю, и если задержалась, неужели трудно позвонить? А потом принюхалась ко мне, и пошло-поехало!
У нее такая интересная педагогика – чуть что, орать и обещать, что я непременно принесу в подоле. За контрольную по истории КПСС двойку схлопотала – значит, принесу в подоле. Импортные туфли с первой зарплаты купила – принесу в подоле. А чтобы я в подоле не принесла, она начинает считать, сколько в меня, неблагодарную, денег вложено – куртка столько-то, колготки столько-то…
А я не могу наши отечественные туфли носить. У меня нога полная, они ее уродуют. Этого она не догоняет!
В общем-то я подставилась. Не фиг было курить. Если куришь днем, всегда успеешь до вечера проветриться.
Обычно я всю эту педагогику терплю. Ну, огрызнусь для порядка, чтобы мне совсем уж не сели на шею. Я, конечно, не ангел, но я же не виновата, что батя такие микроскопические алименты шлет! Смотреть надо было, за кого замуж выходишь. Я ей, конечно, так, в лоб, этого не говорю, но она знает, что такое мое мнение.
Я ее понимаю. Нас с ней нищета заела. Пять рублей на колготки – проблема. А меня если по-настоящему одевать – точно папа-генерал нужен. Но тут я обиделась. И без того тошно, а она – про дите в подоле!.. Если бы!..
Вот я и хлопнула дверью. Хорошо, успела куртку с вешалки сдернуть.
Это я впервые в жизни на ночь глядя умотала из дому. И долго стояла в подъезде, соображая, где же теперь ночевать. К Светке или к Алке ехать было поздно. Светкина мать, конечно, пустила бы меня, но Светке бы потом из-за меня влетело.
И я поняла, что единственное место, где я могу переночевать, – это цирк.
* * *
Почему-то, когда говоришь, что работаешь в цирке, начинается дружная ржачка. Ну, я же не клоуном работаю! Все почему-то думают, что раз цирк, значит, все там – клоуны. А я работаю секретаршей. И вообще я попала сюда по большому блату.
Когда я поступила на заочный инъяз (хотя, по-моему, заочно изучать язык – это маразм, но в очном мамка бы действительно меня не прокормила), мы стали искать такую работу, чтобы оставалось побольше свободного времени. А поскольку я на УПК кое-как освоила профессию секретаря-машинистки, то поиск мы вели целенаправленно.
Идти секретаршей к директору фабрики я наотрез отказалась – там работа с восьми утра, меня через неделю вышибут за опоздания. Когда тетя Люся сказала, что может меня устроить в цирк, мы с мамкой ухохотались – думали, шутка. Но оказалось, там действительно есть такая должность – секретарь-машинистка. Оклад небольшой, но работа с десяти утра. И отсидки нет. В четыре я уже обычно свободна. Правда, несколько раз пришлось посидеть допоздна – мне какой-то идиотский сценарий диктовали, а еще протокол собрания перепечатывала, а в нем список, кто премию получил, и сколько именно. Чуть не рехнулась с этим списком!
Но вообще жизнь у меня в цирке привольная.
А о том, что на конюшне можно переночевать, я подумала, вспомнив историю с печеньем.
Дело в том, что у меня такое странное устройство организма: когда волнуюсь, на меня нападает страшный жор. Черта бы съела, и на ночь глядя, да… Это организм так борется со стрессом.
И вот еще в марте я шла из театра домой ужасно расстроенная. Спектакль прошел плохо, у Макарова была ангина, я узнала об этом и вся испереживалась. С ангиной тащить на себе весь спектакль! И вот я иду к остановке, а на меня нападает жор. Хоть асфальт грызи! Я прямо завертелась на месте – куда кинуться? Магазины закрыты, дома ничего вкусненького нет.
Тогда я вспомнила, что еще днем видела здоровенную коробку с печеньем, и, главное, печенье было такое, какого я у нас раньше в магазинах не видела, с изюмом. Эта коробка стояла на конюшне для подкормки, и все, конечно, таскали оттуда печенье, и я тоже.
Пока я неслась к цирку, все разошлись после представления. Как я проскочила мимо вахтера, уже не помню. На конюшне я нагребла полную сумочку этого печенья, а потом ехала домой и всю дорогу машинально хрупала и хрупала. Стресс – страшная штука, все приличные люди от стресса худеют, а я наоборот. Но самое жуткое было потом. Я никак не могла избавиться от крошек. Я месяц вытряхивала каждый день и не могла окончательно вытряхнуть сумочку.
В общем, пришлось брести к цирку.
Я догадывалась, почему в тот раз проскочила благополучно. Наверно, на вахте сидела тетя Леся или тетя Жанна. Они, когда дежурят, сидят себе в вахтерке с книжкой, радио слушают и даже не смотрят в окошечко. Дверь они запирают, когда уверены, что ушел последний артист или служащий. Точнее, обе двери – уличную и которая ведет вовнутрь. А потом хоть всю ночь колотись – даже не подойдут спросить, в чем дело.
Но вот если бы дежурил дядя Вахтанг, я бы не проскочила. Он завел себе моду вытаскивать кресло из вахтерки чуть ли не в коридорчик между уличной дверью и той, которая вовнутрь. У нас там есть и третья дверь, в администрацию, но в это время она давно закрыта и никому не нужна. Вот дядя Вахтанг и сидит практически в коридорчике, потому что там – телефон, он все время названивает домой, и еще потому, что ему безумно скучно сидеть в вахтерке одному. Когда он там сидит, то кроме «здрасьте-до-свиданья!» ничего не слышит. Все проскакивают мимо. А когда он в коридорчике, с ним разговаривают. Дядя Вахтанг не любит читать.
И вот я думала – хорошо бы, чтобы дежурил именно он. Он допоздна не закрывает уличную дверь. Может, если не удастся проскользнуть, я просто упрошу его, чтобы позволил переночевать. А если тетя Леся или тетя Жанна – пиши пропало! У них в это время все давно заперто.
Мне повезло. Дело в том, что рядом с цирком – автобусная остановка. Подхожу я совсем близко и что же я вижу? Уличная дверь распахнута, а дядя Вахтанг с кем-то прощается на этой самой остановке. Если учесть, что на моих часах – полночь, то картинка интересная. Кого это он так уболтал, что провожает на последний автобус?
Вдруг они повернулись и пошли обратно к цирку. Я замедлила шаг, чтобы не столкнуться с ними, и прошла мимо цирковых дверей, когда они уже стояли на пороге. Шагов через двадцать я осторожно обернулась. Они опять подошли к остановке, причем явно спорили. Дядя Вахтанг показывал на цирк, а тот, другой, тоже махал руками. Но тут подошел последний автобус. Тот человек сел в автобус и, наверно, уехал.
Этого я точно не знаю, врать не буду. Пока они там прощались, я успела проскочить в цирк. Правда, я набила синяк о дяди-Вахтангово кресло, но это уже мелочи.
Я вышла в цирковое фойе, мы называем его «подковой», оно действительно в форме подковы, и прошла за кулисы, а потом – на конюшню.
Тут мне предстоял еще один разговор – с Любаней.
Дело в том, что в этой программе полно лошадей. И при них должен дежурить ночной конюх. Но его уволили за пьянку, и временно конюхи поделили между собой дежурства. Сегодня была Любанина очередь, это я помнила точно, потому что мы с Любаней дружим. Я ей помогаю на конюшне, она мне юбку сшила. И я знала, что она пустит меня в шорную переночевать, и постелит на сундуке со сбруей, и даст ватник укрыться.
Любане двадцать пять лет, и у нее дочка Ласька, Лариса то есть, Лаське – пять лет. Я никогда не слышала, чтобы женщина так материлась, как эта Любаня. Все у нее обозначалось одним словечком – и люди, и лошади, и ребенок, и погода, и магазин. Самое удивительное – что Ласька совершенно не материлась. Меня, между прочим, тоже мамка воспитывала одна, но я от нее матерного слова никогда не слыхала.
Конечно, Любаня могла поменяться дежурством с Надькой или с Валерой, или даже с Колькой, который при медведях. Тогда разговор был бы сложнее. Но, когда я вошла в шорную, где обычно спят дежурные, там вообще никого не было. Стоял сундук, стояла разложенная раскладушка, и все.
Я постояла, подождала, мало ли куда умотала Любаня? Может, просто пошла на горшок? У нас два женских туалета – один на втором этаже, там, где гримерные, и один на первом, в фойе, туда ходят зрители. Мы с Любаней обычно бегаем в зрительский, а вдруг ей втемяшилось наверх?
Любани не было. Я подумала, что, может, кто-то из лошадей заболел, и она в боксе. И я пошла по конюшне.
Хризолита я узнаю по храпу. Когда я появляюсь на конюшне, он тихо храпит. Это у нас любовь такая. Я таскаю ему сахар, сухари и вообще, что подвернется. Он не привереда, он все подберет. За это он позволяет целовать себя в нос.
– Здравствуй, Хрюшенька! – сказала я и подошла к его боксу. Он высунул голову и стал шарить по мне верхней губой, она у него так забавно морщится и подергивается, когда он меня обыскивает и попрошайничает.
У Гаврилова в номере всех лошадей зовут красиво – Рубин, Сапфир, Аметист, Хризолит… Но из Рубина сделали Ромку, из Сапфира – Саньку. Хризолита перекрестили, естественно, в Хрюшку, он же – Хрюндель. А какой из него Хрюшка?! Вороной, с белой звездочкой во лбу, глаза огромные, умные, а ласковый – прямо до изумления. Я понимаю, был бы он розовый – ей-богу, есть у нас на конюшне розовая лошадь! Вернее, такая бледно-желто-палево-бежево-невообразимая! Ну, розовая, и все тут. Вот ее бы и звали Хрюшкой!
Я нашла впотьмах ящик с морковкой и угостила Хрюнделя. Пока он жевал, я поняла, в чем дело. У Любани еще со вчерашнего дня дочка куксилась. Наверно, она осталась с дочкой. Она такое выделывала и раньше – если ни с кем не удавалось поменяться, она просто смывалась с дежурства.
Тут я и вовсе обрадовалась. Никому ничего не нужно было объяснять. Раскладушка в полном моем распоряжении, одеяло – тоже. Я загребла в ящике печенья с изюмом, положила на сундук возле раскладушки, сходила в туалет, вернулась, легла и стала грызть безумно вкусные печенюшки, пока не задремала.
Странно, но скандал с мамкой как-то выбил у меня из головы Макарова и генеральскую дочку. Я пыталась думать о Макарове, но мысли сворачивали в другую сторону и вообще расползались, как тараканы. И плакать тоже уже не получалось. Так я и заснула.
Вообще я на чужом месте сплю плохо. Естественно, и здесь я несколько раз за ночь просыпалась. А когда просыпаешься ночью, то не всегда сразу понимаешь, что только сию секунду было во сне, а что – уже наяву.
Когда я увидела этого человека, то, разумеется, сперва подумала, что продолжается сон. У нас на конюшне маленькие длинные окошки под самым потолком, и еще горит дежурная лампочка. Так что я видела даже не столько человека, сколько его силуэт. Откуда он взялся, я не поняла. Он появился напротив открытой двери шорной, несколько секунд смотрел вовнутрь, на меня, а потом подошел к бочке с овсом и сунул туда руку по самое плечо.
Напротив двери стоят три бочки с овсом. Они здоровенные, жестяные и с крышками, чтобы крысы не лазили. Это овес гавриловских лошадей. Из одной Любаня постоянно берет, и она уже пустая наполовину, а две стоят полные. Так вот, он сунул руку в крайнюю полную бочку. Постоял секунду с рукой в бочке и исчез. Я не то чтоб совсем проснулась, и потому не очень удивилась. Если бы я сразу поняла, что это наяву, я бы его окликнула. Мало ли какую дрянь он туда сунул? Любаня рассказывала мне всякие страшные истории, как в цирке травят животных из зависти или из конкуренции. В конце концов, если крикнуть погромче, то дядя Вахтанг на вахте услышит и поднимет тревогу. Но в том-то и дело, что, пока я думала, сон это или явь, он смылся. Растаял и растворился, причем беззвучно. И я опять заснула…
* * *
Проснулась я от звуков человеческого голоса. Наверно, я уже выспалась, потому что проснулась сразу, поняла, где я, и даже узнала голос. Это был прибабахнутый Яшка. Он точно прибабахнутый. Дело в том, что с yтpa репетирует номер Кремовских. У них даже с вечера не разбирают клетку, чтобы утром ее не ставить заново. Потом идут все конные номера, и только после обеда Яшкино время. Так вот, этот фанатик приходит в половине седьмого утра и до девяти торчит в клетке и кидает, кидает, кидает. Он может репетировать только на манеже, потому что ему нужна высота. Потом он собирает мячики, кольца и булавы в чемодан и идет спать в гримерку, и спит там до обеда, а потом опять кидает чуть ли не четыре часа подряд, а потом спит до представления и после еще кидает в пустой клетке. Я не представляю себе, как это можно тратить единственную жизнь на сплошные мячики. Правда, он еще читает. Я видела у него в сумке хорошие книги.
Недавно Яшка додумался, что ему надо работать на пьедестале. И вот ему сколотили на пробу какой-то гроб с занозами, и он каждый день таскает это чудовище с конюшни на манеж и обратно по нескольку раз. Я потому и проснулась, что конюхи загромоздили тачками подступы к пьедесталу, и Яшка, ругаясь, вытаскивал эту мерзость.
Видимо, он решил поругаться с конюхами лично, потому что всунулся в шорную. Я и так лежала с головой под одеялом, а тут и вовсе чуть сквозь раскладушку не просочилась. Он посмотрел, как я сплю, но будить все же не стал. Я еще дышала очень старательно, медленно и ровно.
Яшка ушел, и я слышала, как он тащит пьедестал по коридору к форгангу, и через форганг – на манеж.
Вообще надо было смываться.
Сейчас было около семи. В семь открывается центральный рынок и забегаловка при нем. Я бы как раз успела съездить туда, попить кофе с пончиками, там готовят обалденно вкусные пончики, нигде в городе больше таких нет, и к восьми или половине девятого вернуться в цирк. Мне вчера принесли одну халтуру, устав кооператива, я бы как раз успела до десяти ее перепечатать, все-таки пятерка, а пятерка – это колготки. Я не генеральская дочка, колготки мне с луны не сыплются, а рву я их за милую душу.
Я надела босоножки и, стараясь не стучать каблуками, прокралась в фойе. Там я сообразила, что у меня не будет другой возможности умыться перед работой, кроме как сейчас, в туалете. Я забралась в туалет и провозилась там довольно долго, потому что мыла практически не было, какой-то оглодок, теплая вода шла еле-еле, и моя походная щетка для волос тоже давно на помойку просится.
Я высунулась из туалета и увидела Любаню. Она кралась на конюшню, тоже стараясь не цокать каблуками. Я поняла, что дядя Вахтанг, впустив прибабахнутого Яшку, задремал, не заперев дверей, и она проскочила незаметно. Мне совершенно не хотелось объяснять ей сейчас, как я сюда попала, и я переждала, пока она скроется в конюшне. У нас с ней одна беда – полные ноги, и каблуки – наше единственное спасение. Вот и мучайся теперь из-за этого спасения. Я благополучно выскользнула из цирка и пошла к остановке. Конечно, мне совершенно нельзя есть эти чертовы пончики, но больше я сейчас все равно ничего не раздобыла бы, и еще по случаю стресса у меня опять жор. Пусть будут пончики, подумала я, все равно Макаров предпочитает генеральских дочек с машинами и фамильными бриллиантами…
Я действительно прибыла с рынка в половине девятого и привезла Любане пакет с пончиками. Я так рассчитала, что она сварит кофе, я съем один пончик, она – два, и еще три останутся для Ласьки.
– С кем ты девку оставила? – спросила я, отыскав Любаню на конюшне. Она чистила боксы и была одета кошмарно – в драные тренировочные штаны, резиновые шлепанцы и фуфайку образца тысяча девятьсот четырнадцатого года.
– Дежурную по этажу просила присмотреть, – мрачно сказала Любаня. – Ее разбудят и чаем напоят, а потом я им туда позвоню. Если Ласька не очень кислая, сбегаю приведу в цирк.
– Как же ты ее одну на всю ночь оставила? – спросила я.
– А вот так, растудыть и так далее… – ответила Любаня. – Вот так и оставила! Ведь им же никому не объяснишь, что такое больной ребенок! Гаврилов, сука, разве поймет, что это такое? У него же своих нет и не будет!
Глубоко внутри я хихикнула. Любаня даже от меня решила скрыть, что ночевала в гостинице. Так что моя совесть чиста – я тоже ей не скажу, что ночевала в цирке.
Если бы я вспомнила тогда про привидение, которое лазило в бочку с овсом, то, наверно, сказала бы Любане – хотя бы ради лошадей. Но я про него намертво забыла, а вспомнила только вечером. Впрочем, до вечера у меня и не было такой возможности. День навалился на меня – я и охнуть не успела.
Пока я печатала кооперативный устав, пришел директор и сунул кучу всяких дурацких приказов на перепечатку. Сразу же заявился зам с кошмарными транспортными накладными, или как их там. Это когда нужно впечатывать всякие адреса и цифры в узенькие графы. Ненавижу такую работу. Потом я отправила письма и позвонила Светке, чтобы вместе пообедать.
– А ты знаешь, что у Макарова завтра последний спектакль? – спросила она. Это был неприятный сюрприз.
– С чего ты взяла?
– Таську сегодня видела.
– Постой! У него же еще «Лес» в пятницу! – завопила я.
– Фиг вам! В «Лесе» его заменит Филенко, а он в четверг утром уматывает на киносъемку, и сезон закрывают уже без него.
– Кошмар, все закрывают сезон, – потерянно сказала я. – В театре закрывают, у нас в цирке закрывают… А Таська не сказала, что это за киносъемка? Где это?
– Она сама не знает.
Так получилось, что вчера я в последний раз видела Макарова. Не вообще в жизни, а в этом сезоне. Теперь прощай, Макаров, до осени.
Мне ведь и нужно-то от него было так немного! Я просто хотела иногда с ним разговаривать, смотреть в его лицо, в его глаза. Светка называет меня дурой, и, наверно, она права. Это все – развлечение для малолеток. А мне скоро восемнадцать, и я еще девочка, стыд и срам… Светка стала женщиной еще в девятом классе.
Нельзя сказать, что я ей на самом деле завидовала, но она знала что-то такое, о чем я могла только догадываться, и это меня раздражало.
Наверно, потому, что я хотела, чтобы это у меня случилось с Макаровым, а он завел себе генеральскую дочку. Или потому, что я этого смертельно боялась. Как-то у нас с мамкой зашел разговор на эту тему, и она сказала: «Сперва это очень неприятно». «А потом?» – спросила я. Она хмыкнула и пожала плечами.
Я, видимо, дура. Я верю Светке, я верю мамке, я верю и Любане, когда она рассказывает про Ласькиного отца. Но при всем при этом я чувствую, что у меня обязательно все будет не так, как у них. И я чувствую, что к этому нужно себя как-то подготовить. Ну, похудеть, что ли. И научиться как следует краситься. И сходить в хорошую парикмахерскую. И купить дорогое белье. Иначе я буду чувствовать себя отвратительно. Все равно что пойти в дорогое кафе и набрать на кварт всяких заедок, отлично зная, что в кошельке у тебя – жеванная трешка.
Я знала, что своей неприятной информацией Светка добивается от меня решительных действий. А что я могу? Он же на меня даже не смотрит толком! Нам предстоит разлука минимум на три месяца, и сам бог велел предпринять что-то решительное.
Ну, не могу я надраться до поросячьего визга, ворваться к нему в коммунальную квартиру и повалиться на диван! И она сама тоже не может, хотя и плетет всякую чушь о своих похождениях!
В общем, разговорчик получился тошнотворный. Положив трубку, я достала из сумочки фотографию Макарова. У меня их две. Та, где он в роли Дон Гуана, с приклеенной бородкой, и просто фотография. Я выбрала Дон Гуана, поставила его в письменный прибор и стала на него смотреть. Он был так красив, что жутко делалось. И в ушах звучал его голос, приглушенный, хрипловатый и настойчивый.
Так я просидела весь обед.
А потом прибежал зам за своими бумажками, пришли за халтурой, завпост пришел ругаться – я ему, оказывается, что-то нечаянно наврала. И в конце концов я вспомнила про Любаню.
Мамкина подруга работает в кассах Аэрофлота. Я об этом почти никому не говорю, а вот Любане сказала. А у нее свои проблемы. Она увольняется из гавриловского номера и переходит в другой. Там она будет не конюхом, а ассистентом. Она даже будет выходить на манеж, и ей сошьют костюм. Любаня уже подала заявление, все бумажки ей подписали, и вот осталось мне достать билет ей и Лаське, потому что пилить на поезде до Симферополя с малым дитем – сомнительная радость. А у нее там уже все схвачено, она будет работать в очень хорошем номере с дрессированными собачками, ее уже давно туда звали, и вот она наконец отвязалась от Гаврилова, который ей надоел хуже горькой редьки.
Я дозвонилась до тети Лены и утрясла вопрос с билетом. А билет на симферопольский рейс в конце мая – это вам не так-то просто. И я пошла к Любане рассказывать, куда и к кому ей идти за этим самым билетом.
Любаня скатывала в рулончики бинты, которыми коням бинтуют ноги.
– Давай, помогай! – велела она. Я села рядом и взяла из кучи бинт покороче. У нее их тридцать две штуки – по четыре на жеребца. И лежала рядом недошитая уздечка. Любаня умеет сама мастерить сбрую, она работала на ипподроме и все лошадиные дела знает туго. – Эти не обязательно, – сказала Любаня. – Борька сегодня не работает. Гаврилов его уже лечил, лечил… Все без толку! Вместо того, чтобы вызвать наконец врача, он сам его лечит! Чучело!
Борька – это Берилл. Он повредил левую заднюю и еще у него вылезла на пузе какая-то шишка. Любаня говорит, что это грыжа. Гаврилов утверждает, что какая-то другая штуковина, и они в воскресенье смертельно разругались из-за этого Борьки. Впрочем, сколько я их вижу вместе, они все время ругаются. То Гаврилов взял у Любани в контейнере ножницы и не вернул, то Любаня плохо забинтовала Саньке ногу, и в манеже во время выступления бинт развязался. Чем так собачиться, лучше уж разбежаться в разные стороны.
Мне еще нужно было позвонить мамке на работу, что мол, жива и не померла. Но я все оттягивала этот счастливый миг. Я катала на колене бинты и думала, что как все опять грустно получается. Я увижу Макарова издали на сцене, и он исчезнет на все лето. Николай Макаров. Звучит-то как! Коля Макаров. Серые глаза в совершенно девичьих ресницах и эти две складочки на переносице, когда сдвигаются пушистые брови… Мне все равно, сколько лет Макарову. Еще два года назад, когда Светка сказала: «Да он тебе в отцы годится!» – я гордо ответила: «Ну и что?» Наверно, ему уже сорок. Или меньше. Какое это имеет значение? В общем, я засиделась на конюшне до самого представления. И помогала Любане седлать лошадей. Обычно я, когда остаюсь ей помочь, нянькаюсь с Хрюшкой, а потом вожу его по широкому коридору перед форгангом. Занавес открывается, я вижу, что делается на манеже, но и из зала меня, оказывается, видно. Как-то у мамки с подбрыком спросили, так кем же я все-таки в цирке работаю. Она битый час утверждала, что секретаршей, а ей не верили! Спустился сверху Гаврилов в гусарском костюме и сразу начал ворчать – где шамбарьер, где миска с сухарями, и чтобы Любаня не забыла пристегнуть арниры. [1]1
Арнир– (франц. harnais– конская упряжь, сбруя). Два кожаных ремня, прикрепленных к гурту, которыми притягивают голову лошади к груди, что оказывает воздействие на ее ход в заданном ритме и придает шее красивый изгиб.
[Закрыть]Я водила Хрюшку, он подошел и, не здороваясь, взял Хрюшку под уздцы и повел его сам. Этот Гаврилов – настоящий сморчок. Маленький, щупленький, и лицо очень неприятное – темное и в морщинах. Какой-то нечеловеческий цвет лица. А теперь он еще повредил пятку и хромает, а чтобы снять боль, втирает в ногу всякую дрянь, и от него пахнет аптекой.






