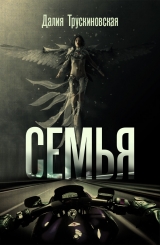
Текст книги "Семья"
Автор книги: Далия Трускиновская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Маришка была дочерью этого внезапного человека – вот что явственно понял Мерлин, и одновременно понял, что восставший из слоистой памяти мужчина – он сам.
Он жил в этой квартире, он по утрам причесывался перед этим трюмо, он приволок полосатую стеклянную вазу, потому что дочь пожаловалась – цветы не во что ставить; и струи неслись мимо; каждая, прикасаясь, будила еще что-то, еще что-то.
Маришка сидит на трюмо и шнурует высокие ботинки; Маришка фотографирует букет в вазе; Маришка стоит в дверях, волосы встрепаны, рот полуоткрыт, а он смотрит на нее снизу вверх, потому что лежит на постели и не может поднять голову.
Все это прилетело разом – и улетело, оставив след – как зыбь от ветра на песке. Поток информации омыл душу и мгновенно иссяк, осталось только ощущение – Маришка отныне главное, что есть в жизни, Маришка – и любовь к ней, свободная от всего пошлого, любовь-защита, любовь-каменная-стена…
Мерлин повернулся к Джимми, он был в смятении, он хотел назвать ее настоящим именем, но язык не поворачивался.
Он смотрел на женщину, уже не очень-то молодую, а видел дочь – видел осунувшееся личико и короткие, ежиком, темные волосы, прямые, густые и жесткие – как у него самого. Дочь уродилась в отца. У Маришки были его губы, его подбородок, его брови – шире и гуще, чем положено девочке. Его любопытство к технике, наконец…
А она смотрела на него – во взгляде был вопрос: ты понял, ты догадался?
Но как раз вопроса он не услышал. Для него взгляд Джимми был почему-то тревожным.
Он провел рукой по лбу – классический жест борьбы с наваждением.
– Спасибо, Мерлин, – сказала она, – а теперь иди, такси ждет. Спасибо, милый…
И он ушел.
В голове была сумятица, время какое-то непотребное – середина ночи. Мерлин решил, что не домой нужно ехать, а куда-нибудь туда… К Лешему? К Чиче?
С Чичей он уже давно не встречался. Наверно, с осени. Чича жил своей безумной жизнью – где-то с кем-то путешествовал, ухаживал за больным дедом, шил на заказ кожаные штаны – когда бывал относительно трезв, собирал у себя цыплят – так он называл подростков, которым родители никак не могли угодить, и всякое слово провоцировало скандал и бунт. Ему нравилось возиться с цыплятками – он их учил жить, как в свое время Мерлина. Тот, кто прошел Чичину школу, со временем должен был сам стать очень хорошим родителем – он знал то, чему в школах не учат.
Мерлин попросил шофера сделать крюк, чтобы проехать мимо Чичиной берлоги. Если горит в двух окошках свет – то там и застрять.
Свет горел. Мерлин расплатился и пошел на второй этаж – барабанить в Чичину дверь.
Чича проводил мастер-класс по изготовлению конопляного молока. Слушателями и дегустаторами были два парня и девушка лет пятнадцати. Они набились в маленькую кухоньку, на плите стояла здоровенная кастрюля и благоухала. Судя по времени суток и нетерпению на лицах, отрава уже уварилась и была почти готова к употреблению.
– Заходи, – сказал Чича. – Ты вовремя! Последняя кастрюля сезона! Запас кончился!
Он имел в виду сушеную коноплю.
Мерлин знал, где он ее берет, сам показал ему местечко на окраине, где летом кустились конопляные джунгли. Но сам он уже очень давно не пробовал молочка. В голове была такая сумятица, что оно могло оказаться даже полезным.
– Итак, братия! Оно там мокнет уже два с половиной часа. Этого достаточно. Конечно, чем больше уварится – тем сильнее. Можно и пять часов – если жить надоело. Значит, повторяю – на такую кастрюлю идет четыре литра молока, на литр молока – чайная ложка соды. Сода – катализатор, без нее молоко не подействует. Потом – полтора брикета сливочного масла, желательно настоящего. Варить не больше трех часов… Мерлин, давай сюда марлю.
– Вместо масла хорошо идет сгущенка с сахаром, – заметил Мерлин. – Это для вкуса лучше, а то с непривычки – страшная гадость. Куда лить-то?
– А вот.
Горячее молочко процедили через марлю в двухлитровую кастрюлю. Распаренную коноплю вывалили в тазик. Чича схватил горсть, подул, сунул в рот.
– Вау, – сказал он, прожевав и проглотив. – Мерлин, следи, чтобы цыплятки не перебрали. Полторы кружки – максимум!
Мерлин знал, что нужно подождать хотя бы полчаса. Выпив кружку, он пошел в комнату Чичи. Комната была произведением искусства, мечтой спятившего фотографа: рядом с раскрытой швейной машинкой стояли неизвестно чьи горные лыжи, за лыжами – деревянный телевизор, Чичин ровесник, который использовался вместо столика, при нем – чугунный стул, для понта спертый из пивного бара, на стуле трепетным комом – парашют, тоже явно где-то спертый ради ткани, далее – надувной матрас, на матрасе укутанное каким-то половиком тело. Видна была только лысина, обрамленная тускло-рыжими волосами.
– Бонг, что ли? – спросил Мерлин.
– Не тронь его. Еле заснул.
– Угу.
Бонг был художник, пейзаж его работы в старинной раме висел на стене Чичиной берлоги в соседстве с черно-белым самодельным плакатом никому не известной, кроме Чичи, крутой группы и одинокой боксерской перчаткой.
Но не всякому художнику везет выбиться в люди. Как-то так вышло, что Бонговы работы, сперва – вполне приличные пейзажи без затей, не пришлись по душе коллекционерам. Художник обиделся и стал малевать такое, что даже санитара из морга чуть не вывернуло наизнанку – исторический факт, которым Бонг очень гордился. Эти художества принесли немного славы и денег, автор вообразил себя невесть каким крутым мазилой и на радостях ушел в длительный запой. Потом начались всякие безобразия, которые считались в тусовке богемным шиком, вот только полиция таких тонкостей не понимала.
Мерлину Бонг нравился – художник много интересного рассказывал, а не только был хорошим собутыльником. Он сделал для Мерлина эскизы татушек – вполне страхолюдные, и теперь грудь Мерлина украшал кошмарный осьминог, разрывающий щупальцами какую-то фантастическую скотину. Такие твари являются только сильно укурившемуся крэком человеку – так сказал Чича, а когда Мерлин изъявил желание попробовать крэк, чуть не размазал экспериментатора по стенке. Чича откуда-то знал, кому можно молочко, кому – кокс, кому – герыч, а кому лучше ограничиться пивом.
Бонг знал, что баловство с крэком добром не кончится, лечился, сколько-то времени продержался, даже завел постоянную подругу, но, судя по тому, что Чича предоставил ему политическое убежище, опять сорвался.
Мать, беспокоясь и причитая, что сын связался с наркоманами, правды, конечно, не знала, хотя была недалека от истины. Мерлин в химических наркотиках не нуждался, у него были свои – лес и свобода.
Безмолвно пожалев Бонга, Мерлин лег на раздербаненный диван. Через несколько минут рядом присела девчонка.
– Подвинься, – сказала она и тоже легла. – Ты тот самый Мерлин? Который с Лесем играл?
– Ага. Я еще в «Крейзи микст» играл.
Это было всего раз, но как же не похвастаться.
Они лежали и молчали. Мерлин ждал, пока начнет забирать. Пришел Чича и развалился в древнем кресле.
– Лепота-а-а… – пропел он. – Цыплятки! Ну-ка, сюда… с кружечками…
Девчонка заворочалась. Мерлин чуть отодвинулся, но оказалось, что она хочет прижаться.
Он бы не возражал – доводилось у Чичи спать вповалку с кем угодно. Однако девочка попалась шустрая – заиграла пальчиками на Мерлиновой груди. Он повернул голову. Девочка как девочка, острая мордочка, черная челка, в носу – черная загогулина, свисающая до верхней губы. Надо полагать, в пупке – аналогичная.
Острая мордочка и черная челка…
Мерлин стряхнул с себя тонкую руку и сел.
– Ты чего? – спросил Чича.
– Поменяемся. Я – в кресло, ты – сюда.
– Ну, как знаешь…
4
Все он сделал не так, как задумал. Он хотел уйти из «Беги-города» – и не ушел. Он хотел вычеркнуть из жизни Джимми – и не вычеркнул.
Память опять стала плоской, без глубинных пластов. Словно льдом ее затянуло. Но сквозь лед сквозили какие-то очертания, тени, даже звуки пробивались. И натянулась легчайшая струнка между тем, неведомым, скрытым, и душой.
Душа была – как забытая плохой хозяйкой где-то за плитой сухая губка. Откуда-то взялась теплая влага. Все поры губки сопротивлялись сперва, но влага проникала в нее, и проникла, и всю пропитала. Вот точно так же и душа Мерлина сделалась иной. Он пытался объяснить себе это, но разумного объяснения в природе не было. Просто сухость души куда-то вдруг подевалась.
Он по натуре был добр – любил зверье, не обижал и растения, только с людьми мог мгновенно стать жестким и грубым, как правило – обороняясь, но бывало, что и нападая. И вот теперь люди, бывшие в тайных списках души едва ли не ниже тритонов, поднялись с ними вровень… они тоже, оказывается, нуждались в тепле и заботе…
Но не все!
Главным образом она…
Мерлин вдруг решил для себя, что эта женщина беззащитна.
Если бы кто сказал такое Джимми, она бы громко рассмеялась. В своем офисе она была королевой, да и за его пределами могла защитить себя и своих ребят – а всякое бывало. Случалось, деньги из клиента приходилось выбивать каверзными способами; случалось, Клашка или Даник попадали в неприятности…
Но это была Джимми – лихая девочка в черной косухе и бандане, черной с серебряными черепами; заигравшаяся девочка.
А Мерлин как-то сумел разделить женщину на две ипостаси. Второй была Марина – одинокая, бездетная, вне семьи, вне любви. Марина – не Маринка, но Маришка. Маринкой ее иногда называл Лев Кириллович, Маришкой – никто.
И, казалось бы, что произошло? На плоскости, которой после той ночи вновь стала его память, как на экране, сменялись картинки в режиме реального времени: вот он втаскивает наверх сумку, вот входит в комнату, вот Джимми говорит «так я живу», а вот она уже его выпроваживает. И – все. Но плоскость – толщиной в миллиметр, или микрон, или что там еще имеется в математике и физике (Мерлин эти предметы не то чтобы не любил, а они для него были за гранью разумения). И под ней, во множестве слоев, возникают очертания предметов, застрявших в памяти не просто так, и звучит музыка, которую невозможно взять в ноты.
Его новое отношение к Джимми было – как очень тихая музыка, такая, что всей фразы даже не разобрать, и понятно лишь – ведут беседу два голоса, скрипка и виолончель (маленького Мерлина мать водила в оперный театр на «Щелкунчик» и какие-то несуразные детские балеты; водила потому, что так надо, сама она к театру была равнодушна, а про музыкальные инструменты рассказал кто-то другой).
Он не знал, что произошло, – но знала Джимми. По ее обращению он чувствовал – что-то после той ночи изменилось. Хотя раньше оттенков чувств он не улавливал – возможно, чересчур был занят сам собой.
После той ночи каждое слово и каждый взгляд Джимми обрели множество смыслов.
Даже в том, как она, собираясь насыпать ему сахар в кофе, смотрена вопросительно, было особое значение. Льву Кирилловичу – две ложки, Клашке – полторы, Яну – тоже две, и без всяких взглядов, а Мерлину – взгляд.
Он проделывал примерно то же. Иногда это были совсем микроскопические мелочи – он отодвигал от стола стул, на который она собиралась сесть, за миг до того, как она бы протянула к спинке стула руку. Иногда он вдруг яростно кидался в атаку – это было, когда ее на улице толкнула скандальная тетка. Мерлин так изругал тетку, что она, умеющая материться не хуже, отступила – не захотела связываться с сумасшедшим.
– Где ты только таких слов нахватался? – спросила Джимми.
– Жизнь научила, – отшутился Мерлин.
– Хорошо бы тебя и школа чему-нибудь научила.
– Я завтра схожу.
Но он не пошел – он не представлял уже, как это можно потратить целое утро на какую-то школу, когда в «Беги-городе» столько дел.
А в это время за спиной Мерлина плелась интрига.
Мать, отслужив в должности канцелярской крысы четверть века, имела немало знакомцев. Она была хорошей работницей; хорошей, но малообразованной и феноменально доверчивой. Она верила соседке Людмиле Петровне, когда соседка рассказывала байки о потерянных кошельках и украденных кредитных карточках, чтобы выманить пятьсот рублей в долг до зарплаты; ни разу эти пятьсот рублей к матери не вернулись, впрочем, у Людмилы Петровны хватало ума не проделывать этот трюк слишком часто. Она поверила соседу Андрею Дмитриевичу, пенсионеру, подрабатывавшему мелким ремонтом домашней техники, что в стиральной машине сломалась пружина; он даже показал эту ржавую пружину, величиной мало чем поменьше рессоры от трактора «Беларусь», и взял на покупку новой восемьсот рублей. Вот и Корчагину, с которым она отработала вместе около десяти лет, мать поверила. Она сказала, что хочет купить сыну очень хороший велосипед, а он ответил, что как раз такой велосипед, совершенно новый, имеется у его приятеля и выставлен на продажу. Корчагин объяснил матери, что велосипед импортный, очень хорошая фирма, а продается потому, что приятель оказался лентяем: купил, чтобы кататься по утрам на пользу здоровью и ни разу за два года не сел в седло; ну, может, раза два все же сделал круг по двору. За технику просили семнадцать тысяч рублей, а в магазине она стоила все двадцать четыре тысячи – Корчагин нарочно привел мать к витрине, потому что смотреть цены в Интернете она побаивалась; ей казалось, что есть в этом какое-то тайное и глобальное надувательство.
У нее были отложены деньги на велосипед сыну, десять тысяч, – и еще отдельно лежали деньги на стоматолога. Их дала сестра, обнаружившая, что мать уже наловчилась улыбаться, не размыкая губ. Сестра сказала, что сейчас ей эти восемь тысяч вроде не нужны, а понадобятся ближе к августу – были у нее планы роскошно провести отпуск, поехать с мужем к его матери в Севастополь.
Мать подумала, что зубы могут и подождать, а школа ждать не будет – учебный год завершится, а сын останется в каком-то подвешенном состоянии. Вроде как из школы его не выгоняли, оставлять на второй год, говорят, уже не принято, и все это может стать глобальной проблемой – а проблем она боялась. Единственное, чего она хотела, – чтобы сын учился, как все, пусть на тройки, это ерунда, чтобы он окончил школу, чтобы понял необходимость учиться дальше, а она прокормит, она справится!
Меньше всего Мерлин думал о материнских планах. Он жил в странном пространстве – словно бы они с Джимми находились вдвоем в стеклянном яйце, достаточно большом, чтобы не прикасаться друг к другу, и видели сквозь скорлупу окружающий мир, даже общались с ним, даже получали оттуда деньги и вещи. Но при этом они были вдвоем, и яйцо перемещалось вместе с ними по их желанию.
– Ты был когда-нибудь за Старой Пристанью, там, где кирпичные склады? – спросила однажды Джимми.
– Нет.
И она просто-напросто повела его туда – но это не имело отношения к маршруту новой игры.
Прогулка получилась молчаливая – Джимми, ничего не объясняя, провела его между складами, построенными полтораста лет назад, и остановилась у ниши в стене. Мерлин хотел спросить, что это такое, но присмотрелся – и понял: тут должен был сидеть ночной сторож. Вот ведь и кирпичное сиденье, и пространство, достаточное, чтобы человек в тулупе, пройдя боком в узкий вход, уселся там с удобствами; и защита от дождя, ветра и снега.
Джимми заглянула в нишу, повернулась к Мерлину, словно хотела задать вопрос.
Он встревожился – ниша была как раз такая, чтобы двое, затеявшие целоваться, устроились в ней с удобствами. А именно поцелуи с Джимми были совершенно невозможны – это он знал твердо. И он сделал два шага назад.
При этом он смотрел не на Джимми, а на нишу, как будто оттуда могло выпрыгнуть привидение.
Джимми опустила взгляд и пошла прочь.
Мерлин нагнал ее уже у набережной.
Набережная в этот час была территорией подростков и мужиков, пьющих пиво на гранитных ступенях, ведущих к темной воде. Это было удобно – огрызки и рыбьи скелеты летели в реку. Джимми шла, глядя под ноги, и вывела Мерлина к архитектурной причуде – что-то вроде каменного бастиона вдавалось в воду, и было оно украшено скульптурой – лежащим на возвышении дельфином. На бастионе тоже имелся спуск к воде, и там, где начинались ступени, в кладку были вмурованы два фонаря, сделанные под старину. Джимми опять повернулась к Мерлину, и на сей раз он понял вопрос: ну, теперь-то ты узнал?
И вдруг что-то этакое промерцало сквозь тонкий и несокрушимый лед: мужчина, ведя за руку ребенка, шел по набережной, шел и уходил с ребенком, о чем-то говоря, склоняя к малышке голову, шел и уходил, и уходил, и осталось только два силуэта – высокий сутулый и тоненький крошечный…
– Да?.. – спросила Джимми. И Мерлин впервые увидел, как улыбается счастливая женщина.
Только тогда она заговорила – о новой игре, о заказчиках, о необходимости срочно купить фонари, чтобы ночью посылать сигналы. Заговорил и он – отвечал, уточнял, спрашивал. Так дошли до ее дома.
– Пожалуйста, завтра сходи в школу, – напомнила Джимми. – Если что, я Велецкого подключу, он в районо свой человек. Проблема-то дурацкая.
– Схожу.
На том и расстались – просто кивнув друг другу.
Мерлин после прогулки был в странно благостном состоянии. Как будто не по грязным улицам шатался, а по летнему лугу с ромашками. Как будто шел по лугу – и вел за руку любимое существо, при этом не поворачивая к нему головы и не зная даже, каково оно с виду. Эта просветленность загнала его в гипермаркет, где он затоварился по-взрослому: не только взял копченую курочку и пиво, но и коробку яиц, и растительное масло, и хлеб, и любимое печенье матери – сердечки в шоколаде. Он знал – она берет с собой на работу это дешевое печенье, и однажды высказался в том смысле, что шоколад – плохой, со всякими химическими добавками, она даже согласилась, но от дешевого лакомства не отказалась.
Дома его ждал сюрприз: посреди комнаты стоял прислоненный к старому круглому столу велосипед.
– Мать, это что? – спросил потрясенный Мерлин.
– Мишунчик, я же тебе обещала!
– Что ты мне обещала?!?
Ясно было, что какой-то скот воспользовался обычной материнской слепотой. Мерлин в ярости устроил настоящий допрос, довел мать до слез, но выяснил, чьих это рук дело.
– Я завтра же пойду с ребятами к твоему Корчагину, пусть заберет свое убоище и вернет деньги! – сказал он.
– Но, Мишунчик… это же, чтобы ты взялся за учебу, я обещала… другой мне не по карману…
– А по этому городская свалка плачет! Мать, он же старше тебя! Я из этого Корчагина все до копейки вытрясу!
– Мишунчик, не смей этого делать! Я же с ним работаю!
– Не смей?! Значит, ему тебя обманывать можно, а тебе его прищучить – нельзя?!
– Мишунчик, ну их, эти деньги… другие какие-нибудь будут… другие деньги придут… Ты только сходи завтра в школу, поговори, а хочешь – мы вместе сходим? Я на работе отпрошусь?
– Этого еще не хватало! – И Мерлин, чтобы не наговорить матери гадостей, выскочил из квартиры.
Он позвонил ребятам – Данику, Клашке, Яну, Волчищу, всем вкратце объяснил ситуацию. У Яна был приятель-полицейский, которого тоже не мешало бы взять с собой. Даник сказал, что очень пригодился бы Лев Кириллович – старик в парадном костюме выглядел не хуже министра и говорить умел звучно, весомо. Словом, за полчаса сколотили спецназ.
Но, когда Мерлин утром проснулся, матери не было, и велосипед тоже исчез.
Он позвонил матери, и она очень жалобно сказала, что договорилась о продаже проклятого велосипеда: у знакомой, какой-то Ани Игнатьевой, отцу нужен на запчасти.
– Но ты же врешь! – закричал Мерлин. – Ты просто не хочешь разбираться с Корчагиным! Ты врешь, понимаешь?!
При мысли, что какой-то сукин сын безнаказанно надурил его мать, Мерлин впал в натуральный амок и расколотил две тарелки. Он был зол на мать за то, что она такая жалкая, такая нелепая, такая непонятливая, а еще больше зол на того, кто этим бесстыже воспользовался. Мать принадлежала ему, сыну, больше никто не смел ее обманывать, больше никто не смел пользоваться ее деньгами!
Велосипед нашелся в дровяном сарае. Она не имела достаточно фантазии, чтобы спрятать свою покупку как-то поизобретательнее.
Позвонил Лев Кириллович. Даник объяснил ему ситуацию.
– Дружок, я сам схожу и поговорю с этим жуликом, – пообещал старик. – Незачем врываться туда, как дикая дивизия, и доводить теток до инфаркта.
И действительно – пошел, поговорил, разрулил проблему. Мерлин с Волчищем ждали на улице, держа за руль страшный велосипед. И, естественно, ни в какую школу Мерлин в тот день не пошел.
Вечером он, собравшись на игру, молча отдал матери деньги. Говорить с ней он совершенно не желал.
– Мишунчик, ну что, что я должна делать, чтобы ты слушался и учился?! – в отчаянии закричала она.
Он схватился за голову и сбежал.
Она немного поплакала, потом позвонила сестре и все рассказала.
– Ну, почему ты простых вещей не понимаешь? – спросила сестра. – Он взрослый здоровый парень, у него уже должна быть подруга. А ее нет, поэтому он такой агрессивный. Ему свое мужское начало девать некуда, вот он на тебе все и срывает…
– Да какой же взрослый?..
– По-твоему, ребенок? Ты что, хочешь его до сорока лет за ручку на горшочек водить?
– Нет… но он совершенно не слушается…
– Внук тебе нужен, – заявила сестра. – Чтобы ты ему памперсы меняла и Мишку оставила в покое.
Про внука мать слышала не впервые. Она действительно тосковала о малыше – до сих пор тосковала. Она искала в Мерлине приметы белокурого ангелочка, который с первых своих дней стал кумиром, посланным ей с небес, чтобы принимать ее поклонение. Примет этих почитай что не осталось. И ей было странно: она иначе представляла свою материнскую судьбу. Она родила сына, чтобы любить его, но почему никто не предупредил, что большого мальчика нужно любить не так, как крошечного? Видимо, она просто не умела его правильно любить – ну так этому можно научиться. Внук – да, и внука можно полюбить. Но сын – главное счастье жизни, нужно только научиться… ведь у других женщин это как-то получается…
– Он же сам еще ребенок, – сказала мать.
– Да уж, ребенок! – сердито ответила сестра. – Ты Бога моли, чтобы нашлась тридцатилетняя тетка, которой для полного счастья не хватает такого ребенка в постели. Вот она из него и сделает человека. И в школу его пинками загонит, и в институт. А у тебя уже не получится, понимаешь? Прошло то время, когда могло получиться. Вот тогда родят они внука, скинут его на тебя, и все будет замечательно. А теперь извини – у меня котлеты...
Мать знала, что сестра всегда рассуждает правильно, со школьных лет так повелось – младшая наставляла на ум старшую. Но ей было неприятно думать, что у нее заберут сына. Она понимала, что заберут его – почти взрослого. Но знла, что при этом лишится и годовалого, и трехлетнего, и пятилетнего исследователя соседских сараев, раскрашенного зеленкой, и всех тех, которые в ее душе составляли образ Сына, всех, кого она любила, – ведь невозможно любить ребенка только таким, каким видишь его сию минуту; любишь сотню его ипостасей, хранишь тысячу подробностей, и сквозь улыбку тринадцатилетнего вдруг просвечивает первая беззубая улыбка полуторамесячного.
Сын в ее восприятии был существом сложносочиненным, жил одновременно во многих возрастах. Трогательным медвежонком в голубом комбинезончике он бывал чаще всего – мать еще не настолько утратила чувство реальности, чтобы воспринимать его как грудного младенца. Годовалое дитя, ужа научившееся бегать (он сперва побежал, и ему тогда было год и два, потом неохотно стал осваивать чинную ходьбу), было одной из ипостасей сына; одновременно он был трехлетним, с нежными кудряшками (этих кудряшек ей все еще недоставало), и четырехлетним – стриженым молчуном, и семилетним – способным на ровном месте, из ничего, устроить кровавую драку с одноклассниками, и двенадцатилетним – в углу, с книжкой, и четырнадцатилетним – тогда он как-то очень быстро поменял лицо и фигуру, отощал, вытянулся, черты лица стали по-мужски крупными, а раньше мать гордилась, что у сына совершенно девичья мордочка. Когда он молча ужинал на кухне, она, отвернувшись от плиты, где жарила свое вечное блюдо, оладьи, видела в нем сразу всех: медвежонка, сидящего на стуле косолапо, и трехлетнего ангелочка, и молчуна, естественно, и даже того будущего мужчину, которым он мог бы стать лет через пять-шесть. Ее только смущало, что Мерлин однажды сделается похож на своего отца. Она любила в сыне все, но это сходство…
Мать вышла замуж за хорошего человека только потому, что хотела детей. Брак не заладился – она получила дитя и по простоте своей даже не пыталась показать мужу, что он хоть что-то для нее значит. Это был поздний брак, оба привыкли жить одиночками и не знали, как преодолеть полосу отчуждения; нужно ли ее преодолевать, они тоже не знали.
Муж после развода уехал на Север, присылал оттуда хорошие элементы, но несколько лет спустя погиб – его случайно застрелили на охоте. Мать поплакала, а потом сестра нашла нужные слова, чтобы успокоить ее.
– Он теперь уже никогда не приедет и не вмешается в Мишкину жизнь, – сказала сестра.
Мать поняла, что теперь сын принадлежит ей безраздельно. Немного беспокоила, правда, бабушка, которую взяла к себе жить сестра. Но Мерлин был у бабушки нелюбимым внуком – она, бывшая учительница, пыталась его воспитывать, а он не позволял. Так что праву собственности на сына долгие годы ничто не угрожало.
Но сестра стремительно, в трех словах, нарисовала перспективу на ближайшие десять лет и помчалась кормить мужа, а матери предстояло думать об этой перспективе, волноваться, мучиться, надеяться на чудеса и фантазировать: как славно было бы, если бы сын завтра пошел в школу, и приводил в гости одноклассников, и начал бы ухаживать за хорошей девочкой из приличной семьи, ухаживать правильно – дарить цветы и водить в кино, а не слонялся там, где водятся опасные тридцатилетние тетки!
Он должен был вернуться в школу и стать таким, как все: в меру ленивым, но понимающим необходимость получать знания. А мать была готова поддержать это возвращение материально.
С велосипедом не получилось, но эти деньги можно потратить на хорошие штаны и куртку, на школьный рюкзак и конфеты для учителей, если пойти к классной с конфетами, она что-нибудь придумает. А потом, когда все наладится, можно будет начать откладывать деньги на стоматолога. Никуда он, стоматолог, не денется.
5
– Правда, интересно кадр выстроен? – спросила Джимми.
– Да, – согласился Мерлин.
– Чтобы так снять мостки, пришлось на дерево залезть. Но ведь получилось?
– Получилось.
Они были в офисе одни – и не одни. Джимми сервировала кофе на двоих как раз на маленьком столике, под фотографиями. В соседней комнате Ян, Нюшель и новенькая, Маруся, которую привел Волчище, мастерили бумажные мантии для поздравления – юбиляру исполнялось семьдесят пять, и Джимми придумала, что к нему явятся с комплиментами прожитые им годы, нарисованные и раскрашенные гуашью. Живописцы хохотали, и Мерлину очень хотелось заглянуть к ним, посмотреть, что их так смешит. Но Джимми не пускала – то есть, не держала за пуговицу, но ее речь словно по рукам и ногам вязала, пеленала, как малое дитя, – и не вырваться…
– Это было рано утром – видишь, какой свет? Мы нарочно встали ради этого света. Дерево заранее присмотрели. Было прохладно, и я завернулась в одеяло – такое серое колючее одеяло, Сашка Режинский его привез и называл солдатским…
Джимми замолчала, словно спрашивая: помнишь? как это – не помнишь? должен помнить…
Мерлин ничего не понимал в солдатских одеялах, но приказ разбудить воспоминания сработал: он увидел, снизу вверх, как стройная девочка лезет на антресоли за резиновыми сапогами, он услышал мужской голос: «Маришка, ты куда это – на ночь глядя?» Ответа он не услышал, но как-то понял – девочка с компанией ровесников едет на два дня купаться и загорать, а сапоги – им кто-то пообещал покатать их верхом, где-то поблизости от базы отдыха есть конеферма. Маришка была счастлива, ее личико сияло – и вдруг рассыпалось, разлетелось воспоминание, словно состояло из ярких точек, и они стали гаснуть, и разум, ловя последние, впал в отчаяние: какая река, что такое – «неферма»?..
– А про кладбище рассказал Шурка. Тогда вокруг были сплошные Сашки, надо было их как-то различать. Режинский – Сашка, Гликман – Санька, Марчук – Шурка, Невзоров – Санчо… – она опять замолчала, давая Мерлину возможность вспомнить. – Он на пари там переночевал – в спальнике и с большим запасом пива. Стена была потрясающая, но пейзаж – какой-то неживой. Нужно было создать впечатление, будто там кто-то был и только что ушел. Ну вот, придумали стул – и везли его в трамвае, Шурка ехал на этом стуле, и вдруг вошел контролер. Мы стали объяснять контролеру, что раз Шурка не занимает сидения, то может ехать без билета… представляешь, контролера до слез насмешили!..
И опять был вопросительный взгляд.
Историю с контролером Мерлин вспомнил, но это была история, рассказанная девичьим голосом, взахлеб, с хохотом. И прицепилось к ней что-то вроде обрывка, недоуменный вопрос: зачем, разве ничего получше не нашли? Видимо, было спрошено: почему молодых обормотов понесло именно на кладбище, разве нет больше в голоде стен, затянутых диким виноградом?
– А это – двор, где Санька жил. Там был такой странный уголок, вроде средневекового окошка… – Джимми показала на третий снимок. – Потом окошко замуровали, так что оно только у меня и сохранилось.
И вдруг она запела:
– День веселый, час блаженный
Нежная весна.
Стукнул перстень драгоценный
В переплет окна…
Пропела – и посмотрела на Мерлина, словно ожидая: сейчас подхватит.
– Что это? – спросил Мерлин.
– Это Блок. Вы что, в школе Блока не проходили? – удивилась она, поняв по его лицу, что фамилия не вызывает никаких ассоциаций.
Фамилия – да, но отрешенный вид Мерлина объяснялся иначе: в памяти сдвинулись пласты, меж ними возникла щель, из этой щели прилетел девичий голосок, тоньше и звонче Джимминого.
– Над долиной благовонной
Томный запах роз...
Соловей тебе влюбленный
Счастие принес...
Появилась и картинка – мелькнула тонкая голая рука, пролетела справа налево и слева направо, Маришка мыла окно и пела. В ее голосе звенела неистребимая радость. И опять взгляд был – снизу вверх, словно человек, лежащий на низкой постели, смотрит на девушку, моющую окно в его комнате. Смотрит и молчит, потому что сказать нечего, сознание туманится, наплывают странные ощущения: будто комната чужая, и запахи чужие, и надо бы попросить, чтобы вызвали больничную каталку и отвезли домой.
– Ребята хотели сделать альбом на стихи Блока, – сказала Джимми. – И этот снимок как раз был бы для обложки. Но… но не сбылось…
– Да, – отвечая своим мыслям, пробормотал Мерлин.
И тут Джимми схватила его за руку.
– Ты вспомнил?
Мерлин посмотрел на нее с великим недоумением.








