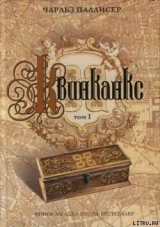
Текст книги "Квинканкс. Том 1"
Автор книги: Чарльз Паллисер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Чарльз Паллисер
Квинканкс: Наследие Джона Хаффама
ЗАМЕЧАНИЕ О МОНЕТАХ
Двенадцать пенсов составляют шиллинг. Двадцать шиллингов составляют фунт.
Имеются и другие монеты: фартинг – четыре фартинга стоят пенни; полпенни – два полпенни стоят пенни; крона, которая стоит пять шиллингов, и полкроны; соверен, который стоит фунт; гинея, которая стоит двадцать один шиллинг.
Quid Quincunce speciosius, qui, in quamcunque partem spectaveris, rectus est?
Что приятней квинканкса, который, с какой стороны ни посмотри, являет взору прямые линии?
Квивтилиан
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ХАФФАМЫ
КНИГА I
ПРЕМУДРОЕ ДИТЯ
Глава 1Происходило это, скорее всего, осенью того же года, в сумерки, чтобы не привлекать внимания. А между тем встречу двух профессионалов, представляющих два главных направления юриспруденции, не прячут обычно от посторонних глаз.
Теперь представим себе, как проходил визит Закона к Справедливости.
Подойдя к нужному дому на одной из улиц у Линкольнз-Инн-Филдз, Закон, воплощенный в низеньком бледном джентльмене лет сорока, с большой головой, поднимается по ступеням и звонит в колокольчик. Дверь немедленно распахивает молодой клерк. Посетитель входит, у него берут шляпу, пальто и перчатки и провожают его в темную заднюю комнатку. Там он видит человека, сидящего за столиком в дальнем конце помещения. Клерк бесшумно удаляется. Второй джентльмен поднимается с чуть заметным кивком и указывает на стул напротив, у огня. Вошедший садится, хозяин садится тоже и уставляет на гостя тяжелый взгляд. Справедливость старше Закона на полтора десятка лет, нос у него надменный, на румяном лице выделяются черные кустистые брови.
После долгой паузы вошедший откашливается:
– Почел за честь, сэр, принять ваше предложение о встрече.
В его словах звучит вежливо-вопросительная нота, но Справедливость словно бы не слышит, продолжая изучать гостя.
Помолчав, Закон спрашивает нервозно:
– Нельзя ли узнать, чем я могу быть вам полезен?
– Вы были осторожны, как я просил?
– Конечно. Уверен, никто за мной не следил.
– Хорошо. Тогда, вероятно, третья сторона ничего не знает о нашей встрече.
– Третья сторона? Сэр, вы говорите загадками. Кого вы имеете в виду?
– Задавать вопросы буду я. – Второй джентльмен лишь слегка выделяет голосом местоимение.
Гость вспыхивает.
Старший джентльмен что-то достает из кармана.
– Так вот, у вас есть клиент, имя которого я написал на этой бумажке и прошу вас его прочесть. – Он ненадолго замолкает, дожидаясь, пока гость рассмотрит надпись и кивнет, потом забирает бумажку назад. – Очень хорошо. Тогда, не теряя времени, перейду к делу: у вашего клиента находится документ, способный нанести очень существенный ущерб интересам стороны, от имени которой я имею честь действовать, и ввиду этого…
Он замолкает, заметив, что лицо гостя вытянулось от изумления.
– Да что вы, сэр, уверяю, я и понятия не имел о таком документе.
– Ну-ну. Тому назад не больше двух недель ваш клиент послал нам копию этого документа, потребовал денег и указал ваше имя, чтобы держать связь.
– Может, это и так… то есть убежден, что это так, раз вы утверждаете. Однако прошу поверить, что я в этом предприятии не более чем приемная контора.
– То есть?
– Я просто пересылаю письма, адресованные мне, но предназначенные для моего клиента. О делах этой особы я знаю не больше, чем почтальон знает о корреспонденции, которую он собирает и разносит.
Хозяин смотрит на гостя:
– Я предполагал, что так может оказаться. – Уголки губ младшего джентльмена ползут в стороны, но при следующих словах возвращаются на место. – Тогда расскажите, где пребывает ваш клиент.
– Дорогой сэр, я не могу.
– Прошу простить, я забыл назвать ставку. – Старший джентльмен достает из кармана что-то хрустящее и кладет на стол.
Закон слегка наклоняется, чтобы рассмотреть. На его лице явственно написана тоскливая алчность.
– Уверяю, дорогой сэр, оказать вам эту услугу я никак не могу.
– О-го! – восклицает старший джентльмен. – Похоже, вы вздумали со мной торговаться? Предупреждаю: если попытаетесь, то убедитесь, что я могу применить и совсем иные стимулы.
– Да нет же, сэр, – запинаясь, бормочет другой. – Вы меня совсем не поняли. Я потрясен вашей щедростью и ничего так не желаю, как быть ее достойным. Но помочь вам совершенно не в моих силах.
– Не советую, приятель, играть со мной в эти игры, – презрительно рявкает собеседник. – Я наводил справки, так что нечего тут изображать щепетильность. «Расчухал твое нутро» – таков, кажется, жаргон ваших клиентов?
Другой джентльмен бледнеет как полотно. Он приподнимается, но, наткнувшись взглядом на предмет, лежащий на столе, остается сидеть.
Справедливость продолжает:
– Желаете, чтобы я привел каталог – или лучше сказать реестр? – делишек, в которых вы замешаны? – Не дождавшись ответа от Закона, он добавляет: – Маленько спекуляций сомнительными векселями, побольше выбивания долгов, и выше головы свидетельств в делах об опеке? Так ведь?
Другой джентльмен ответствует с достоинством:
– Дорогой сэр, вы меня совершенно не поняли. Я просто хотел сказать, что у меня нет нужных вам сведений. Если бы они у меня были, я с удовольствием вам бы их предоставил.
– Вы меня держите за идиота? Как же вы тогда переговариваетесь с клиентом?
– Через третью сторону, которой я отправляю предназначенные для клиента письма.
– Это уже лучше, – рычит собеседник. – Кто такой?
– Очень респектабельный джентльмен, работал в той же отрасли юриспруденции, что и я, но несколько лет назад удалился от дел.
– Интересно-интересно. Будьте любезны записать имя и адрес этого джентльмена, потому что я не угадываю, о ком идет речь, хотя в вашей отрасли юриспруденции джентльменов, отвечающих описанию, раз два и обчелся.
У другого джентльмена вырывается короткий безрадостный смешок. Он вынимает записную книжку, пишет «Мартин Фортисквинс, эскв., Голден-Сквер, 27», вырывает листок и протягивает собеседнику.
Справедливость берет бумажку и, не глядя на нее, бросает:
– Если вы мне понадобитесь, я свяжусь с вами тем же способом. – Тянет руку назад, в темный угол, и осторожно дергает за шнурок колокольчика.
Закон, не отрывая взгляда от предмета на столе, поднимается на ноги. Заметив это, Справедливость небрежно подталкивает к нему этот предмет, и Закон сует его в карман. Когда дверь открывается и входит тот же клерк, Закон неуверенно протягивает хозяину руку. Тот, однако, словно бы не замечает его руки, и Закон поспешно прячет ее в карман. Клерк провожает его к двери, возвращает шляпу, пальто и перчатки – еще мгновение, и Закон вновь оказывается на Керситор-стрит. Он припускает быстрым шагом, нервно оглядываясь. Обогнув угол, другой, третий, он углубляется в уютную подворотню и вынимает из кармана пакет. Тщательно считает, пересчитывает и вновь, не так быстро, пускается в путь.
Глава 2Наш дом, сад, деревня и одна-две мили прилегающей местности – таков был мой мир, ибо ничего другого я не знал, пока тем летом, в Хафеме, мне не открылся мир другой, новый. И теперь, когда я ищу, с чем сравнить предприятие, в которое пустился, мне вспоминается то лето, солнечный день; я, еще не подозревая, что скоро придется уехать, улизнул в тот раз из длительного и тягостного домашнего заточения и растянулся на берегу реки, которая текла через Мортсейский лес к запретным северным землям; радовала меня не столько сама свобода, как то, что она была мною украдена.
Позабыв и о том, почему убежал, и об утекавших драгоценных минутах, я как завороженный всматривался в прозрачные глубины. Я наблюдал там странных созданий, которые так быстро мелькали у меня перед глазами, что готов был принять их за тени, игру солнечного света в толще воды, в водорослях и на рябом, усеянном галькой дне – стоило повернуть голову, и они пропадали. Желая получше их рассмотреть, я ковырял водоросли и гальку палочкой, но поднимал только темное облако, которое затуманивало всю картину. Нужное воспоминание, как мне кажется, похоже на этот прозрачный ручеек, но я решил все же порыться в памяти. Возвращаясь мыслями в самое начало, я вспоминаю только солнце, теплый ветерок и сад. В самую раннюю пору, когда граница мира пролегала по крайним домикам Деревни, мне не видится ни темноты, ни теней, ни хмурого неба.
Быть может, дело в том, что в раннем – самом счастливом – возрасте мы замечаем только тепло, свет и солнце, часы же холода и темноты протекают как сон без сновидений и не откладываются в памяти. Или, возможно, от младенческого сна нас пробуждает именно первое касание холода или темноты.
Первое воспоминание, отчетливо отделенное от прошлого, это конец ясного, солнечного дня, когда удлиняются тени. Наигравшись досыта, я качался на воротах, по ту сторону которых шла вдоль сада дорожка. Мы находились на лужайке с задней стороны дома, ниже располагались террасами еще лужайки, их перерезала гравиевая тропа, местами сменявшаяся ступенями, все это было обнесено высокой стеной из красного кирпича, к ней лепились шпалеры абрикосовых деревьев. На террасах росли орех и шелковица, под покровительственной сенью их тонких длинных ветвей лежали круглые клумбы, на одной из них, ниже, в отдалении, как раз трудился мистер Пимлотт. И в самом низу сада, почти неразличимом, угадывались, как мы их называли, «Заросли» – путаница низкорослых деревьев и густых кустов.
Вспоминаю шершавую поверхность ворот, за которые я держался, раскачиваясь. Металлические острия нагрелись на солнце, ржавчина и черная краска отслаивались под пальцами. Я прижался к воротам, ноги просунул между стоек и отталкивался от столба, изгибаясь то в одну сторону, то в другую, так что створка распахивалась во всю ширь, а затем, под собственным весом, возвращалась назад, все быстрее и быстрее, пока с громким стуком не вставала на место. Я знал, конечно, что нарушаю запрет, и матушка – она сидела за рукодельем в двух шагах оттуда, на садовой скамейке – уже сделала мне замечание.
Под убаюкивающий ритмичный скрип петель я раскачивался взад-вперед, солнце грело мне лицо, легкий ветерок доносил запах цветов и свежескошенной травы. Я то закрывал глаза, прислушиваясь к громкому жужжанию пчел, то взглядывал вверх, где в голубом небе, вслед за воротами, головокружительно взметались курчавые облака.
Внезапно грубый голос рявкнул справа, в самое мое ухо:
– Прекратите немедленно, безобразник. Вам было сказано не делать этого.
Зазевавшись, я позволил створке сильнее, чем рассчитывал, стукнуться о столб и был оглушен ударом. Я не сразу понял, больно мне или нет, но в любом случае знал, как воззвать к сочувствию.
Я набрал было в грудь побольше воздуха, но тот же голос добавил:
– И нечего реветь. Не маленький уже.
– Я ударился, – выкрикнул я.
– Ну и поделом. – Биссетт ухмыльнулась и села рядом с матерью.
– Так нечестно. Это вы виноваты, потому что вы заорали.
– Сыночек, не надо опять дерзить, – проговорила матушка.
– Ненавижу вас, Биссетт, вечно вы все испортите.
– Ах, паршивец! Вижу, придется снова дать вам взбучку.
– А вот и нет, мама вам не разрешила, – оскалился я.
– Врите, да не завирайтесь!
Я знал, что это правда, потому что так мне сказала мама, но она, потихоньку от Биссетт, приложила к губам палец, и мне ничего не оставалось, как промолчать. Биссетт, все еще ворча, взяла из рук матери работу.
– Больше я вашего нахальничанья не потерплю. Никуда не уходите, а то опять возьметесь ломать что-нибудь.
Меня, конечно, возмутило это распоряжение, но, по крайней мере, Биссетт не знала, что я никуда и не собирался, так как главное сегодняшнее удовольствие ожидалось именно здесь, с минуты на минуту.
– Беда, мэм, просто беда, – начала Биссетт. – Она в эти дни работу и вовсе забросила, все крутится вокруг этих работяг из Лимбрика.
– А, ну так они уже скоро заканчивают.
– Вот и хорошо, скатертью дорожка. Терпеть не могу, когда в доме толкутся мужчины. Шуму от них! А беспокойства-то, а грязи, с этими их ведрами, лотками, лестницами. А эта беспутная девка и миссис Белфлауэр – уж ей-то совсем не к лицу – по пять раз на дню приглашают их на кухню.
– Как я понимаю, – робко ввернула матушка, – один из них приходится ей двоюродным братом.
– Да уж, братом, – злобно повторила Биссетт. – Если вы об этом никчемном мальчишке, Джобе Гринслейде, то он ей и вовсе многоюродный, а брат или нет – бабушка надвое сказала. Днем и ночью не разлей вода! Я здесь не хозяйка, но, по мне, мэм, в деревне бы живо сыскалась девушка и благонравная, и опрятная, и служила бы не в пример лучше. – Биссетт говорила невнятно, потому что держала во рту булавки.
– При всех недостатках она добрая и честная. И мастер Джонни к ней привязан. А кроме того, ее мать недавно перенесла горе и мы должны ей помочь.
Биссетт выразительно фыркнула.
– Го-оре, – повторила она. – Яблочко от яблони недалеко падает. Слишком уж вы добры к этой девчонке, мэм.
Тут со стороны Хай-стрит донесся топот стада, а вскоре и оно само прошло мимо ворот, и с ним мальчишка, на которого я смотрел как на удальца: уж очень мастерски-небрежно размахивал он прутом, подгоняя коров. От их грозного мычания, толкотни на узкой дороге у меня по телу пробегала приятная дрожь; в своей безопасности я не сомневался, потому что прятался за крепкими воротами. В тот день, однако, случилось необычное: одна из коров перехватила мой взгляд (иначе не скажешь) и поперек общему движению, с пугающей решительностью оттесняя остальных, направилась к воротам. В ту же секунду мне стало ясно, что ее неотвратимо влекут вперед какие-то жуткие намерения, касавшиеся меня, но я словно прирос к месту. Когда огромная голова животного ткнулась в ворота, я разглядел, как вращались в черных кожаных орбитах выпуклые, налитые кровью глаза, как раздвинулись, словно бы затем, чтобы сомкнуться на моей щеке, громадные губы, как топорщились на тусклом коричневом «газоне» два причудливых «дерева» – мощные витые рога. Я знал: под напором этой могучей головы ворота треснут в одно мгновение, но стоял и смотрел, неспособный пошевелиться.
Наконец я отвернулся и побежал, в ушах отдавались удары сердца, ноги поднимались и опускались, но словно бы не уносили меня с места. Сквозь слезы я видел в нескольких ярдах две расплывчатые фигуры, которые, тревожно глядя на меня, поднялись на ноги: одна – стройная, в клетчатом хлопчатобумажном платье похожая на цветок, другая – застывшая белым пятном на фоне травы.
– Гадкая корова! – вопил я. – Держите ее, а то она меня забодает!
Еще миг, и я спрятал лицо в накрахмаленный белый передник моей няни, она обхватила меня за плечи, плотно прижала к себе и принялась утешать тоном ворчливым, почти что глумливым, к какому прибегала в подобных обстоятельствах.
Главное, что мне вспоминается о Биссетт в то время, это свежий, немного терпкий запах накрахмаленного передника и платья – чуть отдающий яблоком, неуловимо неприятный запах. Закрыв глаза, я вызываю в памяти ее красноватое лицо в обрамлении нескольких седых прядей, которые выглядывали из-под кружевного чепца. Глаза ее были бледновато-серые, тонкие губы делались еще тоньше в тех редких случаях, когда она поджимала их, так что концы их вроде бы – но только вроде бы – чуть приподнимались.
Тут, конечно, можно было бы и поплакать, но Биссетт встряхнула меня со словами:
– Ну-ну, вы уже не маленький. Не сегодня-завтра станете взрослым и должны будете заботиться о своей матери.
Я удивленно поднял на нее глаза, но тут услышал возглас матушки:
– Бояться нечего, сыночек. Коровки ушли. Поди, поцелуй меня.
Я пытался, но Биссетт удержала меня за руку.
– Не балуйте его, мэм, – сказала она. – Смотрите, он вам все нитки спутает.
Я освободил руку и бросился матушке на колени, роняя на землю иголки, нитки и пяльцы. Биссетт ругала нас обоих, но мне было все равно.
Чтобы вызвать в памяти образ матушки, мне не нужно закрывать глаза: каскад светлых локонов падал ей на плечи и грудь, так что, когда я к ней прижался, мои руки и нос погрузились в нежный аромат; милое лицо с кротким ртом; большие голубые глаза, наполнившиеся слезами из сочувствия ко мне.
– Не позволяйте ему докучать вам, мэм, – запротестовала Биссетт. – Посмотрите на свою работу, она вся перепутана и валяется на траве.
– Ну ее, няня, – отвечала матушка.
– Вот еще! Добрая материя и нитки хорошие. Отошлите ребенка к мистеру Пимлотту, пусть донимает его.
– Ну ладно, Джонни. Почему бы тебе не найти мистера Пимлотта и не спросить, что он поделывает. Он как будто роет яму. Как ты думаешь, собирается что-нибудь зарыть?
– Ага, знаю-знаю, – вмешалась няня. – Об этом я и думала вам сказать, мэм: он замыслил сделать себе хорошую новенькую жилетку из того, что по праву принадлежит вам. Но это не его собственность, а ваша, потому что это ваша земля и время, которое он тратит, тоже ваше.
Матушка вздохнула, но больше я ничего не слышал, потому что тут же ринулся через террасу и вниз по ступенькам на лужайку, ровную поверхность которой нарушил небольшой холмик.
– Мистер Пимлотт! Мистер Пимлотт! – закричал я на краю лужайки, где он работал. – Что вы делаете? Вам помочь?
Он стоял на коленях, но при моем появлении поднял свое загорелое лицо и смерил меня взглядом, непонятно что выражавшим. Я его немного робел, отчасти потому, что он принадлежал к этим странным созданиям – мужчинам; других, кроме него, я близко не знал. Я не совсем понимал, что это вообще такое – быть мужчиной, заметил только, что он был большой, пах землей и табаком и кожу на лице имел, судя по виду, грубую.
– Ну-ну, мастер Джонни, – откликнулся он, – только не допекайте меня своими спросами да вопросами. Мне ведь, не в пример некоторым, не за то платят деньги, чтобы я вам отвечал.
– Мне Биссетт велела пойти вас отыскать, чтобы вы мне сказали, чем надо помочь.
– Это не моя забота. Миссис Биссетт мне не начальник – боже упаси. Хоть она и воображает иной раз, будто может мною помыкать.
Я понаблюдал за ним немного, пока он работал молча. Он склонялся над ямой, больше походившей на нору, и неуклюже тыкал в нее каким-то инструментом с длинной ручкой.
– Что вы делаете? – спросил я.
Он не ответил, а взглянул на солнце, заслоняя глаза от его все еще яркого света. Затем он извлек инструмент (в самом деле, очень длинный) и начал стукать его о траву, чтобы сбросить комья земли, попавшие в насадку. Потому что инструмент действительно был очень странный, с полотном, подвернутым с обеих сторон почти как крюк. Мистер Пимлотт положил его и принялся собирать другие инструменты и складывать на траву рядом с большим деревянным ящиком, где они хранились.
– Чем вы сегодня занимались, мистер Пимлотт? – спросил я, изнывая от любопытства.
Все так же молча он начал смазывать металлические поверхности густым, похожим на прозрачный мед жиром, перед тем как завернуть каждый в кусок мягкой кожи и бережно спрятать в ящик. Инструменты всегда меня зачаровывали: грозные зубья грабель, ямкоделатель с двумя остриями, чтобы вырывать чертополох, заступы с тяжелыми деревянными рукоятками, до блеска отполированными от долгой работы, железные зажимы, которыми скреплялся металл с деревом, но в первую очередь полотно лопат, блестевшее так ярко и так удивительно, ведь голый металл сохранял блеск оттого, что его часто и с силой вгоняли в землю.
– А как называется вот это? – спросил я, указывая на ту самую лопату, с длинной рукояткой и необычным завернутым полотном. – Это заступ или садовая лопата?
– Не трогайте, – предостерег мистер Пимлотт. – Она очень острая.
– А эта? – Я указал на другой инструмент, который он при мне ни разу не использовал.
Мистер Пимлотт поднял глаза.
– Эта? Ну, это мой выкопочный нож.
– А что вы им делаете?
Он долго смотрел на меня молча.
– Ну, сорняки выкапываю.
Ободренный этим ответом, я оглядел следы его работы.
– А зачем вы выкопали это дерево? – вопросил я, указывая на грушу, которая лежала на земле с безжалостно выставленными на обозрение корнями.
– В нем гниль завелась.
– Гниль, – повторил я. Это было интересное новое слово, и я произнес его несколько раз, чтобы как следует посмаковать. – Что такое гниль?
– Болезнь такая у деревьев. У людей тоже. Разъедает и тех, и других изнутри.
Внезапно он разинул рот, показывая несколько почерневших обломков – остатки зубов, и издал хриплый звук, который я принял за смешок.
– Но на вид оно хорошее. Стыдно вроде бы его убивать.
– Все, что состарилось или заболело, нужно выбрасывать или убивать. А у кого, как не у меня, есть такое право – выкапывать деревья?
– Почему у вас, мистер Пимлотт? Это ведь дерево моей матери?
Он отвернулся и через плечо выговорил самый длинный ответ, какой я когда-либо от него слышал:
– Хотите знать почему? Потому, что это я его посадил, вот почему. За десять лет до того, как ваша мать здесь появилась, а о вас и речь не ведется. Что вы думаете? Оно само по себе выросло? Все в этом мире нужно сначала сажать. А потом выращивать. Вас вот миссис Биссетт выращивает. То есть ей надо бы заниматься своим делом, а не сплетничать и пакостить и позволять вам отрывать от дела людей, у которых, не в пример ей, невпроворот работы.
Когда он закончил, я минуту-две помолчал, но потом меня снова одолело любопытство:
– Эта яма – чтобы похоронить в ней дерево?
Мистер Пимлотт мотнул головой.
– Вы хотите посадить другое?
– Нет. Если уж вам приспичило знать, она, чтобы поймать Старину Кроторыла.
– Вы хотели сказать «крота», мистер Пимлотт. Так правильно говорят.
– Что я хотел, то и сказал.
– А почему вы его ловите, мистер Пимлотт?
– А потому, что он роется на лужайке вашей матери, а она мне платит, чтобы я держал лужайку в порядке. Он не признает никаких тебе правов собственности, этот Старина Кроторыл. А потому его надобно убить.
– Но это несправедливо.
Несправедливо, мастер Джон? – Он обернулся и смерил меня пристальным взглядом. – Когда он является и за здорово живешь хапает столько навозных червей, сколько ему вздумается?
Я тут же заметил ошибку в его доводе.
– А нам черви не нужны.
– Не нужны? Ну да, конечно. Но еще вам не нужно, чтобы кто ни попадя нахально накладывал на них лапу – это ведь ваши черви.
Я задумался, так как не сомневался, что ответ непременно найдется, но садовник, не дожидаясь, продолжил:
– Ну ладно, как бы там ни было, он наловил достаточно червей, а теперь я поймаю его: у него есть кое-что мне нужное, и если исхитрюсь, я это от него получу. Так уж мир устроен: или ты съешь, или тебя съедят.
– Значит, вы выроете яму, он туда свалится и попадет к вам в руки?
Мистер Пимлотт состроил гримасу.
– Только не он. Он чересчур для этого хитер. Он ведь живет под землей, так? В ямах он знает толк, вроде как я в растениях или миссис Биссетт в чужих делах. Нет-нет, надобно так скумекать, чтобы захватить Старину Кроторыла, когда он спит.
– Как же вы это сделаете, мистер Пимлотт?
– Есть только один способ: устроить так, чтобы он сам попался. – Он указал на яму. – Видите, это одна из его нор, здесь он не будет ждать ничего худого. Я вырою внутри глубокую яму – для того и нужна эта самая кротовая лопата, – а на дно положу ловушку с пружиной и прикрою листьями и землей. И если смастачу ловко, то Старина Кроторыл явится за навозными червями и ловушка ухватит его за лапу, а то и за морду. Тогда он у меня сделается портняжкой и скроит мне новую одежку.
На миг мне представилось, как пойманный крот, с иглой и нитками в тоненьких лапках, делает стежки, и я недоверчиво хмыкнул. Видя, что я не понимаю, мистер Пимлотт потрогал свою жилетку – я часто любовался ее гладкостью и темным блеском.
– Жуть какая! – восхищенно прошептал я. Глядя на кротовую шкурку, я поражался тому, что она, такая красивая, извлечена из сырой земли.
– Потому-то я и не беру капкан. Не хочу испортить шубку.
– Неужели не жалко! – выкрикнул я и представил себе, как крот дергается, умирая во тьме. Мистер Пимлотт усмехнулся. Тут я что-то вспомнил и добавил: – Биссетт говорила, Кроторыл не ваш и нечего на него зариться.
– Правда? – Мистер Пимлотт отвернулся.
– Сколько вам нужно на жилетку?
Но он не стал меня слушать, закрыл свой ящик, вскинул на плечо длинные инструменты и направился в верхний конец сада. Я проследил, как он приложил пальцы по лбу, приветствуя мою матушку, небрежно кивнул Биссетт, вышел через ворота на дорогу и повернул к Хай-стрит и к своему аккуратному домику, стоявшему поблизости.
Внезапно я сообразил, что остался один в нижней части сада, и мне в голову пришла дерзкая, лихая мысль. Убедившись, что Биссетт и матушка на меня не смотрят, я двинулся через яблоневый сад туда, где меня невозможно было разглядеть, а оттуда еще дальше, в Заросли. Пробираться сквозь высокую траву и нестриженый спутанный кустарник на опушке было просто, но за нею, словно бы моля о чуточке света, причудливо переплетали свои сучья низкие вековые деревья, вокруг начала сгущаться тьма, и зловещие ветки потянулись ко мне, как длинные пальцы гигантских рук. В двух шагах находился сад, где жужжали пчелы и шелестели под ветерком листья, но мне казалось, что я шагнул через дверь в иной мир, лишенный звуков.
Что-то мазнуло меня по лицу, я отмахнулся, и внезапно передо мной возник образ: лицо со слепыми глазницами, как у мраморных голов на стенах деревенской церкви. Черты стерлись – съедены гнилью, подумалось мне, – и поверхность камня походила на кожу в глубоких рябинах. Испугавшись, я шагнул было назад, но, к моему ужасу, что-то меня держало. Я дернулся опять – бесполезно. Сердце колотилось, испуг переходил в панику. Я еще раз отчаянно крутанулся и наконец освободился. Улепетывая, я услышал крик, доносившийся как будто с очень далекого расстояния. Крик раздался снова, и я узнал голос моей няни.
Почти что благодарный за этот призыв, я пробился через спутанный подлесок в ярко освещенный сад.
– Мастер Джонни! – звала сверху невидимая Биссетт. – Где вы?
Была в ее голосе нота страха, или мне почудилось? Я поспешил по ступеням и на верхней террасе нашел Биссетт: она, повернувшись, смотрела вправо, и я проследил за ее взглядом.
Матушка у ворот беседовала с человеком, которого я прежде никогда не видел. Незнакомец стоял на дороге и очень взволнованно что-то говорил, глаза его были прикованы к лицу моей матери, руки (в одной он держал трость) жестикулировали; матушка слушала с опущенным взглядом, изредка кивая. Сперва я подумал, что это разносчик, поскольку из посторонних к нам ходили одни разносчики, и было похоже, что незнакомец убеждает мать сделать какую-то покупку. Но потом стало ясно, что он и одет иначе и не навьючен тюками.
Незнакомец был старше матери, но младше Биссетт, ростом не вышел, хотя большая голова могла бы принадлежать человеку куда более крупному. На крутой макушке росла масса вьющихся рыжеватых волос, в беспорядке падавшая на уши. Живое лицо отражало, казалось, даже самые мимолетные чувства; преобладающей его чертой был большой, похожий на клюв нос. Рот был широкий и тонкий, большие, ярко-голубые глаза глубоко сидели в выступающих орбитах. Штаны его, когда-то клетчатые, выцвели настолько, что рисунок сделался почти неразличим; грубое зеленое сукно сюртука местами истерлось до дыр; белый шарф, из хорошей тонкой шерсти, пожелтел от старости. Я бы на все это не обратил внимания, если бы Биссетт не оглядывала незнакомца так пристально, но, пока я смотрел, мне внезапно пришло в голову, что в жизни матушки существуют стороны, о которых я ничего не знаю, и в тот миг она показалась мне чужой.
Заметив нас с Биссетт, незнакомец прервался и церемонно коснулся шляпы, приветствуя и ее, и меня.
– Добрейшего вам вечера, госпожа, и юному джентльмену тоже. Я вот рассказывал этой молодой леди, – незнакомец обращался к Биссетт, но посылал дружелюбные взгляды и мне, включая тем самым в разговор, – как так получилось, что мне, чужому в этих краях человеку и странствующему работнику, приходится просить о милости, хотя прежде я ничего такого не делал.
Такая быстрая манера речи была мне незнакома, и приходилось напрягаться, чтобы уловить смысл. Произнося слова, он поворачивался то в одну сторону, то в другую, словно стараясь определить, кто здесь главный – матушка или моя няня.
– Так не поможете ли честному обнищавшему работяге, к которому счастье повернулось спиной, – говорил он матери, – не дадите ли ему ночлег и еды, а то он весь день только и знал, что мерил ногами дорогу?
– Поди прочь, – внезапно крикнула моя няня. Лицо незнакомца мгновенно потемнело, брови насупились; он повернулся к Биссетт.
– Убирайся прочь, – снова вскричала Биссетт, напуганная, наверное, выражением его лица. – А то я позову мистера Пимлотта.
Лоб незнакомца тут же разгладился.
– Для меня это самое то – поговорить с хозяином дома.
Биссетт обратила взгляд к матери, которая зарделась и опустила глаза. Незнакомец, удивленный, обратился ко мне:
– Где ваш отец, юный джентльмен?
– У меня его нет.
– Ну-ну, юный господин, – бродяга улыбнулся моей матери, – отец есть у каждого.
– Нет, у меня его никогда не было.
– Убирайся прочь со своим бесстыдством, – крикнула Биссетт.
Словно бы не слыша ее, незнакомец обратился к матушке:
– Что скажете, миссис Пимлотт? Не найдете ли для меня пенни-другого?
– Глупости, мистер Пимлотт – это садовник, – воскликнул я. – А наша фамилия – Мелламфи.
– Так как же, миссис Мелламфи, окажете мне милость?
– Я… боюсь, у меня нет с собой денег.
Произнося это, матушка нервно коснулась серебряного цилиндрика, который всегда носила на цепочке-поясе; там она держала ключи. Я заметил, что большие глаза незнакомца испытующе проследили за ее движением.
– А здесь что, – указал он, – тоже ничего нет?
Она впервые взглянула на него с тревогой и замотала головой.
– Ни гроша во всем доме? Даже пары медяков? Не спуская с него глаз, матушка сказала:
– Биссетт, не принесете ли мне шестипенсовик с письменного стола?
– Нет, мэм, – решительно отозвалась няня. – Покуда тут этот бездельник, я вас и мастера Джонни из виду не выпущу.
– Думаю, мы должны ему помочь, няня. Так будет лучше.
– Проявите милосердие, госпожа, – нахально вставил бродяга, обращаясь к Биссетт.
– Милосердие для тех, кто его заслуживает, а у тебя на лице написано, что по тебе плачет виселица; готова поручиться, с законом ты не в ладах. Если я куда пойду, то за констеблем, тогда и посмотрим, что ты за птица.
– Чтоб тебя, старая карга, да что ты суешься, – вскричал бродяга, враз сбросив маску благодушия.
С ругательством он шагнул вперед, поднял трость и положил руку на ворота, словно собираясь их открыть. Матушка вскрикнула и отступила, я же ринулся к воротам, чтобы отстоять свои владения.
– Посмейте только войти! Я вас с ног собью, сяду сверху и буду сидеть, пока не придет мистер Пимлотт.








