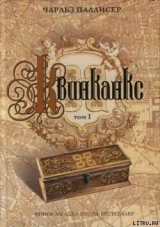
Текст книги "Квинканкс. Том 1"
Автор книги: Чарльз Паллисер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
С прибытием из Лондона посылки с книгами в моей жизни началась новая глава. По утрам, после завтрака, мы с матушкой усаживались за противоположные концы стола в общей комнате, на колени она клала вышивку, а перед собой – открытый букварь, откуда читала мне урок, я же слушал, или, высунув от усердия язык и сосредоточенно хмуря брови, вырисовывал буквы на грифельной доске, или корпел над задачником.
Математика под матушкиным руководством продвигалась туго, зато мне очень нравилось слушать чтение и учиться читать самому.
Еще не умея разбирать слова, я был заворожен видом книг: иллюстрациями и оформлением. В первую очередь меня манили геральдика и карты – в особенности карты, которых имелось в доме немало, а больше всего одна, громадная, на веленевой бумаге, изображавшая окрестности Хафема и датированная почти веком ранее, – ее я рассматривал часами. (Загадка: в углу старинным почерком была написана фамилия дяди Мартина – «Фортисквинс».) Видя мой интерес, матушка договорилась с дядей Мартином, чтобы он послал мне карту Лондона, и в один прекрасный день к нам прибыл объемистый пакет: захватывающе подробная карта на двадцати двух страницах, опубликованная на следующий год после моего рождения. Я изучал ее час за часом, восхищаясь обширностью Лондона. Город сделался для меня местом не действительным, а воображаемым; чтобы прочитать сотни названий улиц, я торопился освоить грамоту. Вскоре я уже жадно поглощал «Дневник Чумного года» Дефо и страйповское издание «Обозрения Лондона» Стоу, справлялся одновременно по карте и завороженно отмечал, как менялся город со временем. Таким способом я «узнал» Лондон и был уверен, что не заблудился бы, по крайней мере, в его центральных районах.
Наверное, я сделался, что называется, странным ребенком. Помню, как выглядывал ночью в окно и дивился, как странно все устроено: здесь деревья и дома, а там, наверху, луна и звезды, а самое странное, что я тут сижу и их рассматриваю. Я знал, что сверху на меня глядит Господь, потому что так говорили Биссетт и матушка. Няня уверяла, что, если я буду хорошим, то отправлюсь на веки вечные на небеса, а если буду плохим, то отправлюсь в ад. Однажды, лежа в постели, я попытался представить себе эти «веки вечные». У меня в воображении возникла гигантская пропасть, куда я падаю, падаю и падаю, потому что дна у нее нет; матушка, няня, деревня – все это, по мере падения в нескончаемый пролом, делалось крохотным, отдаленным и бессмысленным; волосы у меня встали дыбом, сердце отчаянно заколотилось, и наконец я с усилием сосредоточил мысли на чем-то другом.
Как, наверное, все дети, я страшился в вещах их необусловленности, сомнительности. Мне хотелось, чтобы все имело цель, составляло часть композиции. Казалось, если я пренебрегу справедливостью, то нарушу композицию, и тогда, сотворив нечто безобразное и бессмысленное, лишусь права осуждать несправедливость, направленную против меня самого, и, еще того хуже, лишусь права надеяться на то, что в мире существует справедливость и порядок. Свою жизнь я видел как постепенное развертывание замысла, а удалось мне это или нет, еще предстоит узнать.
Выучившись читать, я нашел в книгах неиссякаемый источник удовольствия. В исторических и художественных сочинениях (я поглощал их часами, лежа на полу в общей комнате, при дневном свете, падавшем в окна у меня за спиной) мне виделась некая свобода, богатство опыта, которого мне, жившему в затворничестве, так не хватало. Иногда, наскучив чтением, я развлекался иначе: глядел из большого окна, как мимо проходит деревенский люд. Вот спешит фельдшер Джеймс Феттиплейс, а вот почтмейстер мистер Пассант со своей маленькой дочуркой. Вот неуверенно ступает под дождем в башмаках на толстой деревянной подошве мисс Медоукрофт. А по солнечным дням появлялись маленькие Яллопы, сыновья главного деревенского бакалейщика, с молодым викарием, приставленным их учить. Дети, в отличие от взрослых, бросали иной раз взгляд на наш дом, и мне чудилось, что они при этом посмеиваются. Ни с кем из этих людей я не разговаривал, но их жизнь меня интересовала, и я сочинял про них истории: как мистер Яллоп в детстве сбежал на корабль, нажил себе состояние и женился на миссис Яллоп против воли ее родителей. Викарий был богатым герцогом, который инкогнито явился в деревню, чтобы искать руки мисс Летиции Медоукрофт, дочери приходского священника. Я спрашивал про них миссис Белфлауэр и Сьюки, но мои фантазии казались мне не такими скучными и, как ни странно, более правдоподобными, чем их рассказы.
Шли месяцы, миновал год, потом другой, и мне надоело запускать волчок и катать обруч на лужайках-террасах; я все больше злился из-за того, что не могу выйти за пределы Дома и сада. Замечу между прочим: ни разу с тех пор я не видел у мистера Пимлотта кротовую лопату. (Это подтверждало мои подозрения, что он одолжил ее бродяге, помогая ему проникнуть в дом.) И еще я не отваживался больше забираться в Заросли, прежде всего из страха, но также и по другой причине: вероятно, из суеверного желания сохранить некую неисследованную область, опасность, которой боишься, но знаешь в то же время, что можешь встретить ее лицом к лицу и при этом не пострадать.
В особенности я досадовал из-за своих ежедневных прогулок, поскольку деревенские ребятишки посмеивались, видя, как меня сопровождают, словно стражники, матушка или Сьюки; поэтому я обыкновенно забегал далеко вперед и делал вид, что гуляю один. Летом, видя детей, игравших на Лугах в орлянку, поцелуй в кружке или урони-платок, я завидовал тому, что они бегают босиком. Долгими летними вечерами я наблюдал из наших передних окон, как они на широкой улице играли в волан.
Но в первую очередь – и в то время, и позднее, когда я подрос и мне позволили уходить дальше от дома, – я завидовал моим ровесникам, слыша, как они перекликаются у нас над головами с высоких ветвей, или видя, как они купаются в реке – ныряющие с берега тела мелькали в воздухе белой молнией. Раз или два, гуляя со Сьюки, мы встречали ее братьев, прежде всего Гарри, который был всего-то на несколько лет старше меня, и заставали его за самыми увлекательными, как мне казалось, занятиями: он помогал гнать скот, пугал ворон или жал пшеницу. А вот Джоб попадался нам на каждом шагу, и почти всегда ему было с нами по пути.
Джоб мне нравился, в особенности когда он не хихикал и не перешептывался со Сьюки, а рассказывал, чем он занимался мальчишкой. Он очень любил плавать и решил, что ему позволят научить и меня. Я попросил матушку, и в конце концов она разрешила.
И вот однажды, ясным воскресным днем, мы с Джобом отправились на реку, к запруде у Твайкотта. Учителем он оказался толковым, и в первый же день я очень многое освоил. Меня восхищало, как он нырял с берега и плыл под водой, я завидовал его умению, но не смел и подумать о том, чтобы повторить его подвиги, в особенности когда он проплывал под затвором заброшенной мельницы. Он попытался было меня научить, но, видя, как я напуган, сдался и сосредоточился на обычном плавании.
Такое у нас выработалось обыкновение, что в воскресные дни Джоб меня учил, а потом мы вместе отправлялись ко мне домой и пили чай на кухне со Сьюки и миссис Белфлауэр Через месяц-другой, однако, Сьюки поведала мне со слезами на глазах, что теперь я его очень долго не увижу. Он внесен в список новобранцев. (Об этом, как она объяснила, позаботился мистер Эмерис, которому миссис Биссетт нашептала, будто он участвовал в попытке ограбления нашего дома.) Я был так расстроен, что матери пришло в голову спросить Сьюки, не сможет ли старший из ее младших братьев, Гарри, дальше со мной заниматься. Сьюки удивленно подняла брови, но сказала, что, наверное, сможет.
И вот на следующее воскресенье я отправился на реку в компании Гарри, по большей части молчавшего, поскольку он не любил бросать слова на ветер, да и не рассчитывал услышать от меня ничего интересного. Это был стройный паренек с соломенными волосами, тяжелой челюстью и бледно-голубыми глазами. Он оказался не так уступчив, как Джоб, и требовал, чтобы я прежде всего научился находиться под водой и таким образом преодолел свой природный страх; мой испуг еще больше убедил его в том, что он прав. Он злорадно окунул меня с головой и держал так, хотя я барахтался и вырывался. Я искренне думал, что тону; помню, когда он наконец меня выпустил и я выбрался на берег, то, лежа там, хватая воздух и отплевываясь, я не сомневался, что доживаю последние минуты. Мой взгляд упирался в ближайшие ворота – обыкновенные ворота в ограде, окружавшей поле, – и они стоят у меня в памяти до сих пор, словно картина, помещенная в раму. В ближайшие несколько Дней я все предметы видел как бы впервые, новыми глазами.
Как ни странно, метод Гарри подействовал, я уже не боялся погружаться с головой и сделался таким искусником, что мы с ним начали соревноваться, кто быстрее проплывет под затвором. Но на следующее лето у Гарри не было времени на уроки, а матушка не пускала меня плавать одного, хотя, как я втайне думал, одному было бы безопасней, чем с таким наставником.
Я все глубже и глубже погружался в книги. Вдобавок к немалым домашним запасам, регулярно приходили все новые посылки от дяди Марти. Я прочел все имевшееся в библиотеке (а вернее, разбросанное по всему дому, потому что у нас не было помещения, которое бы служило именно библиотекой) и вскоре научился относить книги к нескольким вполне определенным категориям. Это были новые книги, присланные нам с матушкой из Лондона, романы приключенческие, романы бытовые, детские сказки и так далее. Наличествовали и тома куда более старые, изданные, самое меньшее, пять-шесть десятков лет назад и посвященные таким скучным предметам, как управление поместьем или сельское хозяйство, хотя попадались среди них и книги об истории, о путешествиях, а также учебник латыни. Я выделял их в особый раздел не только из-за их возраста, но и потому, что на них имелся очень простой экслибрис: всего лишь геральдический орел, а сверху инициалы «Д. Ф.». Их следовало отличать от другого раздела, книг преимущественно двадцати-тридцати лет давности, с удаленными, как мне показалось, экслибрисами. Все они трактовали вопросы юриспруденции, и я с досадой отложил их в сторону. И наконец, в немалом числе имелись детские книжки моей матери – хотя в этом я не был уверен, потому что они не были подписаны. Точнее говоря, у всех, за редкими исключениями, был отрезан край форзаца.
Освоив грамоту, я от корки до корки изучил «Тысячу и одну ночь» – сказки экзотические, но нередко грубые и непристойные, отчего матушка читала мне их не полностью. В особенности нравилась мне длинная история об изобретательном – однако, на мой вкус, нередко неразборчивом – юноше Ала-ад-Дине, который переживает одно за другим невероятные приключения, чтобы наконец поправить дела своей обедневшей матери. И еще я прочитал, на сей раз до самой развязки, историю Сайеда Наомуна, который последовал за своей женой на кладбище и обнаружил ее с женщиной-гулем.
Я подхватил привычку или усвоил способность (не знаю, как лучше это определить) теряться (или, напротив, находить себя?) в книге, полностью отрешаясь от окружающего мира. (Кстати, впоследствии этот навык неоднократно служил мне добрую службу.) Я глотал труды по философии, путешествиям, истории и литературе, не успев даже усвоить значение этих терминов и научиться их различать. Не берусь перечислять все странные закоулки, куда я забредал, перспективы, мелькавшие у меня перед глазами, повороты, которым я следовал через сумрак. Часто я сбивался с толку, но проблески чего-то громадного, глубокомысленного, загадочного поддерживали во мне интерес. Плутал в обширных велеречивых писаниях века прошлого (Великий Хан[1]1
Великий Хан Литературы – прозвище, данное писателем Тобиасом Смоллетом выдающемуся лексикографу Сэмюэлю Джонсону (1709—1784).
[Закрыть]) и в напряженных, суматошных пьесах и прозе века позапрошлого. Мне открывались – прежде всего у Шекспира – страсти, природа которых обычно бывала непонятна, но проявления завораживали. Я читал о прокаженных, как они в давние века бродили по Англии, звоня в колокольчик и выкрикивая: «Нечист! Нечист!», как прятали под капюшонами изуродованные лица; когда же они теряли последние силы, над ними читали заупокойную службу и запирали их в лепрозорий. Чтобы узнать, правдиво ли повествуют о Востоке мои любимые арабские сказки, я поглощал отчеты путешественников, читал о родах, приверженных тайному культу многоголовых богинь, о том, как его последователи душили по ночам случайно выбранных прохожих, принося их в жертву своим божествам, читал о ревнителях другого учения, находивших смерть под колесницей с их идолом. Читал о ненавидимой и презираемой индийской касте, члены которой появлялись на улице только по ночам и убирали нечистоты.
Матушка подолгу читала мне произведения сэра Вальтера Скотта, теперь же я самостоятельно принялся за его романы, в которых вымысел так искусно переплетен с историческими событиями, что их трудно отличить. Наверное, чтение исторических книг зародило во мне восторженный интерес к прошлому, к тому, откуда что взялось. Взрослые не помогали мне удовлетворить мое любопытство, только миссис Белфлауэр рассказывала о местных знатных родах, но ее повествования я не относил к разряду исторических, потому что она не указывала точного времени.
Мне все больше и больше хотелось узнать о прошлом. Откуда я происхожу? Где жила прежде моя мать? Расспросы она не любила, отвечала только, что росла в Лондоне. Усвоив, что наши предки не жили в этой деревне, я ничего так не желал, как обрести принадлежность, корни, раскрыть, что было до моего рождения.
Ключ я мог найти только в книгах. Я внимательнее изучил те, которые, видимо, принадлежали моей матери. Кое-где в углу форзаца мне попались буквы «М. X.», и, поскольку матушку звали Мэри, оставалось предположить, что это ее инициалы. Далее я обратился к книгам по правоведению, ранее отложенным в сторону, и заметил, что в них когда-то были вклеены экслибрисы, но потом все до единого кто-то вырвал. Однако, поскольку удалены они были неаккуратно, я, сопоставляя остатки, восстановил оригинал. Он был похож на щит со знакомым рисунком из пяти четырехлепестковых роз. Наверху стояли слова: «Ех libris Дж. X.», внизу – еще строчка, собрав которую по буковке я прочитал: Tuta rosa coram spinis. Все это было очень загадочно, однако приближалось уже время, когда матушка обещала удовлетворить мое любопытство, поэтому я приготовился терпеливо ждать Рождества.
Я предполагал, что слова эти латинские. Матушка не бралась учить меня этому языку, но я познакомился с ним на воскресных службах в церкви. В одно из воскресений произошло нечто, о чем я должен сейчас рассказать.
Была осень, мы отправились в церковь; матушка надела лучшую шляпку, желтое шелковое платье и набросила сверху мериносовый плащ; я был в высоких сапогах с отворотами, в синем сюртуке, светло-желтой жилетке, белом галстуке и кремовых штанах; как бывает осенью, к ощущению полноты жизни добавлялось зревшее в воздухе предчувствие непогоды. На деревьях лопались каштаны; мимо прошло несколько молодых людей с корзинками лещины и буковых орехов, которые они с утра пораньше собрали в лесу, чтобы, по деревенскому обычаю, преподнести своим возлюбленным. На трубах и соломенных крышах собирались ласточки, готовясь лететь в теплые края.
Как всегда, мы явились в церковь едва ли не первыми и проскользнули на нашу тесную скамью (сидели мы далеко позади и за колонной). Под визг и щебет настраиваемых инструментов церковного оркестра – кларнетов, труб, тромбонов, фаготов, валторн, скрипок и контрабасов – я наблюдал за мистером Эмерисом, который, с величавым достоинством сжимая свой жезл, сопровождал приходских почетных лиц через толпу деревенских жителей (они уже успели заполнить церковь и теперь почтительно расступались) к их скамьям в первом ряду. Эти скамьи, откуда был хорошо виден алтарь, принадлежали их родам как неотчуждаемая собственность, и я, с тех пор как стал интересоваться геральдикой, очень злился, что мы не владеем одной из них.
Наконец на трехэтажную кафедру взошел священник, Доктор Медоукрофт. Клерк Эдваусон, внизу у аналоя, возгласил номер первого гимна, и служба началась. Пока оркестр с хрипеньем и свистом наяривал Утренний гимн, я, как обычно, следил за многоцветными тенями, перерезавшими пыльные лучи, которые шли от витражей.
От гимнов у меня сводило скулы, потому что их язык был скучен. Но я наслаждался словами и фразами Книги общей молитвы и псалмов, прежде всего названиями грехов, которые звучали настолько театрально, что я никак не мог бы отнести их к себе: мстительность, жестокосердие, идолопоклонство, алчность, суета и непотребство. Многих из них я не понимал и позднее, обнаружив, что обозначаемые ими понятия уже мне известны, был разочарован. Но с особым нетерпением я ожидал проповеди, не потому, правда, что меня хоть сколько-нибудь интересовало ее содержание. (Постепенно я понял, что священник заготовил набор проповедей, которые повторяет каждые два года, скромно полагая, что на такой длительный срок они в памяти слушателей не удержатся.) Во время проповеди я мог на досуге разглядывать мемориальные плиты из бледного мрамора, украшавшие стены по соседству, разгадывать смысл латинских надписей и задаваться вопросом, что сталось ныне с семействами, которые бахвалились древностью своего рода и заслугами предков. Их имена не встречались мне нигде, кроме как в названиях соседних деревень: Деспенсер, Деламейтер, Момпессон, Торкард, Сатчвилл и Лейси, а также в топонимах наподобие Хэмптон-Торкард, Стоук-Момпессон, Сент-Джонс-Лейси и прочие.
Однако с нашей скамьи почти не был виден самый роскошный в церкви памятник, на стене напротив алтаря. Я знал, что, едва служба закончится, мать, по своему неизменному обыкновению, покинет церковь первой, и решился на этот раз подобраться поближе и рассмотреть памятник хорошенько. При звуках заключительного гимна матушка поднялась на ноги, я же соскочил со скамьи и двинулся вперед. Обернувшись, чтобы послать ей улыбку, я поймал ее испуганный взгляд. Но это меня не смутило, я остановился перед рядами скамей и впервые увидел, что бывает после нашего ухода: владельцы скамей ждут, пока доктор Медоу-крофт займет место в дверях, а потом вереницей следуют мимо, обмениваясь с ним рукопожатиями и словечком-другим.
Пока тянулся этот церемониал, я вышел вперед, чтобы взглянуть на памятник. Он походил на гигантский каменный стол, под которым располагался еще один, и именно этот нижний привлек мое внимание в первую очередь, так как на нем покоился скелет, словно бы в насмешку повторявший позу фигуры с верхнего стола. Верхняя скульптура изображала рыцаря в великолепных доспехах, набожно скрестившего руки на груди. Холодный черный мрамор местами был испещрен мелкими щербинами, местами же отполирован до блеска проходившими мимо людьми. Выражение лица, источенного временем, не читалось, однако надпись из медных букв под ногами рыцаря, хоть и со сглаженным рельефом, еще можно было различить: «Жоффруа де Хафем, эскв.». Вглядевшись пристальней, я обнаружил снизу еще строчку: Tuta rosa coram spinis.
Тут матушка схватила меня за руку и прошипела:
– До чего же непослушный мальчишка.
Она повела меня к двери, и мы оказались в хвосте очереди, следовавшей мимо священника.
Когда мы с ним поравнялись, он удивленно поднял брови и протянул матушке руку.
– Рад вас приветствовать, миссис Мелламфи. Часто вижу вас в заднем ряду во время проповеди и размышляю о том, что на небесах более радости будет[2]2
Евангелие от Луки, 15:7.
[Закрыть]… помните?
Матушка зарделась и быстро кивнула.
По пути из церкви я рассуждал:
– Ерунда какая-то. Ну что за радости в этой церкви?
Матушка молчала, все еще сердясь на меня, но я об этом Не думал, потому что в пути домой и за обедом, которым нас встретила миссис Белфлауэр, мои мысли были заняты другим. Сегодняшние открытия так дразнили мое любопытство, что я решил, не дожидаясь Рождества, до которого оставалось еще несколько месяцев, тут же приступить к расспросам.
И вот, в тот же день за чаем (сидя дома в уюте и безопасности, меж тем как снаружи все сильнее задувал ветер), я спросил:
– Мама, что значит «Дж. X.»? Мне эти буквы попадались в книгах.
– Доедай бутерброды, Джонни, и не задавай лишних вопросов.
– Я хочу лимонного кекса. – По правилам полагалось сперва закончить с бутербродами, но я указал на очередной шедевр миссис Белфлауэр, стоявший посреди стола. – И еще я хочу узнать про «Дж. X.». И что значат те латинские слова.
– Мой отец говорил, что они означают: «Защита розы в ее шипах». Это фамильный девиз. То есть вот так предки старались жить.
Мысль о том, чтобы иметь девиз и им руководствоваться в жизни, мне понравилась, но смутил принцип, состоявший в том, чтобы прятаться и защищаться.
– Это он был «Дж. X.», правда? – Матушка заколебалась, и я продолжил: – Помнишь, ты обещала ответить на мои вопросы в следующее Рождество? Оно уже скоро, так ответь сейчас.
– О чем ты хочешь знать?
– Во-первых, как звали твоего папу?
– Этого, Джонни, я тебе сказать не могу.
Раздался стук в дверь, и вошла Сьюки.
– Мэм, можно убирать чайные приборы?
– Да, Сьюки. – Перехватив мой взгляд, мать добавила: – Только оставь кекс и тарелку для мастера Джонни.
Помня, как смутилась однажды матушка, когда я задал этот вопрос при миссис Белфлауэр, я добавил:
– И еще хочу узнать о своем папе.
Мать ответила удивленным взглядом, Сьюки, как я заметил, внезапно подняла голову от подноса, куда складывала чашки. Когда Сьюки с подносом удалилась, матушка вышла из-за стола и села у окна на софу.
– Помнишь шкатулку с охотой на тигра, что стоит на моем туалетном столике?
Я кивнул.
– Сбегай, принеси мне ее, ладно?
Я сломя голову выбежал из комнаты, но в холле внезапно замедлил шаги, увидев Сьюки, которая стояла у подножья лестницы и с трудом удерживала одной рукой поднос, а другой шарила у себя в кармане передника.
Услышав мои шаги, она резко обернулась.
– Ох, мастер Джонни, как вы меня напугали.
– Фу, глупая головушка. Что ты тут делаешь? Уйди с дороги.
Я взбежал по лестнице, схватил лаковую шкатулку и отнес матери.
Она положила шкатулку на софу между нами и повернулась ко мне.
– Я сейчас скажу тебе что-то очень важное. Я собиралась еще потянуть с этим разговором, да и ты, наверное, слишком мал и не все поймешь, но, боюсь, надолго его нельзя откладывать. Мне придется решить, делать кое-что или не делать. Если я решу делать, то нужно будет спешить, а когда сделаешь, то переделать уже не удастся. И это очень-очень касается тебя. Понимаешь?
– Да. – Я заметил, что пальцы ее коснулись футляра, который висел у нее на поясе.
– А теперь, сыночек, – продолжила она, – ты должен помочь мне с выбором. Если я решу это сделать, мы с тобой будем бедны, но, что важно, никто не задумает причинить нам зло или забрать тебя у меня.
– А зачем кому-то этого хотеть? – спросил я.
Прежде чем ответить, мать на мгновение опустила глаза.
– Помнишь, вначале я сказала, что у нас есть выбор? Так вот, если я решусь на то, о чем шла речь, то, возможно, в один прекрасный день наши дела поправятся.
– Мы разбогатеем? Сумеем купить коляску и лошадей?
– Не настолько, но ты сможешь получить хорошую работу. Правда, тогда нам будет грозить опасность.
– Какая опасность?
– У нас есть враг, нехороший человек, – отвечала она серьезно, – может быть, он попытается нам навредить. Помнишь человека, который пробрался к нам в дом?
– Да, конечно! – Я немного покраснел, вспомнив Джоба, которого мог бы освободить от подозрений, но промолчал.
– Так вот, думаю, его послал наш враг. Понимаешь, как мне трудно на что-нибудь решиться? Ты должен помочь мне сделать выбор.
– Опасность грозит мне или тебе?
– Немного мне, но в основном тебе.
– За себя я не боюсь, что бы ни случилось, – объявил я. – А тебя я не дам в обиду.
Матушка задумчиво посмотрела на меня.
– Ладно, пока я, во всяком случае, ничего предпринимать не собираюсь.
– А что же шкатулка? – спросил я.
– Думаю, пора тебе кое-что узнать. – Выбрав один из ключей в связке, прицепленной к поясу, она отперла замок. Потом откинула крышку и, убрав кусок синего бархата, который лежал сверху, вынула пакет, обернутый в гофрированную бумагу. В пакете обнаружился маленький медальон в форме сердечка, на золотой цепочке. – Смотри, вот так он открывается. – Она нажала на крохотный выступ сбоку, крышка распахнулась, внутри показалась миниатюра.
– Можно посмотреть? – спросил я, и матушка дала мне медальон.
В одной половинке сердечка помещался портрет юной дамы, в другой – молодого джентльмена. В даме я легко узнал свою мать – очень молодую и, как мне подумалось, очень красивую. Джентльмен тоже был очень красив: с большими карими глазами на тонком, довольно печальном лице.
– Это мой папа?
Матушка опустила глаза и тихо промолвила:
– Портрет был сделан за несколько дней до нашей свадьбы.
– А где он теперь?
Она качнула головой.
– Расскажи. Ты обещала. Так нечестно. Почему ты не говоришь?
– Я не обещала рассказать тебе все без остатка. – В голосе матушки угадывались слезы. – Я не могу, Джонни.
– Можешь. Ты обещала. Это нечестно.
Она печально завернула медальон в ткань и вернула в шкатулку. Тут послышался топот, и дверь распахнулась. Мы удивленно вскинули брови: внутрь влетела миссис Белфлауэр, красная и запыхавшаяся. Увидев наши лица, она остановилась. Потом воскликнула:
– Ох, мэм, пожалуйста, идемте скорее. С нею не все ладно.
– В чем дело? – вскрикнула матушка.
– Это у нее в кармане, но ей вроде бы позволено, хотя, по мне, ей и без того истощать не грозит. Но она говорит, ей положено, пока она на службе.
Мать быстро вышла, миссис Белфлауэр последовала за нею по пятам.
Недовольный тем, что матушка не сдержала обещание, я вынул медальон и вновь его открыл. Вертя его в руках, я обнаружил на обратной стороне гравировку: две пары инициалов, так искусно переплетенных, что трудно было их различить. Знакомые «М. X.», а следующие как будто «П. К.». Загадочная «К» запомнилась мне с того дня, как в дом вторгся посторонний, и теперь нужно было бы восстановить в памяти остаток слова, ставшего таким важным. Кладя медальон на место, я заметил под бархатом что-то еще, сдвинул его и обнаружил листок бумаги. Любопытство взяло верх над щепетильностью, я убрал ткань: листок был сложен пополам и запечатан большой красной печатью с оттиском знакомого рисунка, четырехлепестковой розы. На листке была надпись, поблекшая, в чернильных пятнышках (похоже, случайно размазанных), но вполне различимая: «Моему возлюбленному сыну – и моему наследнику: Джону Хаффаму».
Я поспешно прикрыл письмо тканью. Хаффам! Странно, что эта фамилия, обозначенная вездесущей буквой «X.», была та самая, издавна знакомая, хотя и в другом написании! В моем мозгу замелькали предположения, но меня прервала вернувшаяся матушка.
– Что там стряслось? – спросил я.
– Ничего. Было небольшое недоразумение, но все уже уладилось, – объяснила она с усталой улыбкой.
Закрыв шкатулку, она протянула ее мне.
– А теперь поставь ее на место и отправляйся спать. Уложит тебя миссис Белфлауэр: Сьюки ушла к себе.
– Она заболела? А что такое с Биссетт?
– Не то чтобы заболела, но няня сегодня немного не в Духе.
Я знал, что это значит, и радовался такому везению.
Итак, не Биссетт, а миссис Белфлауэр, отдуваясь и проклиная меня на чем свет стоит, спешила за мной вверх по лестнице, а я улепетывал с криками и смехом, забыв в пылу гонки о страшных тенях, что подстерегали в спальне.
– А теперь быстро в постель, – проворчала миссис Белфлауэр затем. – А то продрогнете, ночь больно студеная. Слышите, как разгуливается ветер?
Она держала мою ночную рубашку, а я протискивался внутрь. Чистое, пахнувшее крахмалом полотно окутало мне голову, затуманивая свет свечей, я утопал в белом тумане, пока не обнаружил случайно, куда сунуть макушку, и не увидел комнату и миссис Белфлауэр, которая закрывала шторы.
– Что сделалось с пшеницей, это просто ужас, – заметила она. – Говорят, такого никудышного урожая не было уже давно. Страшно и подумать, сколько будет стоить на Святках четырехфунтовая булка. В деревне народу… – Она осеклась. – Только бы девочка успела уже добраться домой.
– Наверняка добралась, – успокоил я миссис Белфлауэр, сидя в постели и наблюдая, как она убирает мою одежду.
– Если не отправилась проведать тетю и дядю. Ему, видно, опять неможется. – Миссис Белфлауэр покачала головой. – Бедная девочка. С ее семьей хлопот не оберешься. Но они ведь из Хафема, это плохая деревня, чего еще и ждать-то.
Сверкнула молния.
– Почему это Хафем плохая деревня?
– Сказать не могу, но плохая – хуже некуда. Даже Мампси, уж на что люди состоятельные и со связями тут и там, и те дрянь. Со всех сторон слышишь рассказы о них и их проделках.
– Мампси, – повторил я. Фамилия была мне незнакома. По полям в нашем направлении прокатился гром, и я задрожал от восторга, потому что любил бурю. – Что за рассказы?
– Да по большей части о том, как они обзавелись большим домом и землей. Ведь им это все досталось от семьи, которая там жила спокон веку – с тех еще времен, когда римляне строили в Даунсе укрепления.
– А как их звали? – спросил я.
– Хафем, как деревню, правда, кто первый получил это имя, ведать не ведаю.
Хаффам! Выходит, здесь жила семья, носившая эту фамилию! Потомки Жоффруа! Наверняка я как-то с ними связан!
Расскажете мне эту историю? – попросил я.
– Не сейчас, слишком она длинная.
– Но я все равно не усну в такую бурю!
Тут же вновь сверкнула молния, послышались громкие раскаты грома.
– Хорошо, – кивнула миссис Белфлауэр и грузно опустилась на краешек постели. – Это история о том, как на дом, землю и всех, кто ими владел, пало жуткое проклятие.
– Боже! – воскликнул я, потому что мне очень нравились проклятия миссис Белфлауэр. Как правило, они кончались дуэлью или сумасшествием.
– Ну вот, эти самые Хафемы жили в большом доме на околице деревни. Поживали они тихо-мирно век за веком, но тут, как бывает со старыми семьями, пошли вымирать. Дошло до того, что остались от них всего лишь один старик и трое его детей: две дочери и мальчик. Сын, Джемми, был молодой негодник. Я так говорю потому, что он вовсю транжирил деньги, просадил все состояние за азартными играми, пил и занимался всякими непотребствами в Лондоне.
– Что за непотребства, миссис Белфлауэр?
– Всякие разные, – отрезала она. – Ну вот, взял он за себя богатую наследницу, которая принесла ему пятнадцать тысяч фунтов, и породил с нею сына и дочь. Мальчика звали Джон.
Джон Хаффам!








