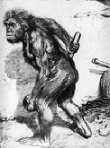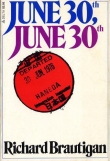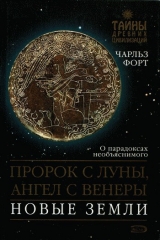
Текст книги "Пророк с Луны, Ангел с Венеры. Новые земли"
Автор книги: Чарльз Форт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
11
Мы уже видели, что самые блестящие вдохновения богоподобных умов, или самые заразные эманации больных умов, были направлены на попытку объяснить тот факт, что звезды практически неподвижны. Для моего собственного ума неподвижность звезд среди всех данных астрономии представляется наиболее определяющим обстоятельством. Чтобы объяснить, почему рисунок созвездий не изменился за 2000 лет, астрономы воображают невообразимые расстояния. У нас есть собственные мысли относительно видимой неподвижности звезд, но мы столкнемся с затруднениями, если астрономы когда-нибудь обнаруживали, что некоторые звезды движутся вокруг или вместе с другими звездами. Я намерен более подробно заняться историей профессора Струве и «спутника Проциона», чтобы пролить немного света на чистоту, точность и аккуратность астрономии, и ради умаления, или издевки, или пусть каждый выбирает слово себе по вкусу.
Заявление профессора Струве об открытии «спутника Проциона» было опубликовано в «Monthly Notices» (33–430) – 10 марта 1873 года Струве открыл спутник Проциона, измерил его микрометрически, проверил свои наблюдения троекратным определением углового положения, тремя измерениями расстояния и тремя дополнительными угловыми измерениями, обнаружив, что все они «превосходно согласуются». Речь не может идти об оптической иллюзии, заверил он, поскольку другой астроном, Линдеманн, тоже видел этот объект. Струве публикует таблицу своих технических наблюдений: звездное время, расстояния, угловые положения с 19 марта по 2 апреля, после чего ему пришлось прервать наблюдения до следующего года. В «Monthly Notices» (34–555) опубликованы итоги наблюдений. Струве пишет, что Оверс не принял бы этого открытия, если бы в истекшем году «спутник не проявил возрастания позиции, согласующегося с теорией». Струве пишет: «Это возрастание проявилось самым примечательным образом». Поэтому он находит «решительно установленным», что наблюдавшийся объект тот самый, который был вычислен Оверсом. Он говорит, что некий Цераский из Москвы тоже видел «спутник», «не будучи предупрежден, где его следует искать».
Однако – см. несколькими главами выше.
Могут все же сказать, что у других звезд есть спутники, которые двигаются, как им положено двигаться. Позднее мы обсудим этот предмет, полагая, что, может быть, рядом со звездами видели движущиеся огоньки, но что никогда звезда не обращалась вокруг другой звезды, как ей следовало бы с точки зрения палеоастрономии. Я основываюсь на аналогии, что никто, сидя в парке, не видел, чтобы деревья кружились одно вокруг другого, но при должной степени опьянения или увлечения астронома он мог бы испытать такую иллюзию. Мы сидим в парке. Мы замечаем дерево. Может быть, нам почему-то кажется, что это дерево движется. Затем в отдалении мы замечаем другое дерево, и наше живое воображение или что-то еще наводит нас на мысль, что это – то самое дерево, только удалившееся от нас. Далее мы замечаем дерево за деревом и, убеждая себя, что все они – то самое дерево, разумеется, приходим к выводу, что оно вращается вокруг нас. Точность и чистота наблюдений возрастают. Мы вычисляем его орбиту. Мы закрываем глаза и предсказываем, где окажется дерево, когда мы снова их откроем: и вот в результате того же процесса отбора и опознания мы находим его на «положенном» месте. А если мы разделяем почти всеобщую манию скорости, то решим, что проклятая дубина вращается вокруг нас с такой скоростью, что у нас возникают самые дикие ботанические теории. В этой аналогии нет никакой натяжки, если не учитывать фактор скорости. Гольдшмидт в самом деле объявил, что вокруг Сириуса имеется полдюжины светящихся точек, а Доуз заподозрил, что Кларк произвольно выбрал одну из них. Мы предполагаем, что вокруг Сириуса на разных от него расстояниях видели много слабых огоньков и что в первые, может, даже шестнадцать лет, астрономы не были полностью загипнотизированы и не выбирали те огоньки, которые им следовало выбрать, поэтому между расчетной и наблюдаемой орбитами не было никакого согласования. Кроме противоречий в наблюдениях, отмеченных Фламмарионом, см. другие в «Intel. Obs.» (1 -482). Затем проявилась стандартизация зрения. Так, в «Observatory» (20–73) опубликован набор наблюдений 1896 года, в которых «спутник Сириуса» помещаегся точно на положенном месте. Однако кроме этого списка наблюдений приводится другой, настолько отличный, что редактор спрашивает: «Не значит ли это, что имеются два спутника?»
Темные спутники требуют несколько более выделительного обращения. Как и переменчивые туманности – и не вращаются ли темные туманности вокруг светящихся? Примеры переменчивых туманностей см. в «Memoirs of R.A.S.» (49–214); «Comptes Rendus» (59–637); «Monthly Notices» (38–104). Могут сказать, что они не относятся к типу Алгола. Как и сам Алгол, что мы уже показали.
Под давлением фактов мы пришли к выводу, что звезды, которые выглядят неподвижными, в самом деле неподвижны, так что отныне для нас «собственное движение» также неприемлемо, как и относительное.
С «собственным движением» положение таково:
Звезды, отмеченные 2000 лет назад, практически не сдвинулись или, учитывая возможное развитие астрономии, сдвинулись не больше, чем объяснимо более точной регистрацией; но астрономическая теория представляет звезды разлетающимися с невообразимой скоростью, так что астрономы только и ждут доказательств изменения видимого положения звезд. Что касается хорошо известных созвездий, нельзя сказать, чтобы они изменились; поэтому, за редкими исключениями, собственное движение приписывается менее известным звездам.
В результате возникает забавная ловушка. Считается, что большое собственное движение есть признак относительной близости к этой земле. Из двадцати пять звезд, якобы обладающих большим собственным движением, все, кроме двух, – очень тусклые звездочки; но считается, что эти двадцать три звездочки ближе всего к этой земле. Однако когда астрономы измеряют относительный параллакс звезды относительно более тусклой звезды, они соглашаются, что более тусклая, поскольку она более тусклая, должна находиться дальше. Так что самым тусклым звездам одновременно приписывается близость – по причине их заметного сдвига и удаленность – по причине их тусклости, и весь вопрос превращается в шутку, так что ради сохранения серьезности наших идей лучше пойдем далее.
«Observatory» (март 1914 г.):
Исчезла группа из трех звезд.
Если три звезды исчезают одновременно, значит, на них повлияла какая-то общая причина. Попробуйте представить некую силу, которая бы не растерзала видимый мир в видимые клочки, но способна была бы затмить три звезды, разделенные триллионами миль. А еаш они находились ближе друг к другу, то тут и конец объяснениям, что за 2000 лет звезды на вид не сдвинулись, потому что их разделяют триллионы миль.
В «Sistem of the Stars» Агнесс Клерк приводит множество примеров звезд, по-видимому, настолько тесно связанных, что это невозможно представить, если между ними триллионы, или миллиарды, или миллионы миль: такие образования, как «семь звезд, словно нанизанных на одну серебряную нить». Имеются кольца звезд в скоплении Возничего; ряды и арки в Змееносце, зигзаги в Стрельце. И эти звезды не только выглядят близкими, но и окрашены одинаково, так что мисс Клерк выражает свое впечатление, что они расположены рядом – «из-за совпадения цвета трудно поверить, что отмеченные этим цветом звезды просто кажутся близкими из-за иллюзии перспективы». Что касается образований в Стрельце – Филсон в «Recent Advances in Astronomy» приводит пример сочетания примерно тридцати мелких звезд, имеющего форму разветвленной веточки с параллельными пересечениями. Филсон считает маловероятным случайное сочетание трех заметных звезд в поясе Ориона, учитывая, что ниже этих звезд расположены по параллельной им прямой еще пять слабых звезд. В Млечном Пути есть темные протоки или расселины, ответвляющиеся от главного русла или хребта, и края их часто хорошо очерчены. На этих темных участках часто располагаются цепочки ярких звезд.
Не из-за разделяющих их расстояний звезды практически неподвижны относительно друг друга, потому что имеется море признаков, что звезды близки друг к другу и вместе подвергаются или подвергались влияниям местных звездообразующих процессов.
Подробное сравнение современных звезд со звездами, отмеченными Аль-Суфи 1000 лет назад, проведенное Дж. Э. Гором, см. в «Observatory» (вып. 23). Расположение звезд не изменилось, но, кажется, многие изменились по величине.
О других изменениях – «Publications of Astronomical Society Pacific» (№ 185, 1920 г.) – открытие семнадцати новых звезд в одной туманности (Андромеды). Список исчезнувших звезд – см. «Monthly Notices» (8–16; 10–18; 11–47); «Sidereal Messenger» (6–320); «Journal of BAA.» (14–250). Исчезнувшие туманности – см. «American Journal of Science» (2–33-436); «Sistem of Stars» Клерк; «Nature» (30–20).
В «Sidereal Messenger» (5–269) профессор Колберт пишет, что 20 августа 1886 года некий астроном в Чикаго около часа наблюдал маленький протуберанец в виде кометы у звезды Зета Кассиопеи.
Итак, наблюдается изменение в удаленности звезд. Когда в феврале 1901 года в созвездии Персея появилась новая звезда, она выглядела светящейся точкой. От нее отделилось нечто, выросшее за шесть месяцев до диаметра, равного половине видимого диаметра Луны. Объект обладал структурой. Свободно заявить, что это был световой эффект, может быть, ореол, означает игнорировать его сложность, устойчивость и отличия. Ньюкомб, у которого попадаются цитаты в нашу пользу, пишет, что это излучение представляло собой не просто световые лучи, поскольку они не исходили от звезды единообразно, а сдвигались, изгибались и переплетались. Это было движение, видимое на расстоянии до Новой Персея.
В «Monthly Notices» (58–334) доктор Эспин пишет, что в ночь 16 января 1898 года он наблюдал в Персее нечто, напоминающее облако. Это не могло быть чем-либо в атмосфере этой Земли, потому что он вновь наблюдал то же явление в Персее 24 января. Он пишет, что 17 февраля мистер Хет и доктор Лэм видели его, как облако, затмевающее и обесцвечивающее светящие сквозь него звезды. На заседании Британского астрономического общества 23 февраля 1898 доктор Эспин описывал это явление и отвечал на вопросы. «Это не была туманность и не похожа на таковую». «Что бы это ни было, оно обладало странной особенностью затемнять или поглощать свет звезд».
Это нечто вошло в Персей и вышло из него.
Клерк в книге «The System of Stars» говорит, что туманность резко изменила положение между 1833 и 1835 годами, после чего больше не двигалась. По словам сэра Джона Гершеля, звезда, которая занимала центральное положение в этой туманности по наблюдениям 1827 и 1835 годов, в 1835 году оказалась на восточном краю туманности.
Не расстояние от этой Земли мешает нам заметить изменения в расположении звезд за две тысячи лет, потому что временами мы видим случайные резкие изменения в их расположении.
Что, независимо оттого, существует ли нечто вроде скорлупы, вращающейся вместе со звездами, в которой звезды – отверстия, пропускающие свет извне, или ее не существует, все же все звезды расположены от этой Земли примерно на том же расстоянии, как если бы эта Земля была неподвижным центром некой вращающейся вокруг нее скорлупы…
Согласно проявлениям аберрации звезд.
Все звезды на полюсе эклиптики в течение года описывают круги; звезды, расположенные ниже, описывают эллипсы, которые становятся все уже и уже по мере приближения к эклиптике, где они движутся в течение года по прямой.
Предположим, что звезды – отверстия, неподвижные относительно друг друга, в некой внутрипространственной субстанции. Допустим вращение всего образования относительно неподвижной Земли в центре; тогда с этой Земли будет казаться, что все вблизи оси описывает круги, ниже – эллипсы и у границы преобразования – прямые линии. Если все располагалось бы на равном расстоянии от центра этой Земли, как точки одной вращающейся сферы, все имело бы равные амплитуды. Все проявления аберрации звезд, от самых ярких до самых тусклых, независимо от формы их движения – крут, эллипс или прямая, – имеют одинаковую амплитуду: около 41 секунды дуги.
Если все звезды – точки света, проникающего извне, неподвижные и разделенные неким скорлупообразным образованием, непрозрачным в одних местах, прозрачным в других и дырявым по всей поверхности…
Гегеншайн (противоположный свет)…
Что есть признаки наличия такой скорлупы вокруг нашего мира.
Гегеншайн – это круглая светлая заплата в небе. Она, по-видимому, отражает солнечный свет, поскольку сохраняет положение против Солнца.
Вот загвоздка:
Солнечный свет отражается – но от чего?
Что небо – это лоно с отверстиями-звездами, что на внутреннюю закругленную поверхность этой небесной скорлупы Солнце отбрасывает свой свет, несмотря на стоящую между ними Землю, которая затмевает этот свет не более, чем Луна во время солнечных затмений; причем свет этот не теряет времени на путешествие до звезд и обратно к этой Земле, потому что звезды близки или потому что свет не имеет скорости.
Предположим, гегеншайн может быть отражением Солнца на чем-то, расположенном ближе звезд. Тогда он должен иметь параллакс относительно звездного фона.
«Observatory» (17–47):
«Гегеншайн не имеет параллакса».
На заседании Королевского астрономического общества 11 января 1878 года прочел свой доклад У. Ф. Деннинг. По своим следствиям это – наиболее волнующий документ в истории. Тема его – «предположение о повторяемости метеоритных дождей». Мистер Деннинг перечислил двадцать два дождя, каждый из которых длится от трех до четырех месяцев.
В 1799 году Гумбольдт отметил, что видимые следы метеоров можно проследить назад до общей исходной точки, из которой как бы разлетаются все метеоры. Это – точка радианта, или просто радиант. Когда радиант располагается под созвездием, ему присваивают соответствующее имя. Небывалому метеоритному фейерверку 13–14 ноября 1833 года сопутствовало столь же небывалое обстоятельство: что, хотя Земля якобы вращается вокруг оси, придавая звездам видимое вращение в течение ночи, и якобы вращается вокруг Солнца, что влияет на видимое движение звезд, но метеоры в ноябре 1833 года как посыпались из созвездия Льва, так и сыпались из него шестью часами позже, хотя Лев за это время переместился и радиант, видимо, переместился вместе с ним.
И никакого параллакса на достаточно большом расстоянии, от Канады до Флориды.
Тогда эти метеоры действительно падали со Льва, или параллакс, или отсутствие такового, ничего не значит.
Постоянное расположение точно под движущимся созвездием в течение ночи 13-И ноября 1833 становится незначительной подробностью в сравнении с данными Деннинга о подобной же синхронизации, длящейся месяцами. Если точка радианта остается подо Львом или Лирой ночь за ночью, месяц за месяцем, это означает, что либо ее что-то смещает, без параллакса, согласно двойному смещению созвездия, – обстоятельство настолько невообразимое, что Деннинг замечает: «Я не могу объяснить», – либо созвездие и есть точка радианта, но в этом случае сохранение положения точно под ним невообразимо, если оно расположено так далеко…
Что звезды близки.
Представьте корабль, медленно проплывающий мимо прибрежного города и стреляющий, скажем, бездымным порохом. Снаряды разрываются, не долетев до города, и точки разрывов на линии между кораблем и городом можно проследить как радиант. Корабль движется медленно. Линия разрывов все еще ведет к одной точке между кораблем и городом. Обстрел продолжается, продолжается и продолжается, и корабль уже далеко от первоначальной позиции. Но точки разрывов остаются между кораблем и городом. Городские мудрецы заявляют, что ядра летят не с корабля. Так они говорят потому, что раньше твердили, что с корабля не могут лететь ядра. Следовательно, рассуждают они, ядра летят не с этого корабля. Тогда их спрашивают, почему же разрывы смещаются так, чтобы оставаться между движущимся кораблем и городом. Если бы среди них оказался У. Ф. Деннинг, он бы ответил: «Не могу объяснить». Но другие мудрецы окажутся больше похожи, например, на профессора Мултона. В своей книге профессор Мултон много пишет на тему метеоров, однако не упоминает метеоров, которые месяцами оказываются между наблюдателем и сдвигающимся по небосводу созвездием.
Есть и другие признаки. Разрывы ядер слышны. Стало быть, они взрываются недалеко от города. И с бездымным порохом не все в порядке: очень уж мала сила выстрела, так что снаряды разрываются неподалеку от корабля – иначе из разных частей города они бы виделись на разном фоне. Тогда горожане, если только они не мудрецы, догадаются, что раз ядра взрываются близко к городу и близко к кораблю, значит, и корабль недалеко от города.
Лев, Лира и Андромеда – ладьи, плывущие в небесах и обстреливающие эту Землю, – и они недалеко.
И среди нас могут найтись такие, кто, вместо того чтобы углубляться в невообразимые дали, проявит восприимчивость к тому, что рядом; и поднимет новый мятеж против черной оболочки, сверкающей огоньками запредельного света, и задумается, что это сияет так близко, – и с новой силой испытает муки удушья под игом звезд.
Ковш Льва, из которого явились Леониды, блестит в небе огромным вопросительным знаком.
Ответ…
Но бог знает, каким может быть ответ.
Быть может, звезды рядом.
12
Мы стараемся думать независимо. Допустим, что не расстояние разделяет звезды, коль скоро случаются резкие изменения расстояния между звездами, и это наводит на мысль, что звезды не разделены огромными расстояниями и не так уж далеки от этой Земли, иначе они были бы гораздо более обособлены; и что эта Земля не движется по орбите, иначе звезды каждого времени года выглядели бы независимо, а не вращались бы как единое целое; к тому же, если эта Земля относительно близка к звездам, если многочисленные перемены в величине и появления и исчезновения наблюдаются на звездном расстоянии и если звезды, вращаясь, не кружатся беспорядочно, как светящиеся снежные хлопья, и если не получается выдумать какого-нибудь взаимного отталкивания, тем более что звезды частенько сливаются друг с другом, то все это – постоянная сферическая оболочка, или скорлупа, и звезды – точки на ней.
Так многие идеи из предыдущей главы подводят к другим или ко всем остальным. Однако мы стараемся мыслить независимо. Конечно, мы сознаем, что так называемое различие между индуктивным и дедуктивным мышлением – ложная граница; тем не менее нам представляется, что дедукция, громоздящаяся на дедукции, – всего лишь произведение архитектуры, а мы в этой книге слишком много сил потратили, чтобы поставить архитектуру на место. Мы вовсе не хотим сказать, что в астрономии, или в новой астрономии, не должно быть архитектуры или математики, как в биологии не место поэзии, а в физиологии – химии, но что «чистая» архитектура или «чистая» математика, биология, химия имеют каждая собственную область применения, хотя все они неразрывно связаны со всеми прочими аспектами бытия. Так что, разумеется, то самое, против чего мы возражаем в крайнем его проявлении, в какой-то степени существенно и для нас, и в каждой индукции есть долядедукции, и мы не настолько бесчувственны, чтобы не восхититься изяществом сводов нашего сооружения. Мы возражаем не против аспектов, а против излишеств и вторжения в чужие области.
Эта первая часть нашей работы рассматривает то, что мы считаем новой астрономией, и здесь мы хотим показать, что не питаем ненависти к математике, если только ей не придают слишком большого значения и применяют к месту, так что скажем, что все вышерассмотренные идеи имеют для нас примерно пятипроцентную вероятность. Далее следует гораздо более смелая попытка независимого мышления, во второй части нашей работы, рассматривающей феномены настолько отличающиеся, что если первую часть своих изысканий мы назвали «новоастрономической», то для обозначения темы второй части придется изобрести новый термин, и слово «супергеография» кажется нам наиболее подходящим. Если в этих двух предметах наши, хотя бы временные, выводы окажутся одинаковыми, мы сочтем это впечатляющим признаком, вопреки своему циничному отношению к «согласованности».
Новая астрономия:
Эта якобы Солнечная система – как заключенный в яйцо организм, отгороженный скорлупой от внешнего света и жизни; эта неподвижная Земля в центре – его ядро; вокруг вращается скорлупа, и звезды в ней – поры или функциональные каналы, через которые впрыскивается вещество – говорят, «метеоритное», но возможно электрическое; а туманности в нем – полупрозрачные заплаты, и многочисленные темные области – непрозрачная структурированная материя – и до звезд не триллионы и даже не миллионы миль – и пропорционально уменьшаются все внутренние расстояния, так что до планет уже не миллионы и даже не сотни тысяч миль.
Мы понимаем изменчивость звезд и туманностей в терминах переливов наружного света по вращающейся скорлупе и мимолетных попаданий его в пропускающие свет места и отверстия. Мы принимаем, что все сущее подвержено ритмическим изменениям, так что если звезды – поры в веществе, то все целое должно быть подвержено некоторым изменениям с разной периодичностью для разных частей. В самой твердой субстанции могут образовываться локальные завихрения, и потому звезды, или поры, могут вращаться относительно другдруга, однако мы склонны думать, что если у некой звезды обнаруживаем светящийся спутник, то это – отражение света, проходящего сквозь каналы в веществе оболочки, перебегающего на небольшое расстояние из-за мелких неустойчивостей среды. Так что могут обнаружиться и иные смещения различной величины, новые отверстия открываются, а другие закрываются в субстанции, каковая не может быть абсолютно твердой. Так что «собственное движение» можно объяснить, хотя сам я предпочитаю думать о таких звездах, как «звезды Грумбриджа и Барнарда 1830 года», что это – планеты-беглянки; а также что некоторые кометы, в частности, бесхвостые кометы, которые иногда затмевают звезды, так что очевидно, что это не просто облачка сильно разреженной материи, – тоже планеты, и правоверные не признают их планетами из-за их эксцентричности и удаленности от эклиптики, хотя многие малые планеты в большой степени разделяют эти два недостатка. Если некоторые из этих тел оказываются планетами, отклонения в их поведении сочетаются с отклонениями в поведении спутников Юпитера.
Я предполагаю, что сочетание доктрин Птоломея и Тихо Браге хорошо согласуется со всеми рассмотренными феноменами, а также с планетарным движением, которое мы не имели возможности внимательно рассмотреть, – что Солнце, увлекая за собой Меркурий и Венеру, вращается на расстоянии несколько тысяч миль или несколько десятков тысяч миль, по восходящей и нисходящей спирали вокруг этой практически, но не абсолютно неподвижной Земли, каковая, согласно новейшим исследованиям, более напоминает волчок, чем шар; Луна в нескольких тысячах миль вращается вокруг этого ядра, а внешние планеты не только вращаются вокруг всей этой центральной системы, но также приближаются и удаляются от нее, описывая петли, и кроме того, расположены, как и видится глазу, смехотворно близко с точки зрения господствующего учения.
Так можно объяснить все небесные феномены. Но Коперник объяснил их все одним способом, Птоломей – другим, а Тихо Браге – третьим. Вероятно, есть и другие возможные объяснения. Имея дело с удаленным предметом, одна школа мудрецов может доказывать, что это дерево, другая – положительно опознать его как дом, а еще одна на высшем уровне анализа определит, что это облако, или буйвол, или герань, однако в этом случае их методикой можно восхищаться, но доверять ей не стоит. В самом сердце нашей оппозиции и в самом сердце наших идей кроется фатальная обреченность, поскольку ни одно рассуждение, логика или объяснение не сравнятся с иллюзией в тщеславии общего убеждения. Существует лишь процесс соотнесения, или систематизации, или организации вокруг чего-то, произвольно выбранного как основание, или как господствующая доктрина, или как основное допущение – процесс ассимиляции в нечто иное, согласования с чем-то иным или интерпретация в терминах чего-то иного, чье гипотетическое основание само по себе не окончательно, но было первоначально ассимилировано с чем-то еще.
Я обобщаю результаты любых исследований любых законов или доминирующих мыслей, научных, философских или богословских: при любом исследовании мы находим, что движение происходит по линии наименьшего сопротивления.
Движение по линии наименьшего сопротивления.
Но как определить, где наименьшее сопротивление?
Там, куда направлено движение.
Если ничто не может быть положительно выделено из чего-то другого, то невозможна никакая позитивная логика, представляющая собой попытку позитивного выделения. Рассмотрим популярное «основание», что Капитал есть тирания и всегда в корне порочен, и что Труд чист и идеален. Но чей-то труд представляет собой его капитал, а не работающий капитал никоим образом не вовлечен в этот конфликт.
Тем не менее мы теперь отказываемся от высказанного выше подозрения, что все наше бытие – прокаженный небес, загнанный в дальний угол пространства и изолированный, как предполагают астрономы, потому что иные небесные образы бытия бегут от заразы…
И если оно отгорожено скорлупой от внешнего света и жизни, то лишь по той же причине, по какой оказываются заключенными в скорлупу формы жизни, существующие в нем, – что оно представляет собой сверхзародыш.
Сумрак ночи, и жизни, и мысли – сумрак лона. Темнота, окружающая нерожденного, прорезаемая полусветом крошечного солнца, которое не есть свет, а лишь уменьшение темноты.
Тогда мы представляем себе организм, который не нуждается ни в каком основании, и не нуждается ни в какой окончательности, и не требует особого руководства для какой-либо из своих частей, поскольку развитие каждой части предопределено целым. Следственно, наша желчность пройдет со временем, и наши невежливые выходки можно оставить без внимания, признавая, что всякая система мысли не имеет основания в себе, и, разумеется, не окончательна, и непременно несет в себе элементы того, что рано или поздно разрушит ее, – эти прочные на вид положения, которые с развитием зародыша проходят, как призраки, сменяясь другими фазами роста.
И тогда всякий, ищущий основания, окажется в безнадежном положении, находя вместо основы все новые вопросы. В наших поисках не станем отказываться и ни от каких приемлемых находок. Пусть они указывают, что Земля движется вокруг Солнца. Столь же надежно они указывают, что Солнце движется вокруг Земли. Чем определяется, что именно будет принято правоверными, которым гипноз мешает увидеть другие возможности? Сами мы полагаем, что развитие представляет собой серию реакций на последовательно сменяющие друг друга доминанты. Пусть доминанта некой эпохи требует признавать, что Земля удалена от всего и одинока: кеплеризм поддержит ее; пусть доминанта изменится в духе экспансии, невозможной при такой удаленности и изолированности: кеплеризм поддержит и новую доминанту или не будет ей слишком противоречить. Такова суть процесса роста зародыша, что некоторые субстанции протоплазмы проявляются по-разному на разных стадиях.
Но я не считаю, что все факты столь податливы. Попадаются и такие, которые не удается совместить с предыдущей доктриной. Они могут не оказывать влияния на произвольно выбранную систему мысли или систему подсознательных убеждений в эпоху их доминирования – ими просто пренебрегают.
Мы переходим к перечислению зрелищ и звуков, относительно которых все вышесказанное было всего лишь введением. Для них не существует общепринятых объяснений, их не удается уныло втиснуть в систему Наши факты – зарницы эпохи, приближающейся с раскатами грома. Они содрогаются от поступи далеких космических армий. В небе уже нарисовались видения, предвещающие новые восторги, нарушающие наше наскучившее, пережившее себя отшельничество.
Мы собираем факты. Увы, нам не устоять перед искушением порассуждать и теоретизировать. Да смилуется суперэмбриология над нашими собственными силлогизмами. Мы считаем себя вправе по меньшей мере на 13 страниц глупейших и вопиющих ошибок. После этого нам придется объясняться.