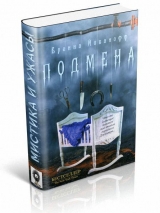
Текст книги "Подмена"
Автор книги: Бренна Йованофф
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Глава третья
СЕРДЦЕБИЕНИЕ
Войдя в прихожую, я бросил сумку с учебниками и стащил с себя толстовку. Один рукав был измазан кровью. Сначала я хотел ее просто выбросить, но понял, что папа не оставит это без замечания.
Закуток для стирки располагался в небольшой нише в конце коридора. Я не любил туда заходить. В тесной каморке от корпусов стиральной и сушильной машин из нержавейки шел густой ядовитый запах. Минуту-другую я раздумывал, как пересилить себя и запустить стиралку, но пока я там стоял, даже не закрыв дверь, у меня начало дико стучать в ушах. Тогда я скомкал толстовку и решил, что если не забуду, попрошу Эмму выстирать ее. В горячей воде. С пятновыводителем. Короче, я бросил толстовку в корзину для грязного белья и поплелся на кухню.
Из глубины дома доносился стрекот клавиатуры. Мама была у себя в кабинете и печатала что-то на компьютере.
– Мэки! – окликнула она. – Это ты?
– Угу.
– Смотри, чтобы отец не застукал тебя, когда прогуливаешь, понял?
– Угу, ладно.
Я налил себе стакан воды, сел за стол и уставился на скатерть, пытаясь вычислить последовательность клетчатого орнамента. Красный, черный, снова красный, белый, зеленый, а потом я сбился.
Когда вошла Эмма, я настолько глубоко ушел в это занятие, что вздрогнул, почувствовав ее руку на своем плече. Я начал объяснять ей про стирку, но осекся, увидев, что Эмма не одна. С ней была девушка – высокая, серьезная, с длинным, очень худым лицом.
Эмма вытащила из буфета банку арахисового масла, взяла пластиковый нож для пикника.
– Эй, уродец, – сказала она, взъерошив мне волосы. – Что-то ты рановато сегодня. – Она посмотрела через коридор на дверь кабинета и потом спросила, понизив голос до еле слышного шепота: – Как себя чувствуешь?
Я покрутил рукой, давая понять, что так себе.
– Разве у тебя сейчас не ботаника?
Эмме было девятнадцать, и она никогда не прогуливала, с пугающей целеустремленностью посещая все научные классы в колледже.
– Профессор Крэнстон предоставила нам свободное время для работы над групповым проектом. – Эмма ткнула пластиковым ножом в сторону незнакомой девушки. – Это Джанис.
Джанис села напротив и сложила на столе руки перед собой.
– Привет, – сказала она. У нее были тусклые каштановые волосы, неопрятно свисавшие по сторонам длинного лица.
Я кивнул, но ничего не сказал.
Она разглядывала меня с таким интересом, будто я был лабораторным образцом, каким-то жуком с булавкой в спинке. Глаза у нее были огромные и темные.
– Почему она называет тебя уродцем?
У некоторых людей есть дар буквально несколькими словами сгладить любую неловкость и выйти из любой ситуации. У меня такого дара не было. Поэтому я просто смотрел на свои руки и ждал, когда Эмма все исправит.
Эмма – мастер спорта по лжи. Королева тезиса «мой-брат-совершенно-нормальный, мой-брат-просто-застенчивый» или «мой-брат-очень-болезненный, он-аллергик, у-него-мононуклеоз, он-отравился, у-него-грипп». Внимание, самая главная, самая чудовищная ложь: мой брат.
Как и ожидалось, Эмма подошла ко мне сзади и положила подбородок на мою макушку. Волосы у нее были тонкие и мягкие. Непослушные прядки выбились из-под резинки и висели вдоль щек, щекоча мне лицо.
– Когда он был маленьким, то был самым уродливым существом на свете. Весь желтый, сморщенный. Да еще с зубами! – Она отпустила меня и повернулась в сторону кабинета. – Полный комплект, да, мам?
– Как у Ричарда Третьего, – отозвалась мама.
Джанис продолжала жадно рассматривать меня, почти нависнув над столом, будто проголодавшийся человек над тарелкой еды.
– Да уж, но теперь-то он совсем не уродец!
– Я пошел к себе, – сказал я, отодвигая стул.
В своей комнате я улегся на кровать, но никак не мог устроиться удобно. Меня мучило беспокойство, под кожей словно копошились сотни мелких букашек. Мужчина на мосту ждал именно меня – меня, а не первого встречного школьника, надумавшего пройти по мосту. Он вглядывался в мое лицо, словно что-то искал в нем.
А еще меня продолжал бить озноб после всей этой крови, мне было хуже, чем обычно; хуже, чем я привык.
Наконец я встал и пошел в гардеробную. Вытащил электрогитару, усилитель, надел наушники.
Моя гитара была имитацией «Черной красавицы», только я собственноручно выковырял из нее все металлические украшения. Если песня была быстрой, я пользовался медиатором, но и без него лаковое покрытие струн спасало мои пальцы от ожогов. Впрочем, даже если бы мне пришлось играть на голых струнах, я бы, наверное, все равно не устоял перед искушением извлечь из инструмента этот низкий вибрирующий звук и насладиться его ощущением. Порой это было моим единственным спасением. И тогда все, что пугало или тревожило, вдруг оказывалось за сто миль от меня.
Я играл мелодии, которые знал, которые сочинил сам. Я перебирал аккордовые последовательности с высокими чистыми нотами, длившимися целую вечность, и воспроизводил тяжелые тона, которые гудели и повторялись эхом снова, снова и снова.
Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем меня охватило странное чувство. Мне стало казаться, что меня кто-то слушает. Нет, это была не реакция на внимание домашних и даже не фантазия, будто Эмма стоит за дверью в коридоре. Скорее это походило на жаркий, волнующий прилив энергии, когда играешь для незнакомых людей.
Я снял наушники и подошел к окну, но на заднем дворе, ясное дело, было пусто. Пока я размышлял, прошло еще какое-то время, и стало темнеть. Я стоял и все смотрел на лужайку и на кусты.
Это было бредом – кто мог меня слушать? Просто курам на смех, учитывая, что звук шел в наушники.
Я уселся на краешек постели, поставил «гибсон» на колени и стал играть партию шагающего баса, которая то взлетала, то опадала, то снова нарастала, пока не слилась с ритмом моего сердца.
Проспал я мало, а проснулся от того, что кто-то меня звал.
Я скатился с кровати и с трудом выпутался из шнуров и кабелей. Оказывается, я уснул в наушниках. В темноте на полу тихо гудел усилитель, в голове у меня стоял туман, и я весь одеревенел от неловкой позы, в которой уснул. Небо снаружи совсем почернело.
Зато в доме всюду горел свет: значит, вернулся отец. У него был пунктик насчет электричества. Если он видел выключатель, то немедленно нажимал клавишу.
Когда я вышел на лестничную площадку, то даже зажмурился от света.
– Малькольм, – окликнул меня из кухни отец. – Пожалуйста, подойди сюда.
Я поплелся вниз, моргая и закрывая глаза ладонью.
Отец сидел за столом – судя по его костюму и галстуку, он только что пришел из церкви. С похорон Натали Стюарт. Его круглое лицо, обычно такое приветливое, сейчас выглядело суровым. Мне хотелось спросить, как прошла служба, но я не нашел слов.
Отец перебирал стопку старых проповедей, делая на полях пометки. Его пиджак висел на спинке стула. Когда я вошел, он поднял глаза, но не отложил ручку. Он выглядел усталым и даже слегка взвинченным, словно не мог дождаться, когда же закончится этот день.
– Ты не хочешь поговорить о том, почему мне сегодня звонили из кабинета учета посещаемости? – спросил отец.
– В школе проводили День донора и…
Он смотрел мне в лицо, перекатывая в пальцах ручку.
– Сегодня не самый лучший день для поступков, которые могут привлечь к тебе внимание. Полагаю, о подобном мероприятии оповещают заранее?
– Я забыл, – признался я. – Но вообще-то ничего такого страшного не случилось.
– Малькольм! – воззвал отец. – Твоя главная и единственная обязанность заключается в том, чтобы не позволить им что-то заметить!
Я уставился в линолеум.
– Я не позволил. – Через секунду я поднял глаза на отца. – Не позволю.
Он сложил свои проповеди в аккуратную стопочку, выровнял края. Потом встал и подошел к буфету. Вытащил пластиковый нож и попытался порезать яблоко на дольки.
Мне хотелось спросить, почему бы ему не съесть яблоко целиком, как это делают все нормальные люди, но, в конце концов, у каждого свои заскоки.
Какое-то время отец усердно уродовал яблоко, потом в раздражении швырнул нож в раковину. Нож запрыгал, как пластиковая палочка из головоломки, а потом треснул пополам.
– Почему в этом доме нет нормальных фруктовых ножей?
– Хорошие ножи в ящике. Над холодильником, – сказал я, поймав его отсутствующий взгляд.
Мама постоянно перекладывает столовые приборы с места на место, как будто играет в бесконечные шахматы. Некоторые приборы выбрасывает. Все, что сделано не из пластика или керамики, должно быть алюминиевым. А все неалюминиевое мама прячет.
Отец открыл шкаф, порылся в груде ножей и столовых приборов из нержавеющей стали, выложил на столешницу фруктовый нож.
Пока он резал яблоко, я смотрел ему в спину. Его плечи были напряжены. От него пахло одеколоном после бритья и тревогой: этот резкий запах всегда сопровождал отца, когда он нервничал.
– Я тут подумал, – сказал он, не оборачиваясь. – Мисси Брандт недавно обмолвилась о том, что ей не помешал бы помощник для занятий с дошколятами. Тебя это может заинтересовать?
У меня было такое чувство, что Мисси не только ни о чем таком не упоминала, но и вряд ли вообще об этом задумывалась, хотя, разумеется, послушно ответила «да». А что еще можно ответить, если пастор просит взять под крылышко своего фальшивого сына?
Не дождавшись ответа, отец обернулся.
– Что-то не так? Я думаю, это неплохой вариант. Таким образом ты получишь официальное место в общине.
Я впился ногтями в ладони и постарался справиться с голосом.
– Просто это… так странно.
– Ничего странного! Тебе понадобится несколько недель, чтобы привыкнуть к малышам, но я уверен – все получится, надо просто попробовать. – Вздохнув, он покачал головой: – В этом главная проблема, твоя и твоей матери! Вы оба в любой ситуации начинаете искать отговорки, лишь бы ничего не делать! Вы даже не пытаетесь дать событиям возможность произойти!
Ага, значит, мы снова очутились на зыбкой почве выбора сторон. С одной стороны мама и я – вечные пессимистичные реалисты. С другой – отец и Эмма – бодрые, энергичные, светящиеся уверенностью, что мир прекрасен, а я не соглашаюсь с ними только потому, что в это не верю. Хотя хотел бы.
Я принялся крутить в руках салфетку, но тут же бросил это занятие, потому что оно выдавало неуверенность, которой я не чувствовал. Я твердо верил в то, что должен был сказать отцу. Другое дело, что мне очень не хотелось этого говорить.
– Пап, это вообще не та ситуация, которая может наладиться. Это просто то, что есть, и никаким волшебным образом она не изменится. Что бы я ни делал, я все равно не смогу жить так, как другие.
Отец отвернулся к окну, так что я не мог увидеть его лица.
– Не надо так говорить. Дело не в тебе.
Я откинул голову назад и закрыл глаза, чувствуя пульсирующую боль в груди, словно кто-то меня ударил.
– Нет, во мне! Ты ведь даже разговариваешь со мной не так, как с Эммой!
От этих слов отец шумно выдохнул, с хрипом, похожим на смех.
– Это не имеет никакого отношения к Эмме! Видит бог, я изо всех сил стараюсь понять, что тебе нужно, но это так сложно! С тобой всегда все было непонятно, но это не значит, что я не старался. Да, это единственное, что мы можем: стараться поступать правильно.
Я хотел сказать ему, что в моем случае правильнее положиться на то, что работает, а не отдавать под мое начало кучу малышей, но тут пришла Эмма. Она прошлепала через кухню и распахнула холодильник.
Я молчал, отец даже не повернулся.
Эмма порылась в ящике для овощей, потом посмотрела на нас с отцом.
– Ты зря так грубо вел себя с Джанис, – заявила она, и в первую секунду я решил, будто она обращается ко мне.
Отец отложил нож, повернулся к Эмме.
– Ты прекрасно знаешь наши правила относительно незваных гостей!
Да, у нас были правила. У нас было множество правил. Скажем, Росуэлл мог приходить к нам домой, но только потому, что папа ему доверял. А вот незваный гость мог случайно проболтаться о том, что в нашем доме, например, не держат консервов и металлических столовых приборов.
Отец в отчаянии запустил руки в волосы.
– Я прошу вас обоих! Поймите, наша семья занимает в обществе очень заметное место, поэтому мы должны заботиться о впечатлении, которое производим!
Эмма с силой захлопнула дверцу холодильника.
– О каком впечатлении ты говоришь? Мы тебя не позорили! Джанис пришла поработать над нашим опытом с семенами!
– Мне кажется, наш дом – не самое лучшее место для научных опытов! Неужели нельзя было поработать в библиотеке?
Эмма уперла кулаки в бока.
– К сожалению, папа, в библиотеку не разрешают приносить контейнеры для проращивания семян!
– Ну хорошо, а чем вам не подошел прелестный книжный магазинчик в центре? Или кофейня?
– Па-па!
Несколько мгновений они молча испепеляли друг друга взглядами.
Папа и Эмма были самыми громкими в нашей семье, они вечно смеялись или вопили во весь голос. Как ни странно, при этом именно они оба в совершенстве владели искусством безмолвного спора и могли вести красноречивые диалоги при помощи взглядов и чередования вдохов-выдохов.
Вот папа сердито фыркнул, а Эмма закатила глаза и отвернулась.
Несколько секунд она стояла перед холодильником, глядя в пол. Потом вдруг бросилась к отцу и порывисто обняла его за талию, как будто просила прощения. Они стояли, крепко обняв друг друга, а я смотрел на них и думал: никто из них даже не сомневался в том, что папа обнимет Эмму в ответ.
Она прижалась щекой к его рубашке и сказала:
– Не забудь убрать нож на место, когда закончишь. Мама терпеть не может, когда на кухне беспорядок!
Отец со смехом шлепнул ее кухонным полотенцем.
– Да уж, чего я не хочу, так это беспорядка на маминой кухне!
– Конечно, не хочешь, если тебя заботит твоя судьба!
Эмма машинально протянула руку, чтобы взъерошить мне волосы, но смотрела при этом на отца. Потом она повернулась и, пританцовывая, вышла из кухни. Отец проводил ее взглядом. Их любовь друг к другу была настоящей – то есть такой, какую я никогда не смог бы разобрать на составляющие, чтобы сымитировать.
Отец бросил изуродованное яблоко на стойку и сел за стол напротив меня.
– Поверь, я не хочу тебя обижать, но ты сам прекрасно знаешь, как важно держаться в тени.
– Некоторые теряют сознание при виде крови. В этом нет ничего необычного.
Отец подался вперед, заглядывая мне в лицо. У него были светло-зеленые, как бутылочное стекло, глаза, а его каштановые волосы уже начали седеть. На всех, кто не жил с ним под одной крышей, мой отец производил впечатление человека на редкость доброго и отзывчивого, такого, к кому можно в любое время прийти со своими бедами в поисках тепла и утешения.
– К сожалению, ты не можешь позволить себе принадлежать к этим некоторым. Ты должен слиться с большинством. Не хочу сказать ничего плохого про соседей, но жители нашего городка весьма мнительны и недоверчивы, а теперь будет только хуже. Сегодня одна семья похоронила ребенка. Ты знаешь об этом. – Его лицо смягчилось. – Ты потерял сознание?
– Нет. Но мне пришлось выйти на свежий воздух.
– Кто-нибудь тебя видел?
– Росуэлл.
Отец откинулся на спинку стула, закинул руки за голову и пристально всмотрелся в мое лицо.
– Ты уверен, что больше никто ничего не видел?
– Только Росуэлл.
Прошла еще минута, прежде чем отец кивнул.
– Хорошо. – Он глубоко вздохнул, потом повторил еще раз, словно принял какое-то решение: – Хорошо. Ты прав – ничего страшного не случилось.
Я кивнул, разглядывая пол и блестящую гранитную столешницу. А потом уперся локтями в стол, как будто хотел проверить, выдержит ли столешница мой вес. От запаха папиного одеколона у меня так першило в горле, что было трудно глотать. На стене тихо тикали часы, стрелки приближались к одиннадцати.
Нет. Ничего страшного не случилось. Если, конечно, не считать того, что кто-то выцарапал слово «выродок» на дверце моего шкафчика.
Но я не мог рассказать об этом отцу. Как не мог заставить его понять, что никакие правила и техники безопасности в моем случае не работали.
Я как был выродком, так им и остался.
Глава четвертая
ДЖЕНТРИ НОЧЬЮ
Я лежу ничком на кровати. Знакомые звуки дома. Холодильник, центральное отопление. Вечно журчащая вода в туалете наверху.
Внизу открылась и закрылась входная дверь. Шорох почты, выложенной на столик в коридоре, звяканье ключей. Никакого шарканья подошв. Мама носит белые медицинские туфли на резиновой подошве. Абсолютно бесшумные.
– Шэрон! – окликает ее отец. Судя по голосу, он все еще на кухне. – Ты не могла бы подойти на минуточку?
Мама отвечает что-то неразборчивое. Должно быть, отказывается, потому что спустя минуту включается душ. Мама всегда принимает душ, придя домой, ведь на работе ей приходится иметь дело с кровью. И с нержавеющей сталью.
Я перекатился на спину и уставился в потолок, на светильник. Вентилятор крутился, отбрасывая тени, похожие на стрекозиные крылья.
Потом я встал, открыл окно и выбрался на крышу.
Отсюда открывался вид на задний двор и на наш квартал. Я присел на скат крыши, наклонился вперед и уперся локтями в колени.
Дождь закончился, но с неба продолжала сыпаться холодная мелкая морось.
Внизу стояли мотоциклы, пожарные гидранты и припаркованные машины. По обеим сторонам Уикер-стрит тянулись деревья. Весь город провонял железом, но из глубины пробивался живой и свежий запах зелени.
Внутри дома кто-то шел по коридору, шаркая по ковру. Потом раздался стук в дверь, тихий и осторожный.
Я повернулся, просунул голову в окно.
– Да?
Дверь открыла Эмма. Ее волосы были скручены в пучок, она уже переоделась для сна и нацепила свои жуткие косматые тапочки. Не говоря ни слова, она забралась на мою кровать и полезла на крышу. Смешно перебирая ногами и расставив руки, чтобы не свалиться, Эмма на пятой точке сползла по мокрому скату и устроилась рядом со мной.
Мы сидели и смотрели на улицу. Эмма придвинулась и положила голову мне на плечо.
Я прижался щекой к ее макушке.
– Вы с папой снова поцапались?
– Конфликт мнений. Он исходил из того, что я нарушила какое-то страшное правило, а я – из того, что он спятил. Ты просто застал окончание диспута. Извини.
Я покачал головой.
– Он не спятил. Отец просто хочет, чтобы я не привлекал к себе внимание. Из-за похорон этой девочки. Или из-за Келлана Кори.
– О Боже, когда уже он перестанет о нем говорить! Неужели отец считает, что делает полезное дело, запугивая тебя этими древними страшилками?
Я провел пальцами по мокрой крыше. Кровля была шершавая, утыканная оцинкованными гвоздями. Они царапали не сильно, но достаточно болезненно.
– Он больше не говорит. Но он так думает. Ты знаешь Тэйт из нашей школы? Это была ее сестра.
Эмма кивнула и убрала голову с моего плеча. Воздух был холодный. Эмма поежилась и обхватила себя руками.
– Ему нелегко сейчас. – Она больше не прикасалась ко мне, и голос ее звучал отстраненно. – Им обоим нелегко. Наверное, мне тоже должно быть хреново, но, честно, я ничего такого не чувствую. Ведь ты мой единственный брат, другого у меня нет.
Я уставился на свои носки. Они были в дегте, к которому прилип разный сор с кровли.
– Слушай, давай не будем об этом говорить?
Эмма шумно вздохнула и повернулась ко мне.
– Но мне до смерти надоело не говоритьоб этом! Ты заметил, что в этом городке все отчаянно делают вид, будто все нормально и ничего плохого не происходит?
Я кивнул, с трудом подавив желание уточнить, что порой так намного проще жить. Вместо этого я поскреб пальцами по кровле и промолчал.
Эмма скрестила руки на груди.
– Ты очень похож на него.
Я невольно втянул голову в плечи. Эмма имела в виду брата, который у нее когда-то был, но все, связанное с ним, даже самые ничтожные мелочи, вызывало у меня тоску и странное оцепенение.
Но Эмма продолжала говорить тихим задумчивым голосом:
– Кажется, он тоже был светловолосым. И у него были голубые глаза, потому что у тебя тоже были такие, правда, недолго. Потом голубизна начала линять. Или выцветать, уж не знаю. Может, это какое-то колдовство или заклятие, но голубизна таяла и однажды совсем исчезла, и ты стал таким, как сейчас.
– Но ведь ты точно не помнишь, каким он был?
Эмма, нахмурившись, уставилась на свои ладони, будто пытаясь вызвать в памяти смутный образ.
– Я была очень маленькой, – сказала она наконец. – Поэтому я путаю, что было до, а что – после. Точнее, я помню какие-то детали, но не могу сказать, тебя я вспоминаю или его. Лучше всего я помню ножницы. У мамы были ножницы, она вешала их на ленточку над колыбелькой. Очень красивые.
Я задумался о суевериях Старого Света. О хитростях, призванных защитить дом и уберечь его обитателей… Лишнее подтверждение лежавшей на поверхности истины: никакие уловки не помогают.
Эмма вздохнула.
– Наверное, я вообще его не помню, – сказала она после долгого молчания. – Помню только, что делала мама, чтобы его не похитили.
Она подтянула колено к груди и обхватила его рукой. Ее волосы выбились из пучка и Эмма затянула его потуже; сейчас она выглядела печальной, как одинокий маяк. Печальной, как монашка.
Мне хотелось сказать, что я ее люблю, люблю не такой сложной любовью, как родителей, а совсем простой – такой, о которой не задумываешься. Любить Эмму было для меня все равно, что дышать.
Она вздохнула и покосилась на меня.
– Что? Что ты на меня так смотришь?
Я пожал плечами. Чувство было простым, а вот слова не находились.
Эмма долго всматривалась мне в лицо. Потом дотронулась до моей щеки.
– Спокойной ночи, уродец!
Она прыгнула в окно вперед головой и шлепнулась на мою кровать, закинув ноги на подоконник. Подошвы ее тапок были черными от дегтя. Я протянул было руку, чтобы отряхнуть ее щиколотку, но не стал.
Внизу подо мной лежал тихий и спящий квартал. Я опять оперся на локти и принялся разглядывать улицу.
На самом деле существовало два совершенно разных Джентри, и по ночам всегда лучше различался второй. Наш город – это не только добропорядочные зеленые лужайки, наш город – это еще и тайны. Это место, где в бакалейной лавке люди крепко прижимают к себе детей, а перед сном дважды проверяют замки на дверях домов. Где прибивают подковы над входной дверью, а вместо ловушек для ветра вешают медные колокольчики. И еще – нательные кресты в нашем городе носят не золотые, а из нержавейки, потому что золото не в силах защитить от таких, как я.
Есть у нас и смельчаки, что закапывают у себя в саду осколки кварца или агата, некоторые даже выставляют за дверь молоко – скромное подношение тем, кто, возможно, прячется в темноте заднего двора. На прямой вопрос горожане скорее всего пожмут плечами или отшутятся, но все равно будут поступать по-своему, потому что мы живем в городе, где не принято гасить свет на крыльце и улыбаться незнакомцам. Потому что если вы поставите пару-тройку красивых камней на грядку с ноготками, ранние заморозки не обожгут ветки ваших плодовых деревьев, а дворик будет выглядеть гораздо красивее соседского. Потому что ночь в Джентри – это, прежде всего, тени и пропавшие дети, но мы живем в месте, где о таком не принято говорить.
Прошло много времени, прежде чем я вернулся в свою комнату и лег в постель. Окно я оставил открытым, чтобы легче дышалось. Нет, в доме было не так плохо, только душно, а мне всегда трудно уснуть среди запахов гвоздей, болтов и стальных кронштейнов.
Когда поднялся ветер, я поежился и поплотнее завернулся в одеяло. В саду трещали сверчки и скрипели деревья. Вдоль дороги, в высокой траве шуршали мыши, ночные птицы чирикали вдалеке, словно зубчатые шестеренки.
Я накрыл голову подушкой, чтобы заглушить звуки. И под шум улицы стал думать о том, как воспринимает все это Росуэлл. Или любой другой, кроме меня. Тот, кто спокойно входит в класс, не отвлекаясь на шорох бумаги или жужжание вентиляции. Я же привык постоянно быть начеку, и стараться не вздрагивать при звуке закрывающейся двери или упавшего учебника.
Такой была жизнь в Джентри, здесь надо было каждый день ходить в школу, сливаясь с миром, где люди предпочитали не обращать внимания на необычное и с радостью закрывали глаза на что угодно, пока ты играл по правилам.
В ином случае, разве они смогли бы жить здесь своей пристойно-достойной жизнью?
Это было непросто. Дети умирали. Они болели, потом им становилось хуже, и никто не мог сказать, в чем дело. Время от времени в Джентри кто-то терял сына или дочь. Родители привычно винили в этом загрязнение окружающей среды или грунтовые воды. А также высокое содержание свинца и токсичные испарения от шлакового отвала.
Натали Стюарт, погребенная на кладбище Уэлш-стрит в присутствии моего отца, была очередной жертвой сложившихся обстоятельств, что, конечно, очень печально. Я хорошо знал сценарий, я выучил все нужные реплики, но когда пытался найти в себе хоть крупицу грусти или сожаления, диктуемого приличиями, видел только Тэйт, сиротливо сидящую в школьном кафетерии. И даже когда вспоминал Тэйт, то чувствовал совсем не грусть, а только одиночество. Представляя себе окружавшие ее пустые стулья, я не оплакивал малышку Натали, а испытывал знакомую тупую боль, с которой жил каждый день.
Правда была в том, что наш город можно было понять. Узнать, полюбить, возненавидеть. Но обвинять его и возмущаться – какой в этом смысл? В конце концов, ты такая же часть Джентри, как и остальные.








