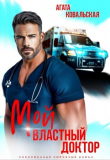Текст книги "Пленники пылающей бездны"
Автор книги: Борис Фрадкин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
– Стоп!
По приказу Вадима водитель выключил бур и двигатель. Вездеход остановился. Работать продолжала только защитная установка.
Вадим и Андрей занялись осмотром аппаратуры. Проверили состояние всасывающей системы и камер подогрева. Убедились в жаростойкости термополимеровых стенок. Затем перешли к осмотру релейной системы, хотя автоматика и находилась под непрерывным контролем вторичной системы и каких-либо нарушений замечено не было.
Теперь пора возвращаться. Успех есть, победа есть. Но до чего же все оказалось просто, без борьбы, без крайнего напряжения физических и духовных сил. Борьба была там, наверху, в конструкторском бюро, она длилась много лет и вот закончилась рейсом «ПВ-313».
Подземоход остановился на глубине сорока одного километра. А ниже еще шесть тысяч семьсот. Сорок и шесть тысяч…
Вадим мысленно заглядывает дальше вниз, и у него кружится голова, как у человека, заглянувшего за край пропасти. Бездна притягивает, манит…
– Чертовски не хочется поворачивать обратно, – признался он Андрею. – Машина мощная, надежная. Когда мы раньше пытались пробиться к барьеру, то в какой-то степени рисковали собой. А сейчас…
– Ты же сам составлял программу испытаний.
– Не один. И не думал, что почувствую такое… неудовлетворение.
Андрей осматривал реле. Вот человек, у которого нет собственных желаний. Скажи сейчас Вадим: «Давай двинемся к центру земли», – Андрей пожмет плечами и ответит: «Ну что ж, к центру так к центру».
С детства, со школьной скамьи, они были рядом. Судьбы их складывались как будто одинаково: в один день закончили школу, поступили на один завод в один и тот же цех, учились в одном институте, стали инженерами.
Но застрельщиком всегда был Вадим. Он вел за собой товарища, именно вел, а не заражал своими идеями. У Вадима появилась цель: посвятить себя созданию подземоходов. Андрей, выслушав восторженное признание друга, сказал: «Ну что ж, корабли так корабли».
Дальше рядового механика у Андрея дело не пошло. Правда, он завоевал симпатии товарищей своим удивительным самообладанием, которое не покидало его в минуту опасности.
Андрей привыкал к подземоходу, как к собственной квартире. Изучал его самым добросовестным образом, пока не запоминал каждый винтик, каждую катушку, каждый провод. Неисправности находил быстро, устранял по-хозяйски, наверняка.
– Поступай как хочешь, – закрывая коробку автомата, ответил, наконец, Андрей. – Но я бы на твоем месте не стал торопиться. Побываешь еще на любой глубине. Успеешь.
Ждать!
До сих пор рейсы походили один на другой. Цель испытаний формулировалась просто: увеличение срока службы того или другого узла. Другое дело, рейс «ПВ-313». Машина висит над раскаленной каменной бездной, в которую еще никому не доводилось заглянуть.
Возвращаться? Теперь?
– Но с чем? Подземоход оправдал себя, это хорошо. Но не в характере Вадима довольствоваться малым – ведь не случилось ничего такого, что заставило бы работать мысль, подсказало бы новые идеи.
9– М-м-м… – промычал Дектярев и потрогал свою лысину. – Продолжить исследование астеноферы… Заманчивое предложение. Риска, говорите вы, никакого?
– Вы имели возможность убедиться в этом, – пожал плечами Вадим. – Глубинный барьер пройден без всяких осложнений. Особых усилий от нас и не потребовалось. Но меня, как конструктора, интересуют условия, в которых машина получила бы настоящую, солидную нагрузку.
– Понимаю вас. А что скажете вы, Валентин Макарович? – Дектярев повернулся к атомисту.
– Я настаиваю на немедленном возвращения! – тонким голосом выкрикнул Биронт. – Мне было обещано кратковременное пребывание под землей. Я не желаю более задерживаться здесь. С меня вполне достаточно.
– Насколько я вас понял, – вежливо заметил Вадим, – весь комплекс намеченных вами исследований полностью выполнен?
– Напротив, я не сделал и половины того, что собирался сделать. Для этого мне нужен месяц, а не двое суток, – обезоружил себя Валентин Макарович. – Пока привыкнешь к вашей душной коробке…
– Ясно. А вы, Николай Николаевич?
– Я подтвердил лишь то, что мне было известно по опыту прошлых рейсов. Самое интересное для меня находится значительно глубже.
– Итак, насколько я понял, – Вадим улыбнулся самыми краешками губ, – общее желание – возвратиться.
Ирония, прозвучавшая в словах Вадима, задела самолюбие Дектярева. Геолог насупился, лицо его потемнело.
– Я привык уважать дисциплину, – сказал он. – У каждого командира подземохода имеется программа испытаний, утвержденная главным конструктором завода.
– Я не только командир подземохода, – напомнил Вадим, – я к тому же заместитель главного конструктора. Мне предоставлено право менять программу в зависимости от сложившихся обстоятельств. Иначе не было бы этого разговора.
«Хитер! – с удовольствием отметил про себя Дектярев. – И умен. За словом в карман не лезет».
– Ну, ежели вы прикажете, – геолог выпятил губы, глаза его лукаво прищурились, – мы будем вынуждены подчиниться.
– Позвольте, позвольте, кто это «мы»? – Атомист, отчаянно жестикулируя, вскочил на ноги. – Я категорически настаиваю…
– А, бросьте вы! – неожиданно разозлился Дектярев. – Трясетесь от страха, как… как не знаю кто. Ведь все уши прожужжал своей теорией переохлаждения, а когда появляется возможность проверить ее на деле – в кусты. Стыдно, коллега! Ничего-то с вами не случится, если мы нырнем еще на сотню-другую километров.
Валентин Макарович задохнулся от негодования. Он сел, бросая на Дектярева такие уничтожающие взгляды, что Михеев, Чураков и Скорюпин заулыбались.
– Я полностью за предложение Вадима Сергеевича, – вмешался в разговор Андрей. Ему хотелось поддержать товарища. – Машина в отличном состоянии. За безотказность механизмов я ручаюсь.
– Уговорили, – сокрушенно покачал головой Дектярев. – Мы с Валентином Макаровичем не возражаем, – он подмигнул атомисту, – чтобы погрузиться еще на сотенку километров. На сотенку – не больше. И эдак осторожненько, осторожненько.
– Разумеется, – сдержанно улыбнулся Вадим.
– Зато я решительно против, – заговорил молчавший до того Михеев. – Я требую безоговорочного выполнения указаний главного конструктора.
– Не забывайте, здесь его помощник! – вскинулся Вадим.
– Вот именно помощник, а не главный конструктор. Распоряжаться опытной машиной можно только с его согласия.
– Павел Игнатьевич, – Вадим повернулся в сторону связиста, – будьте добры, соедините товарища Михеева с бюро завода.
Скорюпин виновато улыбнулся и пожал плечами.
– На какое давление рассчитана полезащитная установка? – спросил Вадим водителя.
– На триста миллионов атмосфер.
– Так. А что показывают приборы?
– Тридцать с половиной тысяч.
– И вы, водитель опытных глубинных машин, считаете такую проверку вполне исчерпывающей?
Михеев смешался.
– Совещание считаю оконченным, – Вадим встал. – С общего согласия продолжаем испытание корабля. И научные исследования, – он с насмешкой посмотрел на Биронта. – Глубина погружения будет зависеть от обстоятельств и… от нашей выдержки. – Глаза командира загадочно улыбались. – Механику и водителю – по местам!
Он направился к люку. За ним последовал Андрей.
– И все-таки вы поступаете опрометчиво, Вадим Сергеевич, – сказал Михеев, усаживаясь за пульт напротив Суркова. – Несерьезно это.
– Старт! – вместо ответа скомандовал Вадим.
Заработал двигатель, корабль вздрогнул.
«К центру земли! К центру земли! – стучало сердце Вадима. – К неведомому! К неиспытанному!»
10Расплавленная магма осталась над головой. Все ярче светился экран локатора. Цвет кипящей меди сменился на нем золотым сиянием, да таким ослепительным, что пришлось понизить силу тока, питающего локаторный излучатель.
Разогретый почти до двух тысяч градусов, базальт оставался твердым, хотя температура давно перешагнула точку его плавления. Сжатое вещество приобретало высокую плотность. Атомы в кристаллических решетках вместо того, чтобы рассыпаться от теплового воздействия, вынуждены были теснее прижиматься друг к другу.
Приборы отметили глубину пятьдесят километров, а «ПВ-313» спокойно продолжал движение. Давление превысило сорок с половиной тысяч атмосфер.
Вниз… вниз… в неизвестность.
Ничто не нарушало четкой и слаженной работы механизмов. У Вадима крепла вера в свою правоту.
Наверх послали официальное уведомление: «Все благополучно. Продолжаем идти в глубину, чтобы испытать подземоход в более тяжелых условиях и провести более полный комплекс научных исследований».
Ответа не получили. Может быть, не дошло сообщение, посланное с корабля, а может быть, луч с наземных станций затерялся где-то далеко в стороне от курса «ПВ-313».
Вадим с головой ушел в работу. Приборы давали ему сведения о взаимодействии плотной среды с механизмами. Командир был теперь только конструктором – он проверял в действии реакторы, бур, двигатель, магнитоплазменное поле.
Водитель все еще колебался, не зная, как ему поступить: воспротивиться ли воле своего непосредственного начальника, или, наоборот, самым решительным образом поддержать его.
Дерзость Вадима пришлась Петру Афанасьевичу по душе. Если ради пользы дела, то отчего и не пойти на риск? Но главный такого своевольства не спустит. Тут всем достанется на орехи. И доверия лишишься…
Михеев нахмурился, бросил взгляд на командира: молодой, горячий и, видно, жадный до открытий. На заводе его уважают, называют талантливым. А Ремизовский человек осторожный, может быть возраст уже такой…
Михеев вздохнул, встряхнулся и занялся приборами управления.
Дектярев и Биронт после разговора с Сурковым вернулись к себе в кабину, чтобы продолжать прерванные исследования. Но едва пол дрогнул под ногами и поплыл вниз, Биронт захлопнул журнал и, точно подброшенный пружиной, вскочил на ноги.
– Коллега, куда вы? – удивился Дектярев.
Атомист поднялся в кабину отдыха и лег в гамак. Ему действительно было не по себе. Куда они движутся? Что задумал этот фанатичный Сурков?
Лежать и ничего не делать было непривычно. Дома Валентин Макарович никогда бы не дошел до такой бесцельной траты времени. Но здесь он не видел другого способа выразить свой протест. Ему казалось, что экипаж вездехода будет потрясен его самоотречением.
Увы, кроме Дектярева, никто не обратил внимания на странное поведение атомиста. Все были заняты своей работой. Что касается геолога, то этот грубиян сказал ему:
– Вот такое пространственное положение более подходит для вашего тела.
– Попрошу оставить меня в покое, – раздраженно отрезал Биронт.
Оставшись в одиночестве у пульта, Николай Николаевич исписывал страницу за страницей, удовлетворенно хмыкал, произносил длинные монологи. В его распоряжении находилась точнейшая электронная аппаратура. Она позволяла ему установить не только химический состав базальтовых пород, сквозь которые прокладывал себе путь подземоход, но и то, что составляло главный интерес для геолога, – физические свойства вещества.
– Проверим диалектику в действии, – повторял он себе. – Количество непременно приведет к появлению нового качества.
И наблюдал, как под влиянием нарастающего давления все теснее сближаются атомы в молекулах. Дело не только в увеличении плотности. Наступит момент, когда чрезмерное сближение атомов вызовет переход вещества в новое состояние.
Но в какое?
К концу подходили вторые сутки пути. Девяносто километров земной коры осталось над головой путников.
Девяносто километров.
Когда Дектярев торжественно сообщил об этом лежавшему в гамаке атомисту, у того защемило под ложечкой, его и без того длинное лицо еще более вытянулось. А Николай Николаевич, твердя «Зангезур-занзибар!», сел за стол и открыл банку с желеконцентратом. Аппетит геолога показался Биронту прямо-таки противоестественным.
Подошло время спать. Биронт закрыл глаза, но ему мешал яркий свет лампы. Он выключил ее. И тут услышал, как вибрирует корпус, – звук, к которому начал было привыкать. В темноте особенно четко зазвучали глубинные взрывы, они придвинулись к самой кабине (уплотняясь, вещество все лучше проводило сейсмические волны).
Валентин Макарович поспешил снова включить свет и понял, что уснуть ему не удастся.
Не выдержав одиночества, атомист спустился в свою рабочую кабину, хотя его заранее мутило от необходимости сесть лицом к лицу с Дектяревым. Антипатия атомиста к геологу росла с каждым часом.
На его счастье, Николай Николаевич спал. Биронт решил, что здесь, в кресле, удастся соснуть и ему. Правда, в кабине тоже было светло от сияния, излучаемого экраном. Биронт протянул руку к кнопке. Экран погас, осталось только мерцание разноцветных нитей на белых шкалах.
Устроившись поудобнее в кресле, Валентин Макарович закрыл глаза. На минуту почувствовал покой. Но только на минуту. До его обострившегося слуха долетел храп Дектярева. Даже спящий, геолог отравлял ему существование.
Валентин Макарович включил экран, часто моргая, смотрел на оранжевый диск. Потом повернул голову к указателю глубины.
Сто километров! Ужасно…
Он заерзал в кресле, глаза его расширились. Чем же все это кончится?
В ближайшем ряду приборов мигнул красный глазок счетчика атомных частиц, мигнул один раз и потух. Крошечная вспышка света не сразу дошла до сознания атомиста. Гнев на Дектярева ослеплял его значительно сильнее.
Но вдруг возмущение его разом испарилось: лампочка мигала не переставая.
– Мезоны?
– Что такое? – Дектярев открыл глаза.
– Мезоны?!
Валентин Макарович с такой быстротой начал вращать переключатели счетно-решающей установки, что опешивший Дектярев никак не мог сообразить, что произошло.
– Здесь еще не должно быть мезонов, – бормотал Биронт. – Я их не ожидал так рано…
– Мезоны? Так вы не шутите?
Николай Николаевич встал и обошел пульт, чтобы лучше видеть счетчик атомных частиц.
11Когда-то существовало убеждение, будто земля состоит всего из двух геосфер: твердой, но тонкой оболочки – коры и расплавленной магмы, которая простирается уже до самого центра.
Наблюдая за скоростью распространения сейсмических колебаний, ученые установили, что ближе к центру земли плотность вещества необыкновенно высока и превышает плотность стальных сплавов.
Итак, земля – твердое тело.
Однако оставался нерешенным другой вопрос: химический состав вещества на различных глубинах.
Одна группа ученых утверждала, что по мере увеличения глубины начинают преобладать тяжелые элементы, а ядро уже состоит из чистого железа, никеля, кобальта и хрома.
Другая группа ученых (к ней принадлежал и Дектярев) считала строение земного шара однородным по всей глубине. Что касается большого удельного веса ядра, то тут все легко объяснялось мощным давлением, которое внутренние слои испытывают со стороны внешних.
Но как давление сказывается на физических свойствах вещества? Остается ли каждый химический элемент самим собой, или давление коренным образом преобразует его внутриатомную структуру?
Еще задолго до рейса «ПВ-313» геофизики подтвердили: на границе литосферы с астеносферой кристаллические структуры переходят в аморфные. Кристаллы рухнули! А дальше? А глубже? Не рухнут ли молекулы? Не распадется ли атом? И что вообще тогда останется?
Современные электронные ультрамикроскопы и ионные проекторы позволили постичь до конца строение клетки и увидеть атом.
Современные радиотелескопы дали возможность увидеть новые галактики, недоступные прежде для наблюдений.
Лишь инструмента, с помощью которого ученые смогли бы заглянуть в центр планеты, создать не удавалось. Плотная завеса – почти три тысячи километров уплотненного вещества – надежно скрывала ядро от глаз наблюдателей.
Оставалось самим пробиться сквозь астеносферу.
Именно поэтому геолог-изыскатель Дектярев связал свою судьбу с испытанием глубинных подземоходов. Его заветной целью было проникнуть в астеносферу. Здесь он надеялся обнаружить хотя бы отзвуки тех явлений, которые происходят в ядре, если не до конца, то в первом приближении понять, какие силы порождают землетрясения, передвигают континенты, перемещают магнитные полюса.
Подтрунивая над Биронтом и над его теорией переохлаждения, Николай Николаевич не мог не видеть в нем и своего союзника. Усилия атомиста были направлены к той же цели: увидеть превращения вещества под воздействием давления. Дектярева интересовала внешняя форма превращений, Биронта – внутренняя.
Вот сейчас, например, давление продолжает нарастать, а температура поднимается гораздо медленнее, чем это положено ей по законам физики. Спрашивается, во что же тогда переходит энергия сжатия?
Не будучи достаточно сильным в атомной физичке, Николай Николаевич с нетерпением ждал, к каким выводам придет Биронт. Но, увы, тот устроил бунт и покинул кабину.
И вдруг появились мезоны.
Не сразу Николай Николаевич понял волнение Биронта. Свойства мезонов изучаются в каждой школе. Их обнаружили в 1937 году в атмосфере, где они образуются под воздействием космических лучей. Эти частицы в двести раз тяжелее электрона, имеют по величине такой же заряд, но по знаку могут быть и положительными и отрицательными («тяжелые электроны»). Возникая, мезоны живут всего две миллионные доли секунды. Исчезая, они оставляют после себя обыкновенные электроны и излучение.
Исследователям долгое время не удавалось получить мезоны искусственной бомбардировкой атомов. Ведь космические лучи несут с собой огромную энергию. Стоит убрать атмосферу только на одно мгновение, чтобы все живое на земной поверхности обратилось в пепел. Да и не только на поверхности. Космическое излучение пронизывает толщи вод, достигая дна океана. Оно проникает на сотни метров в глубь каменных пород.
Искусственное получение мезонов стало возможным, когда в распоряжении атомистов оказались синхрофазотроны с энергией в миллиарды электрон-вольт.
Сюда, на глубину ста километров, не могли попасть мезоны, порожденные космическими лучами. Значит, приборы обнаружили какое-то другое излучение. И если оно не космического происхождения, то есть не попадает сюда извне, значит источник его спрятан в недрах земли.
Дектярев понял теперь, что взволновало Валентина Макаровича.
Мезоны возникали и гибли. Щелканье счетчика слилось в один сплошной звук, напоминающий звук дисковой пилы, идущей по сухому дереву. У Валентина Макаровича вздыбились волосы, приоткрылся рот, округлились глаза.
Что он сейчас переживал!
Мезоны принесли ему долгожданную весточку: вся толща астеносферы пронизана необычайно мощным излучением, о существовании которого Биронт догадывался еще там, наверху, у себя в кабинете. Излучение возникало в результате распада атомных ядер, но без выделения термоядерной энергии в виде тепла. Именно такая возможность была подсказана теорией переохлаждения.
Валентин Макарович ликовал. Ему хотелось кричать от радости, и он, пожалуй, сделал бы это, если бы в горле не появились спазмы. Вот они, первые факты! Гипотеза переохлаждения перестает быть гипотезой, она становится (и он теперь добьется этого!) такой же аксиомой, как и закон тяготения. Не зря положено столько трудов и перенесено столько огорчений. Истина торжествует!
Но очень скоро пыл ученого охладила другая, уже неприятная мысль: подземоход вместе с ним, Биронтом, движется навстречу излучению, породившему мезоны. Поглощающая способность астеносферы будет непрерывно падать. Экипаж подвергается такой опасности, вполне оценить которую не мог еще и сам Биронт.
Ясно одно: дальше смерть.
Валентин Макарович похолодел, посмотрел на Дектярева круглыми глазами. Он глотнул слюну и снова вцепился в переключатели. Кончики его длинных костлявых пальцев вспотели, так что от прикосновения их к рычажкам переключателей рычажки становились липкими.
Нет, ничто не могло сейчас заставить его уйти от пульта.
– Пока меня не было у пульта, вы не замечали появления мезонов? – спросил он у Дектярева. – Очень важно знать, на какой глубине появляются признаки излучения.
Николай Николаевич развел руками.
– Ну, ничего. Ничего… – успокоил себя атомист. – На обратном пути я уточню это.
12Минули третьи сутки с тех пор, как подземоход покинул поверхность земли. Сто пятьдесят километров протянулись между кораблем и солнечным светом.
Жизнь в кабинах «ПВ-313» входила в своеобразную колею. В определенное время работали, садились за обеденный стол, отдыхали. Но больше всего времени уделяли работе, и никто не заговаривал о возвращении на поверхность.
Каждый раз, когда страх подкрадывался к Валентину Макаровичу, он спешил успокоить себя доводом, что до источника излучения еще очень далеко, что вездеход движется медленно, а лучевая защита его стенок пока вполне надежна.
Подобно Дектяреву, пытался он спать, сидя за пультом, но, повертевшись некоторое время в кресле, обращался в бегство, ибо органически не переносил храпа.
Его по-прежнему раздражала и привычка Николая Николаевича высказывать свои мысли вслух, хотя уже не так сильно, как вначале. Бывали минуты, когда, увлеченный наблюдениями, Биронт вообще не замечал ничего окружающего и даже забывал, где он находится.
И все же он предпочел бы работать в одиночестве. Однако Дектярев теперь словно прирос к пульту. Геолог и спал у пульта, проявляя удивительную способность засыпать мгновенно, если приборы не сообщали об изменениях в окружающей среде, и так же мгновенно просыпаться, если такие изменения происходили. А ведь сигналы приборов были беззвучными, нити передвигались по шкалам – только и всего.
Таким образом, Николай Николаевич спал подряд не более четверти часа, хотя в общей сложности набирал за сутки никак не меньше десяти часов.
Меньше всех спал Вадим. Придирчиво присматриваясь и прислушиваясь к работе машин, он нащупал слабое звено в конструкции подземохода. Корпус должен иметь иной профиль! Это выяснилось только сейчас, на глубине в двести тридцать километров. Электронно-счетная машина, получив более миллиона замеров давления в разных точках обшивки, составила и решила интегральное уравнение. В воображении Вадима вырисовывался новый корабль – вытянутый эллипсоид с заостренным носом.
Вадим переживал спокойное удовлетворение. Он посвящал в свои наблюдения водителя. Вдвоем они часами прикидывали, как можно перекроить «ПВ-313», а главное – как повысить его скорость.
– Главное – скорость, – повторял Вадим. – Год назад, два-три года назад наши подземоходы тоже делали полметра в секунду. Пора перешагнуть и этот барьер.
Не знал отдыха и Скорюпин. Передача следовала за передачей. Наверх о своих успехах торопились сообщить Вадим, Дектярев, Биронт. Когда же не было передач, Паша терзал приемник, пытаясь поймать ответное сообщение. Однако наземные станции молчали.
Начались четвертые сутки пути.
Далекие сотрясения базальта заставили встревожиться Вадима. Заметно возросла вибрация корпуса. Вадим, выпрямляясь в кресле, прислушивался, отвечал взглядом на взгляд Михеева. Иногда включал звуковой индикатор, пытаясь по спектру сейсмических колебаний определить силу взрывных волн в гипоцентре. На помощь ему приходил Дектярев. Получив результат расчета, геолог и конструктор исподтишка наблюдали друг за другом. Недра угрожали изрядной встряской.
– Выдержим? – спрашивал Николай Николаевич, кивком головы указывая на стены кабины.
– Да. Вполне.
– А может, того… пора и восвояси? – геолог понижал голос и косился на Биронта. – Или задержаться на месте. А то, знаете, наши наблюдения прямо-таки не успевают за движением подземохода. Невозможно учесть все, что подкарауливает нас в этой преисподней.
– Всякое явление лучше всего наблюдать вблизи, – возражал Вадим. – Ну, хорошо, мы вернемся. Разве вы не пожелаете больше участвовать в рейсах? И разве вы успокоитесь на глубине в двести километров?
– Ох, пасую, Вадим Сергеевич, пасую.
К исходу четвертых суток вибрация корпуса нарушила спокойное существование экипажа. Корпус гудел растревоженным гигантским пчелиным ульем. Мелко дрожали кресла, пульт, крышки люков. Только вытянувшись в гамаке, можно было освободиться от этого неприятного ощущения.
У Биронта разболелась голова. Схватившись за нее руками, он громко стонал, охал, пытался продолжать наблюдения и, не выдержав, спасался бегством. Отлежавшись, торопился обратно к пульту. Теперь Валентин. Макарович и не заикался о возвращении, угрюмо отмалчивался, когда ему напоминали об этом. Атомист не желал терять ни минуты. Вибрация корпуса не внушала ему страха (за безопасность корабля пусть беспокоится Сурков), но приводила его в отчаяние, потому что мешала работать.
Атомист с завистью поглядывал на Дектярева. У того был невозмутимый вид. Разве такого человека проймет вибрация?
Все чаще Михеев, Чураков да и сам Сурков искали спасения в гамаках.
– Нужно прекратить погружение, – настаивал Михеев.
– Еще немного, Петр Афанасьевич, – отвечал Вадим. – Должны же мы иметь представление о том, что такое гипоцентры.
А сам стискивал зубы. Его бесило только одно – пришлось оставить исследования. Вибрация мешала сосредоточиться.
Однажды Скорюпину после долгого и утомительного блуждания в море звуков удалось услышать человеческий голос. На шкале индикатора ожила голубая линеечка, затрепетала змейкой, посредине возникла пика.
– Станция на приеме! – закричал Паша.
Его обступили выскочившие из гамаков Михеев, Сурков, Чураков и Биронт. Только Дектярев остался сидеть в своем кресле за пультом и ограничился тем, что включил репродуктор внутренней связи.
Паша повернул переключатель. Кабины вездехода наполнились ревом и грохотом. В этом шуме слышался звон колоколов, вой вентиляторов, скрежет металла о металл, крики каких-то животных. Можно было подумать, что где-то в глубине под кораблем таится мир, населенный сказочными гигантами, и звуки этого мира грозным предупреждением проникли в помещения подземохода.
Резонансная настройка автоматически освободилась от помех. Из репродукторов во всех четырех кабинах раздался отчетливый голос директора наземной станции.
«…От вас принято восемь сообщений. Вами проделана большая и ценная работа. Тем важнее ваше скорейшее возвращение…»
Минуту было тихо. Голубая змейка утомленно выпрямилась в неподвижную линию.
– Нет, ты у меня так не отделаешься! – зашипел рассерженный Скорюпин и грудью лег на край пульта, ожесточенно завертел лимбами настройки.
– Вот досада, – проворчал Биронт. – Неужели нельзя было придумать хорошую связь?
Ему не ответили. Все продолжали стоять вокруг Паши и через его плечо заглядывали в матовый прямоугольник прибора. Приемник молчал.