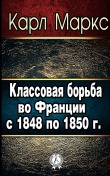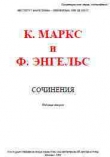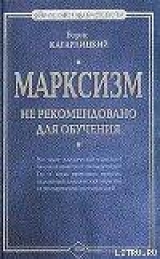
Текст книги "Марксизм: не рекомендовано для обучения"
Автор книги: Борис Кагарлицкий
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
Реальный процесс имел мало общего с тем, что описывали сторонники теории «конца труда». Но происходившие перемены действительно ставили перед марксистами целый ряд сложных вопросов. Во-первых, произошло резкое расслоение рабочего класса по уровню квалификации и заработка. Часть трудящихся, связанных с современным производством, оказалась хорошо материально обеспечена, встроена в общество потребления. С другой стороны, сложилась огромная масса работников, не имеющих зачастую ни квалификации, ни стабильного рабочего места. Это люди, занятые на множестве предприятий, начиная от сборки компьютеров (которая, как ни парадоксально, относится к числу технологически самых примитивных производств), заканчивая уборкой офисов и утилизацией мусора. Во многих случаях люди заняты неполный рабочий день и не на одном предприятий. Этот вид трудовых отношений стали обозначать французским словечком «precaire» (неопределенный, неустойчивый), соответственно представителей этого соля – «прекариатом». Подобный разрыв крайне болезненно сказался на профсоюзах и в очередной раз показал, что механическими организационными усилиями тут ничего не сделаешь.
Другой тенденцией стало географическое перемещение традиционных промышленных производств на Юг: в Китай, Южную Корею, Бразилию, Индонезию. Нет оснований утверждать, будто рабочие специальности исчезают на Западе. После резкого спада в середине 1990-х годов ситуация стабилизировалась. Но теперь большая часть индустриальною пролетариата оказалась в Азии.
В данном случае география имеет значение. В эпоху Маркса основная масса промышленных рабочих – представителей «опасного класса» – находилась в странах, составлявших «центр» капиталистической системы. Так продолжалось до начала 1970-х годов. Сейчас эксплуататоры и эксплуатируемые разделены морями и государственными границами. Значительная часть рабочего класса вытеснена на периферию. Эта ситуация во многом объясняет и уверенность, с которой буржуазия Западной Европы и США начала демонтаж социальных завоеваний трудящихся именно в наиболее развитых странах. Географическое перемещение промышленных рабочих мест и наступление на «социальное государство» взаимосвязаны. Вместе с кризисом профсоюзов развивался и кризис традиционных западных левых партий, опиравшихся на организованный рабочий класс.
Разумеется, компьютерные программисты или работники банков так же подвергаются эксплуатации, как и промышленные рабочие. Компьютерную программу превращают в товар, и с этого момента ее автор может так же приносить прибавочную стоимость хозяину компании, как и индустриальный рабочий. Проблема в том, что формы самоорганизации новых пролетарских слоев оказываются иными, чем в случае промышленного пролетариата. Формы их сопротивления капитализму – тоже.
В конце 1990-х обнаружился раскол в среде так называемой «технологической элиты». После короткого периода эйфории, связанной с гигантскими возможностями информационных технологий, выяснилось, что в среде специалистов происходит стремительное расслоение. Лишь немногие становятся успешными предпринимателями подобно Биллу Гейтсу. Причем, как правило, наиболее талантливые и профессионально успешные специалисты ими как раз не становятся (быть капиталистом – совсем не то же самое, что быть компьютерным гением). Зато эксплуатация компьютерного гения может дать куда больше дохода, чем эксплуатация обычного рабочего. Сам эксплуатируемый, естественно, получает достойные средства для того, чтобы воспроизводить свою дорогую и ценную рабочую силу. Но его конфликт с системой вызван не столько материальным недостатком, сколько моральной неудовлетворенностью и несогласием с тем, кто и как принимает решения.
Технологическая элита начала переходить в оппозицию капиталу, претендуя на власть. Некоторые марксистские авторы (например, в России – Александр Тарасов) именно ее провозгласили истинным могильщиком капитализма. В любом случае у технологической элиты есть целый ряд претензий к системе, которые на данном этапе буржуазное общество удовлетворить не в состоянии. Политические конфликты, возникающие вокруг проблемы интеллектуальной собственности, являются тому отличным примером. Несмотря на все попытки защитить ее, право на интеллектуальную собственность нарушается повсеместно, и чем дальше – тем больше. Причиной тому, во-первых, современные технологии, все более облегчающие копирование любых материалов и доступ к любой информации, а во-вторых, сама природа интеллектуального продукта, который радикально отличается от материальной продукции, производимой промышленностью. При продаже пары обуви ее собственник теряет возможность использовать товар, который он уступил другому лицу, тогда как программу можно копировать снова и снова.
Логика капитализма вступает в прямое и неразрешимое противоречие с логикой информационных технологий. Внутри Интернета стихийно формируется коммунистический тип обмена, когда все принадлежит и доступно всем. Режим частной собственности лишь сдерживает потенциал, заложенный в технологиях XXI века. Что, кстати, в очередной раз подтверждает правоту тезиса Маркса о противоречии между производительными силами и производственными отношениями.
Вполне естественно, что «технологическая элита», порожденная информационной революцией, заинтересована в максимальном развитии новых возможностей, которые эта революция открывает. Очевидно, что на этой почве возникает конфликт с традиционной собственнической элитой, основывающей свое влияние на контроле над капиталом и собственности. Популярность антиглобалистского движения и других левых идей среди представителей новых профессий, порожденных компьютерной революцией, говорит сама за себя. Другой вопрос, как далеко этот конфликт пойдет и насколько радикальной окажется новая оппозиция.
В любом случае «технологическая элита» не достигнет своих целей самостоятельно, без взаимодействия с традиционным рабочим движением, которое остается самой массовой антикапиталистической общественной силой.
Задача левой политики и идеологии состоит в формировании того, что Грамши назвал «историческим блоком», объединяющим вокруг общей социальной программы комплекс политических и классовых сил, которые способны выступить с совместным проектом и изменить систему.
Консолидация класса
Одни классы и социальные группы более консолидированы, другие менее. В реальном обществе есть промежуточные социальные образования, находящиеся как бы между классами. Все это постоянно меняется, идет процесс формирования и развития класса. Рабочий класс, как и буржуазия, трансформирует общество, но и сам трансформируется. В определенных ситуациях он начинает разлагаться. Технологические революции, например, каждый раз трансформируют мир труда, меняют природу наемного работника и социальную структуру общества. Превращение капитализма в глобальную систему создает совершенно новое явление, которое не может быть описано в старых категориях. Появляется так называемый неформальный сектор. Миллионы людей включены в рыночную экономику, но по особым правилам. Они не включены в формальные рыночные отношения, у них нет формально оформленного найма, хотя их труд эксплуатируют.
Природа неформального сектора в России не совсем такова, как в Индии или Латинской Америке. В России работник неформального сектора может иметь достаточно высокий уровень образования и параллельно работать в формальном секторе, получая мизерную зарплату. В 1990-е годы было много людей очень высокой квалификации, которые работали совершенно не по специальности. Когда люди с высокой квалификацией выходят на рынок труда в секторе низкой квалификации, они наносят страшный ущерб тем, кто на этом рынке действует, потому что делают ту же работу лучше.
Классический неформальный сектор в Латинской Америке состоит из людей малообразованных, забитых, не имеющих доступа к другим формам труда. В России такую роль играют мигранты из стран «ближнего зарубежья», а отчасти и внутренние мигранты, приезжающие из провинции в Москву. Но они не только неформально работают (без контрактов, трудовых книжек, налогов, страховки). Они часто еще и нелегально находятся на территории Москвы, не имеют регистрации. Такие неформалы-нелегалы становятся важной частью рабочей силы и на Западе. Возникает ситуация, когда рынок труда расслаивается. Если пролетариат XIX века становился с течением времени все более консолидированным и организованным, то с конца XX века наблюдается обратный процесс.
Во многих периферийных обществах социальная структура как бы раздваивается. В конце 1970-х социологи говорили про «Бельгию в Индии». В одной стране как бы два общества, две буржуазии, два рабочих класса. Есть традиционное общество, где есть своя промышленность и люди работают на внутренний рынок. Они работают за гроши, продают свой товар на рынке людям, которые получают такие же гроши. Но рядом есть модернизированный сектор, напрямую включенный в мировую экономику, где люди живут по-другому и работают по-другому, и заработные платы у них уже сопоставимы с европейскими. Они включены уже не только в глобальное производство, но и в глобальную систему потребления, им нужны импортные товары. Бельгия в Индии имеет свой рабочий класс и свою буржуазию. Сейчас наблюдаем в России, на Украине, в Казахстане то же самое. Понятно, что социальные конфликты в двух частях общества идут как бы параллельно.
Произошла и этнокультурная трансформация рабочего класса. Что такое рабочий класс образца 1900 года? Это белые мужчины и преимущественно христиане, очень редко евреи. Они составляют культурно однородную среду. В 1920-е годы в Южной Африке происходит мощная забастовка, организованная преимущественно англоязычными рабочими. Забастовщики очень радикальны, выходят на улицы под красными флагами. Дошло до того, что колониальные власти вынуждены были применять армию, включая авиацию, чтобы подавить эту забастовку. Одним из видов борьбы властей против забастовщиков стал массовый завоз черных рабочих из деревни для выполнения работы в шахтах. Это было первое массовое столкновение забастовщиков со штрейкбрехерами, в котором был элемент расово-этнического конфликта. В те дни белые рабочие-забастовщики шли по улицам с плакатами: «Рабочие мира, объединяйтесь, чтобы Южная Африка осталась белой». Это не просто проявление расизма, хотя расизм здесь, безусловно, имеет место. Просто у забастовщиков было свое представление о том, что такое рабочий. Он должен быть белый, мужчина, европеец, скорее всего англоязычный. Географически он был сосредоточен в Европе, Северной Америке и нескольких южных странах – Австралии, Аргентине.
Глобализация сопровождалась переносом индустриальных производств на Юг. Сейчас больше всего рабочих в Латинской Америке, Китае, Южной и Восточной Азии, Южной Африке. В Европе, наоборот, рабочих стало меньше, они уступают по численности «белым воротничкам». Но зато «белые воротнички» подвергаются все более интенсивной эксплуатации, понемногу осознавая себя новым пролетариатом. Другое дело, что у этой массы новых пролетариев есть свои культурные особенности. Людей, работающих у компьютера, зачастую нельзя объединить в профсоюз такими же способами, как конвейерных рабочих. Политическая активность нового пролетариата принимает иные формы. Старые партии и профсоюзы не всегда им подходят, а создавать новые «с нуля» дело трудное. Тем более что встает вопрос о том, как наладить взаимодействие и взаимопонимание между «новыми» и «старыми» силами, представляющими интересы разных отрядов наемных работников.
Современный рабочий класс совершенно другой. Белых заменили черные, китайцы, арабы, кто угодно. Причем не только китайцы и арабы в Алжире или Китае, а это могут быть китайцы и арабы в Англии и т.д. Огромная масса рабочих мест занята женщинами. Культура труда меняется. Психология взаимоотношений на производстве меняется.
Корпорации осознанно реорганизуют процесс труда таким образом, чтобы разобщить коллективы. Профсоюзы переживают кризис.
Рабочее движение должно вырабатывать новые формы социализации, чтобы класс стал однородным, но уже на другом уровне, по-другому. Объединить людей должны более глубокие общие интересы, а не внешние формальные проявления сходства. Это гораздо более сложный и тяжелый процесс.
Если вернуться к Южной Африке, то там через несколько поколений черный рабочий класс усвоил культуру белых рабочих. Принадлежность к черному большинству населения стала тождественна принадлежности к рабочему классу. Развилась культура профсоюзной организации. Раньше люди говорили на разных племенных языках, теперь и их объединил именно английский язык. Пролетарская английская культура стала своего рода плавильным котлом, который объединил массу представителей африканских народностей в нечто новое.
История и классовое сознание
Марксисты 1920-х годов, Лукач и Грамши, обратили внимание на то, что формирование идеологии и классового сознания само по себе является не просто проявлением каких-то глубинных процессов на уровне идей. Напротив, идеология и сознание класса являются мощнейшим фактором организации этой социальной массы. Они регулируют ее поведение, способствуют ее структурированию. В этом плане класс становится «классом для себя» в той мере, в которой он, выработав некоторую идеологию, начинает на этой основе строить свое поведение, отношения внутри себя и т.д.
Пролетариат не может уже поддерживать свое единство на основе идей и культуры начала XX века, он проходит период поиска себя и становления, который аналогичен тому, что наблюдали Маркс и Энгельс на 150 лет раньше в период становления раннего индустриального пролетариата. Когда старые символы, старые методы социализации теряют свою работоспособность, появляется необходимость в новой форме социализации. И здесь очень существенно, кто сможет осуществить гегемонию, сделать свои символы, свои представления о солидарности, о взаимодействии более широкими, общими.
Вот в этом плане английский и немецкий рабочие конца XIX века до известной степени стали нормой для мирового пролетариата. В период глобального капитализма мир наемного труда стал гораздо социально более плюралистическим. Но у него все равно много общих ценностей и интересов.
Маркс исходил из того, что рабочий класс является большинством общества и, следовательно, наиболее заинтересован в демократии. Он может только выиграть, подорвав власть элит, обеспечив максимально справедливое распределение материальных благ. Совместима ли демократия с социализмом? Для Маркса не существует этой проблемы. Для него это тождественные вещи, поскольку социализм на уровне экономики выражает приход к власти большинства общества. Но Ленин, живущий в условиях периферийного капитализма, уже прекрасно понимает, что рабочий класс может являться меньшинством. Причем от этого он не становится менее влиятелен или радикален.
Именно малочисленность русского промышленного пролетариата очень многое объясняет в большевизме и, кстати говоря, в меньшевизме тоже. Рабочий класс в России – это не просто меньшинство, но в некотором роде и элита. Это меньшинство, которое обречено оставаться меньшинством, потому что данный тип капитализма, в отличие от западного, не может успешно реализовать индустриализацию, модернизацию. И у Ленина, и у Мартова рабочий класс, являющийся меньшинством, одновременно считается как бы лучшей частью трудящихся.
Пролетариат является классом, который способен преобразовать общество. Но представление о революционности рабочего класса или о его миссии по отношению ко всем остальным трудящимся (прежде всего по отношению к массе мелкой буржуазии) подтверждено повседневным опытом. Индустриальные рабочие лучше организованы. Они лучше обучены, они грамотнее. У них совершенно другие затраты на воспроизводство рабочей силы. Они живут в городских квартирах. Им нужно учиться, ходить в кинематограф, который только появляется, они не только пьют в кабаках, но нередко еще и читают книги. У рабочего есть культурные потребности, которых, как правило, нет у крестьян. Рабочий день ограничен (в деревне страда от рассвета до заката). Отношение к свободному времени другое. На крестьянина можно смотреть свысока.
Пролетарий – меньшинство передовое. Почему бы ему и не осознать свое избранничество? Это мессианское начало, которое невозможно не видеть в большевизме, в русской революции, органично вытекает из реального положения вещей в России и в других периферийных странах начала XX века. Это избранничество есть и в меньшевизме, и в большевизме, только понимается по-разному. В меньшевизме это воспринимается как просветительство. Меньшевик собирается распространять в дикой стране западное просвещение, объяснять другим – что нужно и что нельзя делать. Избранничество большевистское более агрессивно. Это своего рода джихад, социальный джихад.
Избранный класс, заменитель избранного народа, должен повести за собой массу и преобразовать общество в соответствии со своими представлениями о том, как оно должно функционировать по справедливости, сделать всех похожими на себя.
Идея избранного народа пришла из иудаизма, но в иудаизме нет желания сделать других похожими на себя. Как раз наоборот, избранный народ боится раствориться в мире. У мусульман и христиан появляется идея распространения веры, знания.
Разумеется, Ленину или Троцкому было абсолютно чуждо представление о большевизме как своего рода социальном джихаде. Но революцию делали не только вожди и интеллектуалы, но и массы. А у масс такие представления были. И большевизм именно потому стал великим историческим движением, что был несводим к идеям нескольких передовых мыслителей, он отражал реальные настроения, стремления и иллюзии масс.
В основе большевистского социального джихада лежат на самом деле европейские просветительские идеи. Все-таки это европейская культура. Несколько иная картина получится, если мы посмотрим на китайскую революцию, на то, как марксизм преломляется в мышлении Мао Цзэдуна. Попробовав действовать по-большевистски в Шанхае, китайские коммунисты потерпели поражение. Троцкий объяснял эту неудачу неверными инструкциями Коминтерна, но были и социальные причины. В Китае рабочий класс был в масштабах общества настолько мал, что осуществить свой революционный джихад он был не в состоянии. Русский рабочий класс был мал, элитарен, но все равно имел критическую массу, достаточную для победы революции. Он мог повести за собой широкие слои крестьянства, преобразовать страну, взять власть. Мао обнаруживает, что в Китае так не получится. Он приходит к выводу, что действовать нужно принципиально иначе. Рабочий класс должен не вести за собой деревню, а, наоборот, должен сам идти в деревню и слиться с деревенскими массами. Происходит возврат к народничеству, когда революционная сила воспринимается не просто как классовая, а как народная.
Когда Ленин говорит о блоке рабочих и крестьян, для него понятно, что этот блок не может быть равноправным. И дело не только в классовом различии между пролетарским городом и мелкобуржуазной деревней, но и в том, что существует культурный разрыв между рабочими и крестьянами. Этот разрыв настолько велик, что крестьянину остается только идти за рабочими. Ленин писал об этом вполне откровенно, даже с некоторой болью.
Мао рассуждает иначе. Деревня и город должны объединиться, взаимообогатив друг друга культурно. Китайские коммунисты уходят из городов в деревню. Начинается Великий Поход, когда коммунисты и их вооруженные формирования уходят в глубинку. И уже там, в глубинке, в Особом Районе Китая, на основе крестьянской общины начинают формировать элементы нового общества. Городской и сельский пролетариат, народная и общинная традиция – все это начинает вариться в едином котле и объединяться в новую форму общественной организации.
Лишь затем, как планировал Мао, деревня окружает города. Революция в 1948-1949 годах приходит не из города в деревню, как в России, а из деревни в город.
Можно сказать, что представление о пролетариате как о чисто городском классе было опровергнуто социальным опытом XX века, особенно в странах Азии. Но с другой стороны, классические формы пролетарской организации все же выработаны были в Европе. И перспективы освободительной борьбы в очень большой степени зависят от того, насколько в нее будут вовлечены не только самая бедная часть трудящихся, но и самая передовая в технологическом смысле. А это все же квалифицированные работники наиболее развитых отраслей промышленности, точно так же, как представители научного и инженерно-технического пролетариата.