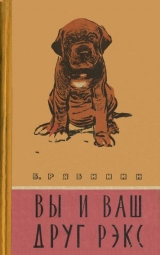
Текст книги "Вы и Ваш друг Рэкс"
Автор книги: Борис Рябинин
Жанр:
Домашние животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Как-то не вязалась мысль, что эти веселые, быстрые лапы отбегали по земле. Казалось, ведь только что пес был здоров, жизнерадостен. Он и теперь еще – спит, а ноги все дрыг-дрыг: побежал. Во сне ноги все бегут куда-то: а в действительности уже давно не бегают; тело немощно, а в глубинах мозга все еще живет нервная сила, питаемая воспоминаниями о тех днях, когда он был здоровым и сильным.
Мы звали его «ветерок»; и он вправду был как ветерок. Одиннадцать лет изо дня в день, трижды в течение суток – утром, в обед и вечером – я ходил с ним на прогулки. И было как-то непонятно, как это вдруг не станет его, не надо будет выгуливать. Как так? – когда это стало и моей потребностью, частью моего бытия… Понимаешь: конец неизбежен, нет, не существует такого средства, чтобы изменить этот извечный порядок чередования жизни и смерти, умирания и обновления, перехода белковой ткани из одного состояния в другое.
И все-таки есть в этой неумолимости вечного обмена материи что-то беспощадное, с чем невозможно согласиться спокойно.
Природа все же жестока: в муках живое существо появляется на свет, в муках оно уходит из жизни.
А как раз в эти дни мы со своим неумеренным старанием, как назло, причинили Джекки новые совершенно ненужные страдания. Все еще обманывая себя мыслью о воспалении легких, мы решили сделать ему горчичники.
Посоветовала их та самая молодая женщина-терапевт, которая однажды осматривала Джекки. Советовала она от доброй души; да ведь бывает, что и то, что делается с лучшими побуждениями, идет во вред; а врач должен быть особо осмотрителен, рекомендуя что-либо.
Задача оказалась не из легких. «Человеческие» горчичники для собаки не подходят: мешает шерсть. Пришлось развести горчицу; но оставить ее на теле нельзя – значит, сначала с силой втираешь ее на тело против шерсти, затем смываешь. Для больного животного это трудно. Джекки очень утомился, стоя долго на ногах. Кроме того – опасность простудить. Не случайно Мюллер рекомендует при легочных заболеваниях втирать горчичный спирт, а не горчицу.
Неизвестно было, через сколько времени горчичники начнут действовать. Попробовали на себе: какое ощущение через 5, 10, 15, 20 минут. Когда, наконец, процедуру закончили, пришлось Джекки закутать, так как он начал дрожать. Через полчаса переменив повязку, дали портвейн, уложили и накрыли легким одеяльцем, но вскоре он запросился на улицу. Фу ты, неладное, это уж совсем плохо; ведь собака сырая, а на дворе мороз.
У нас уже получилось так один раз. Попробовали сделать Джекки согревающий компресс, а пес сразу же направился к двери: уже привык – раз завязывают, значит – на улицу. Пришлось вести, накрутив поверх шали и специальной попонки еще один платок.
С горчичниками вышло еще хуже. Всю ночь он пыхтел, к утру его прослабило. Шерсть на нем слиплась и ссохлась. Словом, этот неудачный эксперимент стоил нам бессонной ночи, а собаке принес дополнительную тягость. С тех пор я против горчичников; особенно для длинношерстных собак они не подходят никак. Если хотите доконать больное животное – делайте: намучаете собаку, намаетесь сами.
Как и следовало ожидать, пользы от горчичников не получилось никакой, если не считать приобретенного и вряд ли потребующегося когда-либо опыта.
Новое резкое ухудшение в состоянии Джекки произошло на третьей неделе лечения. Он потерял голос. Вместо лая у него получалось какое-то сиплое: «ав, ав…» Васька пугался этого незнакомого звука и подолгу присматривался к Джекки как бы спрашивая: «Ты ли это?..» Появилась отечность лап, сначала легкая, затем быстро увеличивавшаяся. Концы лап стали тяжелые, толстые, в то время как сам он, казалось, ссыхался день ото дня, становился меньше, тщедушнее. Часто шла слюна, окрашенная кровью.
Осматривая Джекки, Николай Дмитриевич теперь уже не восторгался его достоинствами, не похлопывал оптимистически по спине, а лишь хмурился и молча качал головой, поправляя очки.
– Ну, мы же его из мертвых поднимаем, – как-то вырвалось у него, и эти слова открыли мне истинное положение Джекки. Вот почему при каждой встрече Николай Дмитриевич упорно твердил: «Возьмете нового щенка, воспитаете его таким же…»
В другой раз он сказал:
– Ну, если мы его поднимем, вся клиника гордиться будет!..
Но поднять было уже невозможно.
Силы Джекки быстро истощились, теперь болезнь пошла ускоренным темпом. Выходя на улицу, он должен был останавливаться через несколько шагов, чтобы сделать передышку, и стоял, качаясь, с беспомощно вывороченными задними лапами, с шумом втягивая воздух. Перестал реагировать на что-либо; и только по-прежнему понимал мои слова-команды. Иногда подходил, ступая неуверенно, как пьяный, и вставал около меня, ожидая ласки, больше ничем не выражая своих чувств. Неподвижен был даже хвост.
Как изменился Джекки за короткое время! Он стал просто неузнаваем. Куда девались его живость, его неистощимая энергия, подвижность? Теперь, поднявшись, он подолгу стоял, набираясь сил, прежде чем сделать следующее движение, понурый, с отвислыми брылями и весь напрягаясь в тяжелом, спазматическом дыхании. Потухший взгляд с постоянной слезой в уголках печальных глаз, всегда спущенная голова. От бесконечных уколов шерсть сделалась клочковатой, бугристой, потеряла шелковистость и блеск. Бока провалились, ребра выступили, лапы толстые… Как уродует болезнь!
Понимал ли он, что умирает? Как проникнуть в психический мир животного? Великий Павлов сделал в этом отношении много, но и он не разгадал всего.
День ото дня Джекки поднимался все реже, жизнь уходила из него. Только глаза продолжали жить, оставаясь ясными, чистыми, полными любви, преданности и смертельной тоски.
Заметили, что вставать ему удается лишь после нескольких судорожных попыток. Возрастала сонливость. Характерно, что спал с незакрытыми глазами (вероятно, от слабости). Видеть это было неприятно, даже как-то жутко. Ведь спит, ритмично раздувая щеки (раздувание щек теперь было постоянным симптомом), а третье веко не задергивается, губы приподняты, так, что обнажены зубы. Как в прострации. Проснувшись, он долго не мог очнуться, с трудом приходил в себя.
Для поддержания сердца ему давали дигиталис, кофеин, камфору подкожно. Ничего не помогало. Слабость увеличивалась.
Последние дни стал тихий. Странно было, что он не лает, вообще не издает ни звука; тем выразительнее был его печально-преданный взгляд. Казалось, все наши чувства отражались в нем.
Интересно, что вдруг отрыгнулась старая боязнь людей в военном. Как-то пришел знакомый, одетый в защитную форму. Джекки забился под кровать; Галя не могла его вызвать, он был как без чувств. Он вылез лишь когда пришел и позвал его я.
Все чаще я спрашивал себя: надо ли тянуть дальше? Не лучше ли кончить все разом? К чему заставлять животное мучиться?
Но разве легко приговорить к смерти преданное тебе существо, оборвать жизнь? Совесть не позволяет украсть у него хотя бы лишний час жизни; и нет сил смотреть на его мучения…
Все это время ни мы с Галей, ни врачи не забывали о раке; но поскольку существовала версия, что это, может быть, и не рак, мы цеплялись за нее. Не верилось, не хотелось верить, хотя именно на это с самого начала было больше всего оснований думать. Но уж так устроен человек: он всегда надеется.
Сильный организм Джекки упорно боролся с недугом; это, возможно, тоже ввело в заблуждение врачей. Может быть, также и мое настойчивое желание во что бы то ни стало спасти собаку вынуждало их ставить более мягкий диагноз, еще давать какую-то надежду, хотя ее давно уже не оставалось.
В пятницу я заметил, что у него начала меняться форма головы, отекла морда. К субботе эта перемена в нем стала особенно разительной. Он весь сделался «сырой», с какой-то большой тяжелой головой, враз одряхлевший, с тусклым взглядом – совсем как не он, не наш Джеккуня. На шее шерсть взъерошилась и стояла торчком, губы, щеки разрыхлились, сделались мясистыми. Шла слюна.
Накануне у него исчезли хрипы, но дыхание стало брюшным и коротким, с быстрыми частыми вдохами-выдохами.
Я позвонил в клинику, спросив, могу ли я сейчас приехать с собакой. Николая Дмитриевича не оказалось, он уехал в командировку, мне ответил другой врач:
– Давайте подождем еще до понедельника.
– Да что ждать, – возразил я. – Все ясно и так…
– Ну, не будем торопиться. Решим все в понедельник.
Суббота – короткий день, и врачу, очевидно, хотелось пораньше закончить работу и отправиться домой.
В воскресенье слизистые оболочки в пасти Джекки сделались неестественно-розовые, яркие. В понедельник, уже в машине, я обнаружил, что они совершенно белые, чуть с сиреневым отливом. Теперь, внутренне решившись, я уже не чаял поскорей добраться до больницы.
Перед глазами у меня стояла агония Казана. Она длилась три недели, последние двое суток он непрерывно выл, не дав никому в доме сомкнуть глаз. Только укол пантопона облегчил его страдания, а после пришла, наконец, и освободительница-смерть.
Разве не долг человека освободить животное от ненужных мучений? Зачем допускать, чтобы собака – это гордое, прекрасное, жизнелюбивое существо, ваш друг, – ползало на животе, испытывая невыразимые муки, пачкаясь под себя?
Нужно перешагнуть через это. Я говорю это для тех из нас, кто фанатически любит собаку и готов сделать для нее даже сверх того, что подсказывает разум. Нужно, нужно прекратить страдания. В современных ветполиклиниках это делается просто: электрическим током. Оттяжка не помогла в свое время догу Джери, хотя было сделано все для его спасения. Она не спасла многострадального Рэкса, брата Джекки. Не спасла она теперь и Джекки.
Во дворе поликлиники Джекки сам спустился из машины наземь и, побежав впереди меня, ткнулся в дверь, но не в ту, куда мы обычно входили с ним, а совсем в другую, другого корпуса. Он еще понимал, что это дверь, но какая, куда она ведет, уже не ориентировался. Он действовал как вслепую; рефлексы затухали, но мозг все еще толкал на исполнение.
До самой последней минуты он повиновался мне, понимал меня. И даже в это утро, последнее утро его жизни, перед своим последним отъездом из дома, в котором прошла вся его жизнь, в тяжком физическом недомогании, уже полутруп, а не собака, едва заслышав привычное и всегда так радовавшее его слово «пошли!», напрягшись всем телом, царапая когтями пол, поднялся и, пошатываясь, направился к выходу… Мозг умирает последним.
Какие-то рефлексы все еще жили в нем и в те, последние минуты, пока врач готовился к осмотру, ибо Джекки по привычке обнюхал санитара, вытянув шею, постарался дотянуться носом до склянок, стоявших на столе… Но все это он делал как в полусне, покачиваясь, как сильно захмелевший или словно от большой усталости.
Его поставили на операционный стол. Молодой врач-хирург, Евгений Адамович, очень симпатичный и мягкий в обращении с животными, замещавший Николая Дмитриевича, быстро обследовал пальцами шею Джекки и вдруг весело сказал:
– Так у него же нарыв! Вы смотрите, сплошной гнойник. – И он продолжал ощупывать шею. – Видите, какое затвердение…
Я вопросительно смотрел на него.
– Сейчас вскроем, выпустим, и заживет ваш пес!
– А может быть, не надо, – нерешительно возразил я. – Зачем зря мучить собаку?
– Почему – «зря»? Я вам говорю: будет жить!
Санитар быстро выстриг шерсть на шее Джекки, смазал йодом участок кожи величиной с ладонь. Евгений Адамович вооружился иглой от шприца и, сказав мне: «Держите его», – вонзил блестящее острие. Джекки даже не шелохнулся. Он дышал с трудом, шумно втягивая воздух и весь содрогаясь в непрерывной нервной дрожи.
Крови – ни капли.
– Дайте другую иглу, – приказал Евгений Адамович.
Принесли другую иглу, большего диаметра. Евгений Адамович ввел ее. Но прошло, наверное, не меньше полминуты, пока, наконец, из отверстия иглы показалась… нет, не кровь, а какая-то грязная сукровица темно-бурого цвета.
Евгений Адамович нахмурился.
– Придется вскрыть скальпелем… Держите, – снова повторил он мне; но Джекки не пошевелился и на этот раз, хотя врач вспорол ему шею, как распарывают старый шов, сделав разрез сантиметров восьми. Медленно-медленно выступила опять та же сукровица. Евгений Адамович нажал на край раны, из нее выползла студенистая кровавая масса, похожая на сырую печень. Я быстро бросил взгляд на его лицо; оно было мрачно. Он перехватил этот взгляд и проронил всего два слова.
– Злокачественная опухоль.
Запустив обмазанные йодом пальцы в рану, он шарил в ней, и сколько мог достать, всюду был тот же кроваво-красный студень.
– Все разрушено, все ткани…
Вот отчего топорщилась шерсть на шее Джекки. Росла опухоль, шея раздулась, кожа натянулась, и волосы встали торчком, как иглы у ежа. И все это произошло очень быстро, в последний период болезни.
– Значит – все? – спросил я, хотя это было ясно и так.
– Все.
– Тогда давайте кончать.
Казалось, это сказал не я, а кто-то другой, за меня. Мы сняли Джекки со стола и положили на цементный пол. Он никак не реагировал на это, подчиняясь беспрекословно или лишившись остатка сил. Милый, милый… Я плохо видел, как санитары подтянули к Джекки два провода, прикрепив один к затылку, другой у корня хвоста, плохо слышал, как Евгений Адамович, нервничая вместе со мной, сердито подгонял их: «Чего копаетесь! Быстрее!». Я видел лишь Джекки, нашего бесценного Джекки, такого беспомощного, обреченного. Он лежал врастяжку на боку, продолжая вздрагивать, как в ознобе, и вращая глазами, которыми он все старался взглянуть на меня, а я стоял над ним и только все повторял: «Джекки… Джекки…»
Вдруг он дернулся, все мускулы напряглись, лапы, шея вытянулись, голова откинулась; казалось, сейчас он вскочит и побежит, как прежде, бодрый, молодой, полный сил. В ту же секунду тело обмякло, глаза перестали двигаться. Пропустили ток. Всё.
Опустившись на корточки, я гладил его, хотя он уже не мог ощутить мою ласку. Это верное сердце перестало биться.
Все-таки чаша сия не минула меня: и третий мой пес окончил свое существование в той же больнице. И как ни противился я этому внутренне, пришлось его усыпить. От неизбежного не уйдешь.
Я сделал это для него же.И без этого ему оставались уже считанные часы жизни. Об этом, в частности, свидетельствовали белые, как бумага, слизистые оболочки.
Мне дали выпить валерьянки, затем вдвоем с санитаром мы перенесли Джекки в другую комнату и положили у стены. Он был еще теплый, но глаза, остановившиеся, полуприкрытые веками, уже начали мутнеть. Больше нельзя было прочесть в них ни любви, ни преданности, – ничего. Все взяла смерть.
Но я был рад хотя бы тому, что оставался с ним до последнего мига. Любовь и преданность – самые драгоценные чувства; и, право же, их надо ценить даже в животном.
Я испытывал застарелое чувство виновности перед памятью дога Джери, который умер в больнице без меня; я не решился навестить его даже мертвого… Последние годы он жил не со мной, а с моими родителями: я оставил им его после того, как женился и переехал на другую квартиру. Я был моложе тогда и ко многому относился иначе; известно, что молодость эгоистична, а настоящее, глубокое понимание явлений жизни приходит лишь с возрастом.
Не на моих глазах рассталась с жизнью и наша Снукки, терпеливое, послушное существо. Пожалуй, ее смерть прошла наиболее беспечально, – может быть, потому что только что кончилась война и все наши помыслы были заняты другим. Я даже подозреваю, что она была усыплена, но от меня это просто скрыли. Когда я приехал в больничный стационар, чтобы навестить ее, она лежала уже окоченевшая, с неестественно распрямленными и стоячими, как у овчарки, ушами.
С Джекки я был до конца, и, повторяю, рад этому.
Чувствуя приближение своего конца, животные нередко забиваются куда-либо в темный угол, иногда стремятся даже убежать из дома. Так умирала Аста, одна из дочерей Снукки. У нее отнялись ноги; она на животе добралась до двери, скатилась кубарем по лестнице и уползла в сарай. Там ее и нашли мертвой.
Умирая, они становятся тихими, смиренными, как бы покоряясь неотвратимому. Таким запомнился мне Джекки.
Когда я вернулся домой с одним поводком, без Джекки, кошки встретили меня еще у порога, хотя они не могли знать о случившемся из телефонного разговора, как Галя. А после они долго все чего-то ждали, к чему-то прислушивались, смотрели на дверь, притихли: дом посетила смерть…
Инстинкт – могучий подсказчик – говорит животным все, и тут, пожалуй, приходится посторониться даже нам, людям, со всем нашим сложным и многообразным комплексом чувствования, понимания, абстрактного мышления. В этом животные сильнее нас.
На другой день я съездил в больницу. Только что закончилось вскрытие Джекки, и в патологоанатомическом отделении пожилая женщина-анатом показала мне, что было с ним.
Да, у него оказался рак. И какой! Поражены были легкие, печень, селезенка. На легких не оставалось, кажется, даже квадратного сантиметра здорового места, – кругом метастазы. Селезенка была вся в наростах, как в больших бородавках. Печень обтянута опухолью величиной с два кулака. Опухоль на шее достигала двух килограммов весом. Даже в сердце нашлись какие-то костные новообразования, как горошины, скрепленные ниточками, отдаленно напоминающие цветы ландыша. Можно удивиться, как он еще жил. Только кишечник был совершенно чистый; он и на рентгене просматривался, как светлая труба; может быть, это еще и «тянуло» собаку.
И потеря голоса, и слабость задних конечностей, и многие другие уже описанные мною явления, происходившие с Джекки в период болезни, – все это были признаки рака.
Откуда начался рак?
Этого врачи не могли сказать. Но, вероятно, все же с шеи. Таким образом, досадуя на специалистов ветклиники за то, что они вольно или невольно заставили меня понапрасну мучить собаку, дважды меняя диагноз, я все же вынужден был признать, что ошибку, быть может, совершил наш дорогой Анатолий Игнатьевич, усыпив нашу бдительность заявлением, что опухоль железы не опасна. Ведь действительно, ничего не стоило, пока она была еще доброкачественной, вылущить ее. Виноваты были и мы: успокоились, перестали следить.
Ну, а какова могла быть первопричина болезни? С чего распухла железа? Ведь ничто не начинается само собой…
Копаясь в памяти, я останавливался на крошечном эпизоде, которому в свое время не придал ровно никакого значения; теперь же он вставал передо мной совсем в ином свете.
Как-то один мой товарищ, очень дружный с Джекки, играя с псом, схватил его за голову и, желая повалить, стал скручивать ее набок. Сначала Джекки противился, нарочито-грозно рыча, потом вдруг громко взвизгнул и сразу прекратил игру. Переусердствовав, мой товарищ сделал ему больно. Не тогда ли и повредилась железа?
Вспомнилось мне, как вскоре после этого, когда мы уже знали об опухоли на шее, наша соседка Аня, иногда выгуливавшая собаку, если я был очень занят или находился в отъезде, на прогулке сильно дернула Джекки. Он два дня плакал. Наблюдательность, наблюдательность… На этот раз она изменила мне.
Но больше всего я задерживался на инциденте, который произошел примерно за год до смерти Джекки.
Мы гуляли с ним вечером по набережной городского пруда. Дело было зимой, стоял крепкий морозец, набережная была почти пустынна, и я отпустил Джекки побегать. Неторопливой рысцой он бежал метрах в тридцати от меня, время от времени останавливаясь, чтобы обнюхать полузасыпанный снегом каменный поребрик.
Впереди показалась группа молодежи. Это были парни лет восемнадцати-девятнадцати, человек шесть или семь. Они возвращались с катка. Один из них сильно покачивался, видимо, кроме спорта, увлекаясь еще кой-чем, горячившим кровь. Они шли, громко разговаривая. Зная, что Джекки не тронет их, я не стал подзывать его.
Вдруг раздался короткий болезненный взвизг, Джекки отпрыгнул в сторону и, не обращая внимания на мой подзыв, со всех ног устремился прочь, по направлению к дому.
Оказалось, поравнявшись, пьяный неожиданно изо всей силы пнул его. Это произошло столь внезапно, а удар, по-видимому, оказался столь силен, что впервые у Джекки возобладала пассивно-оборонительная реакция. Только этим я мог объяснить, что он убежал, бросив меня.
– Ты что делаешь, подлец? – закричал я на парня. – Зачем бьешь собаку?
Захохотав, хулиганы прошли мимо.
Потом я долго сердился на Джекки за то, что он не дал обидчику достойного отпора, не пустил в ход зубы. Как показало дальнейшее, надо было не сердиться, а жалеть его.
Вскоре после этого происшествия я заметил, что у него вновь появилась повышенная возбудимость, временами он неохотно гулял, прерывая прогулку при первом же резком шуме, свисте, чьих-то громких криках, хохоте. У него получился нервный шок.
Вспоминая во всех подробностях, я связывал теперь это с развитием болезни Джекки и перерождением железы.
Очень легко погубить животное, – опять же прежде всего потому, что животное не может сказать, что оно чувствует, где у него болит, а следовательно, болезнь легко запустить, – там хватишься, да уже поздно. Может быть, отсюда и идет народное поверие, что скотина очень «урочливая», то есть ее легко «изурочить», испортить «дурным глазом». Я понимаю под этим «дурным глазом» нелюбовь к животному, грубое, преднамеренно жестокое обращение с ним; а оно-то часто и ведет к гибели домашних четвероногих. И весьма возможно, весьма, эта встреча на набережной и оказалась для Джекки роковой.
Около года мог продолжаться скрытый период болезни; затем разыгралось все то, что я только что описал в этой главе.
О нервном происхождении рака упорно твердят сейчас многие ученые. Характерен такой опыт.
Собакам прививали рак. Вскрывали череп и заражали мозг. Безрезультатно.
Собаку сбросили с четвертого этажа в лестничный пролет. Сбросили, разумеется, на сетку. Никаких повреждений, никаких ушибов. Только сильный испуг. И рак развился тотчас же.
Большое сходство с этим есть и в случае с Джекки. Пинок куда-либо в чувствительную область, в сплетение нервов, вызвал нервное потрясение. Мгновенное перерождение опухоли на шее; а дальше – метастазы в легкие, в печень, в селезенку, даже в сердце. Пес смертельно занемог. А я-то сердился на него, срывался, как когда-то с Джери. До чего же человек все-таки еще несовершенное существо!
Не находит ли в этом факте с Джекки лишний раз подтверждение неврогенная теория возникновения рака?
О том же говорили мне и врачи поликлиники.
– Ведь каждую неделю приговариваем к смерти одну-две, – делился со мной своими наблюдениями Николай Дмитриевич. – И именно овчарок рак поражает больше всего. Приводят в больницу. И как правило – лучшие, отличные животные…
В чем дело? А дело в простом. У лучших животных – наиболее развитая нервная организация. Овчарки – особенно нервны. Отсюда и большая уязвимость, поражаемость многими болезнями, в том числе и раком, чего я, пожалуй, не замечал у других пород.
Не раз я вспоминал потом слова профессора Владимира Ивановича:
– Собак лечить всего труднее.
– Почему?
– Потому что из всех домашних животных они живут самой нервной жизнью…
Этим, возможно, объяснялось и быстрое течение болезни Джекки. Он заболел перед новым годом; 4-го февраля его не стало.
В этом, кстати, и причина короткой жизни собаки.
Даже кошка живет больше. У нас, например, кот по кличке Котька прожил восемнадцать лет; другой кот, тоже Котька, – семнадцать. У знакомых Пушок жил более двадцати.
У собак большой износ. Она спит урывками, бодрствуя по сути все двадцать четыре часа в сутки, всегда готовая вскочить, броситься на защиту хозяина, служа ему буквально до последнего вздоха, пока еще малейшая искра жизни теплится в ней. Уже не поднимаясь, помню, Казан еще лаял, когда у дома появлялся кто-то чужой. Джекки пытался поднять тревогу, даже лишившись голоса. Собака в самом прямом смысле отдает человеку свою жизнь. И разве одно это не обязывает нас лучше заботиться о них?
Тяжело их терять… Что теряешь – всегда делается дороже. Все «собачники» меня поймут. Спали спокойно, зная, что ни один вор не заберется в дом, где есть собака; а та радость, которую дарил вам пес, – чем ее оценить?
Но, в общем, можно сказать, для собаки Джекки прожил большую и хорошую жизнь – одиннадцать полных лет.
Прощай, Джекки!






![Книга Ребенок и собака [Их добрые отношения. Советы опытного собаковода] автора Брайен Килкоммонс](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-rebenok-i-sobaka-ih-dobrye-otnosheniya.-sovety-opytnogo-sobakovoda-131932.jpg)

