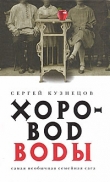Текст книги "Отрицание отрицания"
Автор книги: Борис Васильев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
21.
Игнатий и впрямь был жив, здоров и даже накормлен весьма вкусным обедом. Он не очень понимал, почему с ним так деликатничает чека, но будучи от природы замкнутым да и весьма неглупым, не задавал вопросов, предпочитая отвечать по возможности кратко.
А началось все с установления его личности, так как никаких документов у него не было. Он разъяснил, что специалист по лечению травами, что этому обучила его бабка, которая славится на всю Трансильванию своими способностями не только лечить людей травами и настоями на кореньях, но и по удивительному дару узнавать болезнь по глазам.
– И этому она тебя обучила? – недоверчиво спросил какой-то чин в кожаной тужурке.
– Умею, – кратко ответствовал Игнатий.
– Тогда угадай, на что я жалуюсь.
– Лицом к свету станьте.
Чекист послушался, стал лицом к свету. Игнатий внимательно вгляделся в радужную оболочку его глаз и сказал:
– У вас тяжелые боли в затылке. Плохо переносите алкоголь, начинает ломить затылочную часть. Это значит, что у вас скачком повышается давление. Скачок этот вполне можно вылечить, если будете аккуратно принимать мою настойку и не будете пить никаких алкогольных напитков во время лечения.
– Надо же! – удивился чекист. – А симулянтов уличить можешь? Ну, тех, которые на болезни ссылаются.
– Могу.
– А ну, ребята, тащите сюда этого спекулянта сахарином, который на помутнение рассудка жалуется, – распорядился чекист и, пока его ребята приводили спекулянта, пояснил. – В нашей работе, гражданин травник, здоровье – не главное, все равно его не хватит для победы над мировым капиталом. А вот симулянтов уличать – самое для нас!
Тут ребята и спекулянта доставили. Скорее обрюзгшего, чем полного, съеженного и сильно перепуганного.
– Лицом к свету! И следить, чтобы глаз не закрывал. Приступай, товарищ трансильванец.
Игнатий подошел, долго всматривался в радужные оболочки глаз перепуганного спекулянта.
– Так. Печень у него расширена. Только не на печень он жалуется, гражданин начальник, а на легкое помутнение рассудка. Это неправда. Рассудок у него в полном порядке.
– Точно! – от восторга чекист даже в ладони хлопнул. – Увести этого гада и готовить дело для «тройки». А товарища Игнатия оформить к нам в службу на должность эксперта. Под тайной кличкой «Трансильванец». Паек ему первой категории!
Так Игнатий был принят на должность эксперта первой категории под псевдонимом «Трансильванец».
Об этом никто не знал, кроме узкого круга работников чека. Вересковские считали его погибшим, генерал повздыхал, посокрушался, Настенька и Ольга Константиновна отплакали его и – все забылось на мучительно долгие десятилетия. И только тогда, тогда, в лютые годы повального террора бывшая девочка Настенька неожиданно встретилась с ним. Живым и невредимым.
Но эти десятилетия еще надо было прожить.
22.
Чоновский отряд Леонтия Сукожникова насчитывал девятнадцать человек. Кроме командира и его начальника штаба, а заодно и следователя Татьяны, был еще и заместитель командира бывший унтер-офицер и член большевистской партии с пятого года Никанор Ерофеев, которого все за глаза называли Ерофеичем, а супруги Сукожниковы только так к нему и обращались. В отряде было несколько молодых членов партии, которых хватило на ячейку, и – сочувствующие. Учитывая особое значение именно этого отряда, отвечающего за добывание хлеба для голодающей столицы, бойцов в него подбирали только с рекомендациями райкомов, а для подготовки выделили аж две недели.
Подготовкой – строевой и караульной службам, разборке и чистке оружия занимался Ерофеич. Он же и учил молодежь стрелять, но на стрельбах всегда присутствовала Татьяна. Не по долгу службы, а из любви к стрельбе.
Она не любила быть второй ни в чем. Не претендуя на командование отрядом, она вполне серьезно восприняла слова мужа, что смертные приговоры ей придется исполнять самой. А уж если тебя назначили палачом, так изволь отрубать головы одним ударом.
Натурой она была на редкость собранной и целеустремленной. Но при всей любви к стрельбе, это занятие все же являлось второстепенным. Главным было осознание, что ей предстоит следовательская работа, и Татьяна обложилась Кодексами. Уголовным, Гражданским, Процессуальным, старательно их штудируя. И так продолжалось до тех пор, пока однажды Леонтий, вернувшийся из Чека, несколько торжественно не положил перед нею очередной декрет.
– Что это?
– Декрет о борьбе с саботажем. Через каждую строчку – расстрел по решению следственной Комиссии. А поскольку в нашем штате она не предусмотрена, то по твоему решению. И со всей революционной беспощадностью!
Новая революционная, а практически большевистская власть законов не издавала, ограничиваясь декретами, которые приравнивались к законам, причем, старые никогда не отменялись, и число этих декретов достигло цифры неимоверной. Однако сверху было громогласно рекомендовано куда чаще руководствоваться пролетарским чутьем, почему на всей большевистской территории и гремели выстрелы группами и в розницу, наводя скорее страх, нежели порядок.
Пролетарское чутье не требовало знаний, и Татьяну это вполне устраивало. Все законы были забыты, и Таня Сукожникова отныне занималась только стрельбой. Не по мишеням – ей мишени не нравились – а по глиняным корчагам. Они разваливались с треском, и вскоре она достигла такого совершенства в этом треске, что сам командир Леонтий Сукожников наградил ее маузером перед строем всего отряда.
– Освой эту машину справедливости, и пусть головы классовых врагов разлетаются вдребезги, как разлетались корчаги!
Поначалу работы у чоновцев Сукожникова почти не было. Сопровождали продотряды по деревням и селам, где мужики угрюмо, но молча отдавали хлеб, и принуждения применять не приходилось. Чтобы зря не гонять лошадей ( «не тратить», как командир выражался), чоновцы вскоре перестали сопровождать продотрядчиков. Стояли в маленьком городишке, занимались стрельбой да шагистикой, которую уговорил командира ввести Ерофеич, и больше забот не было. Ни забот, ни хлопот, ни, главное, врагов, что очень не нравилось Леонтию:
– Эдак мы всю классовую борьбу проволыним, – ворчал он. – Затаился враг, затаился, Татьяна.
Таня поддакивала, но была очень довольна вдруг выпавшим затишьем на фронте ее классовой борьбы. И тайком, про себя молила Бога, чтобы такое затишье продолжалось как можно дольше. Она до ужаса боялась своей миссии палача, но еще больше боялась своего Леонтия Сукожникова. А ведь было, было время, было, когда он заискивал перед нею, готов был на все, что угодно, лишь бы заслужить ее мимолетную улыбку. И все это неожиданно как-то кончилось. Вдруг, как кончается детство, когда уже невозможно зарыться маме в колени и отплакаться, вместе с беспричинными слезами смывая с себя грязь и копоть мира взрослых, которые она внезапно почувствовала собственной, такой еще нежной и беззащитной кожей.
Но все, что имеет начало, обречено иметь конец. Принцип отрицания отрицания правит нами от рождения, которому ты не можешь крикнуть восторженное «да!..», и до кончины, когда твое жалкое, перепуганное «Нет, нет!..» уже ничего не в силах остановить.
Подняли ночью. Из сельца внезапно прискакал порядком избитый продотрядовец:
– Наших в погреб посадили!.. Я чудом ушел!.. Чудом!..
– Закладывай!.. – закричал Сукожников.
И выругался столь грязно, что Татьяна отвернулась, чтобы кто-нибудь не заметил румянца, полыхнувшего по щекам.
Выехали на четырех бричках и тачанке с пулеметом, за которым удобно пристроился Никанор Ерофеев. На передней, командирской, тряслись супруги Сукожниковы и боец с ручным пулеметом. На подъезде к селу командир остановил своих карателей.
– Ерофеич, развернешь тачанку у въезда. Приказываю встречать лютым огнем любого, кто вздумает бежать!
Еще одну бричку с ручным пулеметом и тем же приказом он послал на выезд из сельца, а, отдав приказы, велел во весь мах гнать на церковную площадь.
– Собрать всех жителей! – крикнул он, спрыгивая с брички с наганом в руке. – Прикладами гоните, если медлить задумают!
Жителей взашей вытолкали на площадь. Всех. Женщин и мужчин, стариков и старух, а заодно и детей, которые уже могли ходить. Построили их в круг, внутри которого с наганом расхаживал Сукожников.
– За активное сопротивление Советской власти я, как командир, каждого десятого мужика расстреляю! – кричал он. – Где продотрядовцы? Насмерть забили?.. Кто убивал?..
– Да никто не убивал, в баню мы их заперли, чтоб, значит, ты лично разобрался, гражданин товарищ, – спокойно сказал старый, седой до синевы старик-староста.
– А этот? – Сукожников ткнул дулом в избитого продотрядовца. – С крыши упал, что ли?
– А этот меня палкой ударил, – так же негромко объяснил староста. – Ну, общество заступилось, потому как выборный я человек. Может, оно, конечно, ошибку допустили, но стариков-то палкой – это никак нельзя, гражданин товарищ. Эдак все общество кувырком покатится, ежели за стариков заступаться перестанем. А свою ошибку мы, общество, значит, сознаем, хлебушек, что с нас причитается, собран. Велите грузить в брички, так и погрузим.
– Ты, старик, зачинщиков-то не покрывай, – чуть потише прежнего сказал Леонтий. – Ты скажи, кто конкретно отказался хлеб сдавать согласно решению Советской власти?
Вздохнул староста.
– Да вот, трое этих. Толкните их в круг, ребята.
Из рядов вытолкнули троих. Двое крупными были, откормленными, А третий… Третий, ох. Худой, в драном армячке.
– Точно, эти самые, – тут же подтвердил кто-то из освобожденных продотрядовцев.
– Так, – сказал Сукожников. – Пиши приказ о расстреле саботажников, товарищ следователь. И исполни его, после моей подписи.
– Может… – заикнулась было Татьяна.
– Это приказ от имени Советской власти! – прикрикнул Леонтий. – Чтоб живо и без помарок!
Татьяна вздохнула, подошла к старосте.
– Диктуйте фамилии злостных отказчиков.
Староста, вздыхая, нехотя продиктовал. Потом вздохнул:
– Только тут вот, какое дело…
– Дело потом! Отвести названных на кладбище, дать лопаты, пусть могилы себе копают.
Взвыли бабы, дети, весь народ взвыл.
– Несправедливо так-то! Несправедливо!..
– Молчать!.. – гаркнул Сукожников. – Готов письменный приговор, товарищ следователь?
– Готов, – тихо сказала Татьяна. – Может…
– Не может! – отрезал Леонтий и кудряво расписался.
Но толпа продолжала гудеть, бабы и дети – орать и плакать.
– Может, тут что-то не то… – осмелилась промолвить Татьяна, пока Леонтий искал в сумке личную печать.
– Все то, – он пристукнул приговор печатью и поставил дату. – Все теперь, нет назад ни шагу.
Приговоренных уже отвели к кладбищу. Они рыли себе могилу, и кто-то из молодежи помогал им рыть эту братскую расстрельную яму. Потому работали они молча, но споро.
– Тут такое дело, – не очень уверенно сказал староста, поглядев на могильщиков. – Тут, это, как бы сказать… Поговорить бы надо, гражданин товарищ командир.
– Ну, чего тебе? Приговор печатью прихлопнут.
– Ошибочно прихлопнут, – вздохнул староста. – Видишь, крайний старается? Мошкин его фамилия. Иван Мошкин. Он всегда старается, девять ртов кормит. Один, а ртов в хате – девять.
– Так приказ печатью…
– Отхлопни назад свою печать, – строго сказал старик. – Справедливость должна быть.
– Справедливость должна быть, – вздохнул Сукожников. – А приказ подписан и заверен…
– Справедливость важней приказа, гражданин товарищ.
– Понял! – Леонтий широко улыбнулся. – Понял, как сочетать. Только ты завтра мне лично просьбу схода о помиловании… Этого.
– Ивана Мошкина, – подсказал староста. – Завтрева непременно привезу лично.
– По рукам, – сказал Сукожников. – Завтра, лично.
И отошел к Татьяне.
– Тут такое дело, – тихо начал он. – С одной стороны приговор подписан и печать на нем. А с другой – сход вон того мужичка в драном армячишке помиловать просит. Так ты так сделай, чтоб все ладно было. Ты его с краюшку поставь да промахнись. А я тогда скажу, что справедливая Советская власть дважды не расстреливает. И все будет ладно. Поняла мою хитрость?
– Ой, нельзя же так, – испуганно зашептала Татьяна. – Он же в ужас придет, на всю жизнь в ужас.
– Наоборот! На всю жизнь счастлив будет, что жив остался. Поверь, знаю, что говорю.
– Леня, Ленечка, опомнись, что ты! – всполошилась Татьяна. – Объяви сейчас, не ставь под расстрел…
– Это наука ему такая.
– Это издевательство, а не наука!
– Молчать! – гаркнул Сукожников. – Печатью прихлопнуто, значит, все. Поняла?
– Поняла, – помолчав, горько вздохнула Татьяна. – Тогда вели, чтоб поскорее. Ждать да гадать – нервов не хватит.
– Становись к исполнению! – крикнул Сукожников.
Кончили копать могилу, вылезли. Помогавшие обреченным молодцы отошли в сторону, захватив лопаты. Тишина стояла – и дышали-то через раз. Ни слез, ни криков, даже дети примолкли. Серьезным по тем временам было это событие.
– Именем Советской власти приказываю исполнить решение следствия самому товарищу следователю.
Татьяна вышла вперед, стала перед жалким, съеженным каким-то – будто уж и дух из них выпустили, что ли – строем из трех мужиков. Ей было страшно, муторно, невыносимо муторно, но она пересилила себя не для того, чтобы не промахнуться, а для того, чтобы промахнуться в самого тихого, забитого жизнью мужичонку.
– Пли!..
Татьяна вскинула маузер, почти не целясь, два раза нажала спусковой крючок, и два тела скатились в яму. Потом опустила руку, снова подняла маузер, прицелилась и выстрелила. И третий, Иван Мошкин, остался стоять на краю смертной ямы, втянув голову в плечи.
– Приказываю прекратить исполнение приговора! – громко сказал Сукожников. – Советская власть – самая справедливая власть на земле, она не расстреливает дважды.
– Домой, – тихо сказала Татьяна. – Домой, скорее домой, а то не выдержу больше…
– Счастливо оставаться, сельчане! – бодро крикнул Леонтий. – Помните о справедливости нашей власти!.. По коням, хлопцы!
Чоновцы пошли рассаживаться по бричкам. Сукожников, проходя мимо старосты, шепнул:
– Жду завтра с решением схода.
Как только чоновцы умчались, а охрана дорог, ведущих в село, была снята, староста объявил сход.
– Бабы могут остаться, кто желает. Детей убрать, чтоб шуму не было. Кто-нибудь сходите за священником отцом Силантием, чтоб отпел честь по чести покойников наших.
Огляделся, заметил Ивана Мошкина, все еще почему-то стоявшего на краю могилы, подошел к нему, обнял за плечи;
– Ты тоже домой ступай. Натерпелся вдосталь.
– Чего?.. – отрешенно спросил Иван.
– Домой ступай, Ваня. Домой.
Мошкин покорно побрел к своей избе. Ноги плохо слушались, заплетались ноги, будто чужие.
На следующий день, как было договорено, староста приехал в городишко, пришел в дом, который захватил Сукожников для штаба и личной квартиры. Вошел, снял шапку, перекрестился на иконы и молча замер у порога.
– Проходи, – сказал Леонтий. – Принес решение схода?
– Нет.
– Почему это – нет, когда я велел?
– Повесился Иван Мошкин, когда еще сход шел. На вожжах повесился в своем сарае.
– Нет, нет, нет!… – вдруг дико закричала Татьяна.
И наступил провал.
23.
… – Убила, убила!.. При свидетелях!..
… – Я никого не убивала…
… – Из маузера!.. Полную обойму!..
«Полную обойму?.. Из маузера?.. Так вот почему руки дрожат, вот почему звон в ушах…».
… – Так арестуйте меня! Арестуйте!..
… – Легкой смерти ищешь?.. Не выйдет!.. Мы тебя в психушке особого режима сгноим!..
… – Не надо-о!..
И вдруг исчезли все звуки. И пришла тишина.
Очнулась Татьяна в маленькой квадратной комнате, выкрашенной в белую краску. Все было ослепительно белым, кроме густо черного пола. В стене против двери располагалось маленькое оконце с тяжелыми решетками, под нею у стены – крохотный столик, прибитая к полу табуретка да параша в углу. И койка, на которой она лежала.
Таня понимала, что сейчас ей следует встать, чтобы осмотреться, ощупать все, попытаться понять, где она находится, как и почему именно сюда попала. Но сил у нее почему-то не было. Совершенно не было никаких сил, и она продолжала терпеливо лежать.
В конце концов она задремала, проснувшись вдруг от грохота тяжелой железной двери. Зорко глянула из-под одеяла и увидела немолодого мужчину в очках и белом халате.
– Здравствуйте, Танечка, – тихо сказал он. – Я – доктор Трутнев. Петр Павлович Трутнев. Вспомните Вересковку. Я лечил вас всех по очереди. Вашу матушку, Николая Николаевича, Наташу, Павлика, Настеньку. А вот теперь – здесь. Только здесь и разрешили работать. И только под наблюдением.
– Где я?
– Вы? В неврологическом отделении, которым я и заведую. У вас был серьезный нервный срыв.
Он что-то говорил еще, но Татьяна не слушала. Она мучительно пыталась вспомнить, когда мог быть этот срыв и в чем он выражался. Но голова была пустой, и в этой пустоте метались какие-то обрывки воспоминаний. Белое платье, сачок в руках… Нет, не сачок, не сачок. Это – серсо. Кто-то играет в серсо…
Сквозь туманные отрывочные воспоминания прорезался далекий голос. Чужой, Таня не узнала его.
– … покой… полный покой… Вспоминайте детство, Вересковку, дружную семью…
Не узнаваемый голос странно помогал мелькавшим видениям, и Танечка увидела себя девочкой в легком платьице до коленок. Только что на опушке леса поспела земляника – она всегда поспевала раньше именно там. На опушке березовой рощи, за проселком. И Таня пошла с плетеной корзиночкой. Такие корзиночки плел из вымоченных ивовых прутьев седой дедушка в деревне, и все дети в праздники непременно относили его внукам гостинцы.
Ивовые корзиночки – для земляники. А для нежной малины этот же дедушка плел кузовки из лыка. Лично драл его, а из самых широких полос плел кузовки, заранее выморив и отбив лыко, чтобы оно было гладким и не царапало нежную малину.
В саду малина не росла. Ее почему-то считали сорняком и боролись с нею не только садовник с помощником, но и все дети, поскольку в семье очень поощрялось новомодное трудовое воспитание. И Танечка, надев рукавицы, рвала колючую поросль с корнями, хотя очень любила саму ягоду. И все любили, но ходить за нею приходилось далеко, в лес, в крутой, сплошь заросший малиной овраг. Брали кузовки и шли непременно в сопровождении взрослых.
Это было настоящее путешествие, и Таня очень его ценила. Взрослые знали об этом, и однажды сурово наказали Танечку за какую-то шалость, оставив ее дома, когда все пошли за малиной в овраг. Это был не просто сбор ягод, это был поход в неизведанное, где жили не только привычные птицы, но и белки, зайцы, ежи и, как говорили, даже гадюки. Где после сбора ягод в малиновом овраге обязательно разводили костер на опушке, пекли картошку и ели ее прямо с обгоревшей, впитавшей золу и угольки кожурой. И никто не запрещал есть картошку с пылу, с жару, наоборот, мама считала это очень полезным, но именно там, и только там. В лесу, после похода, а не дома.
В саду было много крыжовника ( «берсеня», как его по-славянски называл отец). Этот славянский берсень надо было собирать еще до созревания, еще тогда, когда зелень ягод начинала блекнуть, переходя в иной, желтый цвет. Только такой, недозрелый крыжовник годился для варенья, которое очень любили все. А после сбора ягод содержимое всех корзинок высыпалось на стол, покрытый клеенкой, и начиналось самое интересное. Мама или Наташа играли на рояле, а остальные старательно перебирали крыжовник. И сколько же было смеха и шуток!..
Только однажды самая маленькая, Настенька, уколола пальчик и сама же смело выдернула колючку. А пальчик стал нарывать. Мама ставила согревающие компрессы, но образовался нарыв, от которого девочка очень страдала, плакала и не могла спать. Тогда пригласили доктора… Да, да, милого доктора, и он вскрыл нарыв. Танечка вызвалась ему помогать, все происходило на ее глазах, она видела кровь и гной, который тщательно выдавливал доктор. И ей было так больно за младшую сестренку, что она твердо решила стать врачом…
А мама после этого распорядилась, чтобы непременно очищали крыжовник от колючек, и выдала детям маникюрные ножницы. Папа насмешливо именовал такое занятие бритьем.
Боже, какое же это было счастливое время!… Неужели мы обречены уходить из него навсегда?..
– … это пройдет, Танечка. Я пропишу вам уколы, чтобы сон был долгим и спокойным…
Нет, нет, не надо никаких уколов. Надо оставаться в детстве, пока есть силы держаться за него. Ведь в детство нельзя впасть, это – старческая болезнь. Из детства можно только выпасть. Как из гнезда…
Да, еще был крокет. Детям расчистили площадку, засеяли газонной травой, и на ней они сами ставили ворота и мышеловки. И азартно, до слез и обид, гоняли шары с разными полосами. Обиды детства… Боже, какая сладость сегодня вспоминать о них! Таких наивных, простых, легких, еще не успевших подрасти и потяжелеть, чтобы не возникать из ничего, как чаще всего бывает в детстве, а нежданно обрушиваться на плечи невероятно тяжелым и тусклым, как свинец, взрослым грузом. И тогда боль навечно с тобой. Не в слезах, не в истошных воплях крестьянских баб, а – внутри. В сердце твоем, и от этой боли нет никаких лекарств.
Откуда же эта боль в ней? Может быть, сказать о ней врачу?.. Нет, нет, никаких детских жалоб. Жалобы кончились вместе с детством. Потому что кончается само детство. Навсегда. И некому больше пожаловаться, некому поплакаться, некому покаяться.
Почему некому? А Господь?..
Только вот беда – они никогда не исповедывались. Никогда не говели, потому что форма столь легкой фронды была широко распространена в кругах русской интеллигенции. Да, они посещали церковь, но посещали по семейным традициям, а не по личной потребности. Свадьбы и похороны, именины и общие семейные торжества служили причиной посещений церковных служб, но исповедываться… Нет, нет, у них было заведено совершенно по иному. Каждому ребенку выделялся один день в месяц, когда он обязан был отчитываться в своих детских грешках. Девочка – наедине с мамой, мальчик – наедине с отцом. И эти детские покаяния никогда не обсуждались никаким семейным советом. И все младшие Вересковские настолько привыкли к этому, что им и в голову не могло придти хоть полслова поведать кому-либо, кроме родителей. Родители всегда были для них представителями всех самых высших сил.
А когда у Тани начался пугающий девочек болезненный переход из детства в девичество и она со слезами сказала об этом маме под великим секретом, мама только ласково улыбнулась.
– Это естественно, не надо тревожиться. Просто ты становишься барышней, и надо пить козье молоко.
Почему вдруг надо пить козье молоко, мама не объясняла. Козу купили немедленно, Танечка стала пить ее молоко, которое не любила, но отказываться от него и не подумала. Она очень любила маму, и поэтому вскоре полюбила не только козье молоко, но и саму козу.
Какое это великое счастье – иметь про запас маму!..
– … вам надо успокоиться. Я дам легкое снотворное…
Опять – голос доктора. Почему он такой знакомый, почему?.. И опять – ее внутренний ответ с плотно зажмуренными глазами: нет, нет, нет! Я – сама. Сама обязана справиться с собою. Сама…
Но снотворное ей все же дали, и Танечка впервые за много дней уснула крепким сном без сновидений. А перед тем, как проснуться, увидела вдруг козу. С рожками и бородкой, но не задиру, а очень приветливую. Тогда окончательно проснулась, села на кровати и громко спросила неизвестно кого:
– Где я?
И вдруг услышала мамин голос. Как в яви:
– Ты на перепутье, доченька. Возьми веник и грабли. Подмети дорожки к дому и очисти сад от сухих веток и старой листвы. И все отсеется. Все второстепенное отсеивает труд. Не ради искупления грехов, а ради их анализа и решения.
Это был мамин совет, Таня в нем не сомневалась. И поэтому, как только появился доктор, сказала ему, что очень хочет работать. Подметать коридор, мыть полы, поливать цветы.
– Прекрасное решение! – просиял доктор. – Поздравляю, вы на верном пути к выздоровлению.
Так Татьяна стала уборщицей психиатрической лечебницы, все палаты которой всегда закрывались на ключ. Она старалась, ценя не только свою весьма относительную свободу, но и доверие почему-то такого знакомого лечащего врача. И доктор Трутнев, свято уверовавший в теорию, что труд всегда ведет к облагораживанию характера и смягчению импульсов внезапного раздражения, исступления или приступа безадресной злобы, никак не мог понять, почему в его лечебницу попала именно Танечка Вересковская. Ему не передали историю болезни гражданки Сукожниковой, а потому он и не знал, что такого документа попросту не существует в природе.
А запрашивать не решался. Гражданка Татьяна Сукожникова поступила по прямому распоряжению Чека, а это учреждение уже успело внушить такой страх размахом бессудных расстрелов, что Петр Павлович сдерживал свое профессиональное любопытство. Но к больной, адресованной прямиком ОТТУДА, относился с особым вниманием. Хотя никому не говорил, что знает ее с раннего детства.
Однако проверить ее не мешало, чекисты могли и завербовать Танечку на свою службу. Россия вступила на глухую трясину доносов, клеветы, шепотков да намеков, и все стремились хоть как-то нащупать первый шажок в старой детской игре «веришь – не веришь», ставшей вдруг образом самой жизни. А большевистская власть подкрепила это неизвестным доселе категорическим императивом «доверяй, но проверяй».
И Петр Павлович попросил Татьяну убрать его кабинет, не трогая при этом его рабочего стола. Нет, он за ней не подсматривал. Он просто расположил на столе бумажки, запомнив их места и последовательность листочков. А Таня не только с особым старанием убрала его кабинет, но и уборную, наведя в ней доселе невиданную чистоту. И все бумажки оказались на своих местах, доктор окончательно в нее уверовал, а Татьяна запомнила, что в уборной есть окно, выходящее за ограждение больницы.
Обрадованный проверкой доктор наградил Таню синим санитарным халатом, чтобы при работе она не истрепала свой, больничный, темно коричневого цвета. И поручил ей через день убирать в кабинете, для чего он будет выдавать ей ключ из рук в руки.
И Татьяна продолжала старательно работать. Мама оказалась права и на этот раз. Горечь и непонимание собственной вины куда-то отходили, и на их место постепенно приходила вполне осознанная мысль, как убежать из этого сумасшедшего дома. Никакого импульсивного решения здесь не могло быть, и Таня трезво, тщательно и неторопливо взвешивала все возможности побега.
Но все решилось внезапно, в один день. Татьяна убирала коридор, когда в него неожиданно вошли трое мужчин. В кожаных куртках и фуражках, подпоясанные ремнем с непременными маузерами на длинном ремешке. Они не обратили внимания на уборщицу в служебном халате, а она – обратила. Это было Чека. И мотор глухо урчал где-то за окном…
И все вдруг вспомнилось. Все. И доктор Трутнев Петр Павлович, и муж Леонтий Сукожников, и расстрел, и…
Нет, дальше вспоминать нельзя. Ни в коем случае. Ни одного шагу в прошлое, ни одного…
А кожаные гости прошагали прямо в кабинет доктора Трутнева. Разговора там, видимо, никакого не было, потому что он вышел в сопровождении кожаных людей, поспешно натягивая пиджак прямо на медицинский халат. И вся четверка прошла мимо, к входной двери, не обратив внимания на Татьяну.
Это было катастрофой, и если бы доктор успел передать ей ключ от кабинета, она, пожалуй, от страха потеряла бы голову и ринулась через окно в докторской уборной неизвестно куда. Но ключа у нее не было, а был всего лишь синий служебный халат. Оставалось ждать, потому что из больницы ее не выпустили бы даже в этом халате, надетом, кстати, на длинную больничную рубашку, которую Таня подтягивала пояском, чтобы края ее не выглядывали из-под халата.
И Татьяна ждала с замиранием сердца, продолжая механически возить шваброй по коридорному полу.
Впрочем, доктор вернулся довольно скоро, и Таня очень удивилась, как-то уже сжившись с мыслью, что оттуда не возвращаются. Однако в кабинете доктор не задержался, успев снять халат и натянув на плечи пальто. Остановился рядом, шепнув ей:
– Помогите пальто оправить.
Таня стала помогать, а он сунул ей что-то в карман, торопливо продолжая шептать:
– Я положил вам в карман халата запасной ключ от кабинета и очень важную справку. Они интересуются вами, потребовали, чтобы я привез им все данные. Как лечил, чем лечил и каков мой диагноз. Боюсь, что они вас заберут, так как считают, что вы убили собственного мужа…
– Убила? – Таня, не выдержав, шепнула в ответ. – Почему же, почему же мне не предъявлено обвинение?
– Потому что вы – член партии, и нужно согласие ЦК. Так не проще ли спрятать вас здесь навсегда?
– Я не убивала, я…
– Молчите и слушайте, – тихо, но очень строго сказал доктор. – В уборной кабинета – окно, которое выходит за ограду больницы. А в моем шкафу – юбка, кофта и платок. Советую бежать, если сможете выбраться в окно. Берегите справку.
А громко добавил:
– Когда закончите с уборкой, немедленно идите в палату. Я загляну к вам, когда вернусь.
Вернуться он не рассчитывал, это Татьяна поняла по его взгляду. Что-то перехватило горло, она не смогла выдавить ни слова, и лишь кивнула в ответ. И доктор сразу же ушел.
Доктор ушел, а Таня стояла, как стояла, застыв с занесенной для подметания шваброй, точно играла в детскую игру «замри-отомри». А в голове… В голове вновь зазвучали голоса, которые молчали во время лечения, а сейчас вдруг прорвались с четкой ясностью:
… – Ты убила мужа…
… – из маузера…
… – сгноим тебя в психушке…
«Нет, нет, это уже было. Было…».
Татьяна взяла себя в руки, огляделась. Коридор был пуст, двери то ли камер, то ли палат закрыты на замок. А у нее есть ключ. Есть. Только не надо торопиться, могут следить.
Это были разумные мысли, но разумно решать Татьяна еще не могла. И поэтому быстро подошла к дверям докторского кабинета, открыла замок ключом, опущенным в карман халата, вошла в кабинет и тут же закрыла за собою дверь на ключ.
Огляделась, увидела шкаф, распахнула дверцы. В углу за докторским плащом лежал сверток. Руки дрожали, когда она разворачивала его. Все точно. Толстая крестьянская юбка, вязаная кофта, большой вязаный платок. И даже сапожки, о которых умолчал доктор. Городские, козловые, на небольшом каблучке. Таня, торопясь – «только бы впору были, только бы впору…» – натянула их, обрушила на себя юбку, надела кофту, повязала платок и кинулась в уборную. Вот и окно, только высоко, ей не достать…
Притащила стул из кабинета, кое-как – юбка путалась в ногах – взобралась на него, подергала окно. А оно не поддавалось, оно было забито наглухо.
А свобода – вот она. За стеклом… Значит, выбить стекло. Татьяна сорвала с себя кофту, обмотала кулак и что было сил ударила в стекло. Зазвенели осколки, стекло кусками вывалилось наружу. Таня аккуратно вынула оставшиеся осколки, Попыталась вылезти, но мешала широкая и длинная юбка. Стащила ее, скомкав, выбросила через окно за ограду. Вышло! Получилось!.. Подтянулась на руках, высунулась из окна, осторожно огляделась.