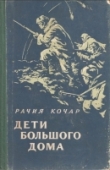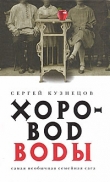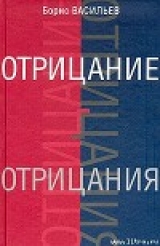
Текст книги "Отрицание отрицания"
Автор книги: Борис Васильев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
14.
На окраинах собственно России то есть, той территории, которая долгое время именовалась Московской Русью, сохранилось немало губернских центров, весьма важных для времен мирной торговли и мирного управления. Их невозможно представить себе без особой стати редких городовых, обязательного памятника какому-либо императору, степенных торговых рядов, степенных лавочников, воображающих себя купцами, и хитроглазых купцов, на всякий случай выглядящих лавочниками в миллионных сделках на лен или коноплю. Здесь летом непременно гуляют по вечерам с тросточками и зонтиками вдоль реки, а в осеннее ненастье собираются в Благородном Собрании или Купеческом Товариществе, где пьют исключительно французские вина из Таганрога и некое безадресное шампанское с пеной, способной погасить небольшой пожар. Это – царство благодушия и несокрушимой веры в завтрашний день, который зреет в двух гимназиях, реальном училище и общественном приюте для особо одаренных девиц, утративших отцов-кормильцев. Жизнь в таком городе не течет, как река-кормилица, а струится из мраморных губок амура, которого подарил городу предпоследний губернатор. Вот почему при наступлении времен смутных и непредсказуемых жители этой тихой заводи и оказались никому абсолютно ненужными, и лишь путались у всех под ногами.
Таким губернским городом, как вскоре выяснилось и стал тот, в гимназии которого набирался ума и знаний общий любимец семьи Вересковских Павлик. Здесь у них была городская квартира, где он и остановился, плотно перекусил, опоздал в гимназическую канцелярию и отправился разглядывать город, ощущая себя почти взрослым, самостоятельным и независимым.
А в городе происходила очередная смена власти. И началась она с проверок шатающегося без дела населения не столько ради введения жандармского порядка, сколько ради пополнения вдруг отощавшего местного бюджета посредством наложения штрафов.
А у легкомысленного гимназиста ни денег, ни каких-либо документов при себе не оказалось, и его загребли в участок. Павлик объявил эти действия произволом и наотрез отказался назвать лицо, которое могло бы за него поручиться. Поступал он так из юношеского убеждения, что свобода не столько общественное достояние, сколько личное, и это убеждение, как выяснилось, и определило всю его дальнейшую жизнь и судьбу.
В участке на него никакого внимания не обращали – хочет сидеть, пусть сидит – и занимались собственными делами. А тут власть в городе опять переменилась, и захватившие ее борцы за свободу первым делом начали улучшать жилищные условия неимущих граждан. И городская квартира Вересковских была тут же объявлена коммуной, всех ее жильцов попросили немедленно ее покинуть, а так как мандатом служил товарищ маузер, то все очень быстро ее и покинули.
Павлик об этом не знал, продолжал упорствовать, поскольку в участке его кормили и поили, а борцы за удобства неимущих приступили ко второму пункту своей немудреной программы, объявив лютую борьбу интеллигенции, как классу, от которого нет решительно никакой пользы. Полицейские участки стали переполняться, кое-как допрошенную интеллигенцию тут же спихивали в тюрьму, а так как Павлик подходил под эту категорию, то в конце концов туда же спихнули и его. Он перепугался, поспешно назвал адрес того, кто мог бы подтвердить его личность, но по указанному адресу проживали уже какие-то коммунары, почему его слезную просьбу и оставили без внимания. Тут, как на грех, власть снова переменилась и стала сажать в тюрьмы вчерашних социально-близких, которых во всем просвещенном мире называли просто уголовниками. Интеллигенцию стали отпускать после легкой проверки, но Павлика это не коснулось, поскольку его уже успели зарегистрировать в участке, как беспаспортного бродягу.
Вначале было сносно. Дружно хлебали баланду, возмущались несправедливостью, горевали, гадали, спорили. Блатные играли в карты и никого не трогали, потому что деньги пока путешествовали по кругу. Но потом стали все чаще задерживаться в одних руках, матерщина начала крепчать, а в конечном итоге проигравшиеся блатняки начали все чаще нехорошо оглядываться на прочую публику. Наконец, не выдержав, один из них вскочил, неожиданно схватил Павлика за шинель и заорал:
– Ставлю на кон!
Ставка была принята, с Павлика сорвали шинель, которая через два круга уплыла в собственность снявшего банк. Павлик кричал, остальные возмущались не столь громко, но игра тем не менее продолжалась с прежним азартом.
Павлик кричал, пытался сопротивляться, получал по шее, а сорванные с него вещи неумолимо оказывались чьей-то собственностью. Когда Павлик остался в одной нательной рубашке, босиком, но пока еще – в штанах, он ринулся к двери и забил в нее кулаками.
– Откройте!.. Откройте!..
Повезло, в коридоре охранник оказался. Открыл.
– Чего тебе?
– Раздевают!..
– Отыграйся, – ухмыльнулся охранник, намереваясь закрыть дверь.
– Погодите, погодите… – зачастил Павлик. – Я в армию добровольно записываюсь.
– В какую армию?
– В эту… В вашу.
– Эй, Семен! – закричал охранник кому-то в коридоре. – Какая армия сейчас у нас в городе?
– Да бог его знает. Вроде бронепоезд левых эсеров пришел. На втором пути стоит. А что?
– Да тут доброволец у меня сыскался.
– Выводи. Добровольцев велено отпускать. Народу у них не хватает, что ли. Отведи пока к дежурному, он на станцию позвонит.
– Ну пойдем… доброволец, – сказал стражник. – Пока штаны ворью не проиграл.
И повел Павлика к дежурному по гулкому пустому коридору.
Через два часа гимназист Павел Вересковский стоял на перроне второго пути перед штабным вагоном бронепоезда «СМЕРТЬ ИМПЕРИАЛИЗМУ!» в сопровождении матроса, одетого в кожаную куртку с деревянной коробкой маузера, спускавшейся ниже колена. Морячок был свойским, болтал всю дорогу, поносил международный империализм и поднимал до небес левых эсеров.
– За нас они, понимаешь? За потных людей.
Павлик не очень понимал, почему нужно заступаться за людей, не успевших вовремя вымыться, но не спорил.
Распахнулась дверь вагона, в проеме появилась фигура столь же экзотического морячка, что и сопровождающий, только с пулеметной лентой через плечо.
– Чего надо?
– Да вот. Доброволец до нас.
– Доброволец? – матрос с пулеметной лентой иронически поглядел на Павлика. – Погоди тут. Доложу.
И исчез.
– У товарища Анны – глаза, – вдруг шепнул сопровождающий. – Вообще-то серые, но коли поголубеют, значит под счастливой звездой тебя родили. А коли почернеют – все.
– Что – все?
– На распыл. Тут же.
В проеме тамбура появился морячок с пулеметной лентой.
– Проходи, доброволец.
Павлик с трудом взобрался на высокую подножку, ощутив вдруг незнакомую дрожь в коленях. Матрос подтолкнул его в спину, и он пошел по узкому коридору штабного вагона.
– Стой.
Остановился. Матрос дважды ударил кулаком в бронированную дверь, и ее тотчас же открыли. Это было двухместное купе, в углу которого у бронированной щели окна сидела худощавая женщина лет сорока в казачьих штанах с лампасами и кожаной куртке, наброшенной на плечи, А у выхода стоял щуплый очкарик в студенческой тужурке.
Сопровождавший матрос закрыл дверь, и наступила тягостная для Павлика пауза. Он не отрывал настороженного взгляда от глаз женщины, хотя и не видел их, потому что сидела она в темном углу. Видел только два провала, а ему нужен был цвет ее глаз.
– Значит, доброволец? – резко спросила она.
– Хочу сражаться за…
– Мы не сражаемся «за». Мы сражаемся против.
– И я тоже.
– Против чего?
Павлик этого не знал. Он просто не хотел, чтобы его ставили на кон в воровской карточной игре.
– Разрешите, товарищ Анна, я с ним поговорю, – сказал молодой человек в студенческой тужурке. – Запуган парнишка.
Женщина в углу у оконной щели бронепоезда промолчала. Очкарик открыл дверь и сказал:
– Прошу.
Павлик затравленно посмотрел на товарища Анну, потоптался, вздохнул и вышел из купе. Студент вышел следом, молча провел по узкому, ощетиненному амбразурами коридору, открыл одну из дверей и еще раз сказал:
– Прошу.
Павлик вошел в насквозь прокуренный матросский кубрик, где трое морячков играли в карты.
– Выйдите все, – сказал его сопровождающий. – Мы ненадолго, потом доиграете.
Все вышли. Студент молча указал Павлу, где сесть, после чего плотно прикрыл дверь и сел напротив.
– Знаешь ли ты, кто такая товарищ Анна? – строго спросил он. – Товарищ Анна – святой человек, отдавший себя на заклание во имя идеи. Она собственной рукой казнила наиболее жестоких представителей царской бюрократической машины, в том числе и одного губернатора. Ее присудили к смертной казни, которую она встретила спокойно и гордо. Смертная казнь была заменена вечной каторгой, и товарищ Анна написала письменный отказ. Эту вечную каторгу она отбывала в одиночке Бутырского тюремного замка, откуда ее вызволила лишь Февральская революция.
Все это очкастый студент рассказывал с невероятной гордостью, будто не товарищ Анна, а он лично выслушивал приговор и собственноручно писал письменный отказ. Горящие неистовой верой глаза его светились сквозь стекла очков, и на Павлика смотрел уже вроде бы и не человек, а некий светящийся восторг сам по себе.
– И добровольно вступая в наши ряды, ты должен принять ту же клятву, которую я дал себе.
При этих словах студентик со светящимися линзами очков вытащил из кармана складной нож и открыл лезвие.
– Какую клятву? – запоздало насторожился Павел.
– Кровавую.
– Да что ты?..
– Откажешься – матросов позову. Мы все ее дали, весь наш бронепоезд «Смерть империализму!». Позвать?
– Не надо, не надо. Даю.
– Обнажи грудь, – он подождал, пока Павлик лихорадочно расстегивался. А теперь протяни палец. Да не тот, безымянный.
Растерянный Павлик протянул безымянный палец левой руки. Очкарик чиркнул ножом, пошла кровь.
– Пиши кровью на груди четыре святых буквы «АННА». Если крови не хватит, еще надрежу. Поглубже.
– Господи… – Вздохнул Павлик.
И написал. Только на самый хвостик последнего «А» крови не хватило.
– Допишешь, когда ранят, – утешил очкастый фанатик.
15.
Редко и очень сухо писавшая письма Татьяна вообще перестала их писать. Ольга Константиновна, испугавшись не очень, правда, понятно, чего именно, попробовала было жалобно поплакать, но Николай Николаевич пресек это занятие на корню:
– Стыдитесь, сударыня! Вы – дворянка.
Сам он никогда прилюдно не страдал и не позволял себе ничего громкого, кроме криков по поводу очередной затерянной папки. Но молчание московской студентки обеспокоило не только домашних, следствием чего явился визит тихого внучатого племянника поэта Майкова.
– Вам Танечка пишет? – робко спросил он.
– Кавардак! – ответствовал генерал. – Когда происходит ломка сущего, все впадают в эйфорию, которая является всего-навсего формой сумасшествия. И все перестают работать. Чиновники – на почте, полиция – на улицах, дворники – во дворах, рабочие – на заводах, а прочие – на местах. Все идет кувырком, а Россия радуется, потому что работать она не любит. Она любит пить самогон и орать лозунги, почему плохо живется…
Он выпалил монолог на одном дыхании, задохнулся и вынужден был замолчать ради нового вдоха. Это и дало возможность Майкову задать давно мучивший его вопрос;
– Но хоть какие-то известия о ней есть?
– Увы… – Ольга Константиновна прижала платочек к левому глазу, потому что именно из него вдруг выползла слезинка. – Николай Николаевич слушать меня не хочет…
– Дорогая, Николай Николаевич сказал, почему именно не хочет. И просит помнить его слова.
Генерал всеми силами скрывал собственное беспокойство по поводу молчания дочери в столь неопределенные, а потому и тревожные времена. Он был историком, верил в законы возвращения событий в иной, непривычной внешне, но вполне соответствующей внутренне трагической сущности повторения. Боялся русской Смуты, которая всегда перерастала в русский бунт, бессмысленный и беспощадный как по форме, так и по содержанию.
Он знал и ужасался, а Таня не знала, но предчувствовала. Предчувствовала неминуемый приход чего-то озверелого, что беспощадно перечеркнет прошлую жизнь. Все ее мечты, все надежды, все планы… Да что там планы с мечтаниями! Потрясет сами основы. Она предчувствовала неизбежность великого русского сотрясения. И для себя называла его Русотрясением, потому что сотрясаться будет не Земля русская, а сам русский народ.
Предчувствие родилось не на пустом месте. Московский университет издавна славился свободомыслием, на которое власти смотрели сквозь пальцы, из жизненного опыта зная, что эта говорильня исчезнет сама собой, как только вчерашний студент получит по окончании приличное место службы. Однако после Февральской революции эти споры перекинулись в аудитории и конференц-залы, втягивая в бесконечные диспуты и профессуру. Здесь гремели речи об историческом пути Отчизны, в котором никто не сомневался, а всего лишь предлагал нечто свое. Но после Октябрьского переворота единая в принципах аудитория вдруг начала заметно раскалываться.
И вот тут-то Таня, всегда упрямо спорившая о путях развития России, внезапно примолкла. Она приметила то, что раскол среди яростно спорящих проходит не по убеждениям, а по классовой принадлежности, и представители дворянской интеллигенции при этом оказывались в меньшинстве.
Лидером и лучшим оратором противников был некий Леонтий Сукожников, который во всех выступлениях непременно поглядывал на Таню. И Татьяна прекрасно понимала, что говорит-то он только для того, чтобы она слышала. И чисто по-девичьи давно вычислила, что она ему нравится. Но стать госпожой Сукожниковой… Брр!.. Помилуйте. А потому она с ним никогда не то, что не спорила, но даже старательно смотрела в другую сторону. Впрочем, еще и потому, что Леонтий Сукожников был одарен простоватой деревенской красотой.
Но – странное дело! – после взятия власти большевиками Танечка изменила направление своих девичьих взглядов, от которых, как выяснилось, было рукой подать до взглядов большевистских. И перестала писать родителям, а уж тем паче – внучатому племяннику некогда известного поэта Сергею Майкову. Татьяна умела просчитывать свою женскую судьбу, путая ее с судьбою самой России, до которой, в сущности, ей не было никакого дела.
Легко одолев немудреную Марксистскую теорию классовой борьбы и убедившись, что она рассчитана на рабочий класс Европы, но никак не на Россию, Таня быстро усвоила марксистскую фразеологию. Выступая на многочисленных митингах, она с искренним энтузиазмом агитировала за то, во что не верила сама, и звала туда, куда идти было бессмысленно, как бессмысленно пытаться достичь линии горизонта. И когда эта мысль пришла ей в голову, она поняла, что Ленинизм и есть обещание всеобщего счастья за видимой линией горизонта. И с еще большим пылом стала убеждать слушающих стремиться к этому счастью за горизонтом с винтовкой наперевес.
Бунт в России был непреодолим потому, что обещал. Обещал счастье для всех разом. И следовало пристроиться в очередь за обещанным счастьем. Причем, желательно – в первой десятке.
И Татьяна, не колеблясь, первой в университете зарегистрировала официальный гражданский брак. С рослым деревенским красавцем Леонтием Сукожниковым. Секретарем университетской партии большевиков. Взяла фамилию мужа и тут же вступила в Российскую Социал-Демократическую Рабочую партию большевиков, ячейка которой давно существовала в университете.
А вот самого университета уже не существовало. Было множество залов и аудиторий, в которых шли нескончаемые митинги. Зато был муж, секретарь могущественной организации, и с его помощью Татьяна получила диплом, формально сдав экстерном за лекции, которых давно не посещала, и курсовые работы, которые некогда было писать.
В избранном Татьяной пути не было места для ее дворянской семьи, все мужчины которой были офицерами чуть ли не с Петровских времен. И она изъяла все свои документы из университетской Канцелярии. А во всех многочисленных анкетах подчеркивала свое пролетарское происхождение, утверждая, что ее отец погиб на баррикадах Пресни еще в 1904 году. Это семейное несчастье подтверждала твердая печать Районного Комитета большевиков, во главе которого утвердили верного ленинца Леонтия Сукожникова.
Татьяна строила свою жизнь в строгом соответствии с предложенными
Российской историей обстоятельствами. Неуклонно, последовательно и твердо. И не позволяла себе вспоминать о семье и даже думать о чем-либо постороннем, научившись волей изгонять из сознания сны о прошлом. О семье, о детстве, о девичьих мечтах, в которых смутно мелькал Сергей Майков. Но изгнать все из подсознания ей было не по силам, и порою, на смутном переломе сна и действительности ей виделась семья за столом, кипящий самовар, пенки от только что сваренного клубничного варенья, которые мама делила по блюдечкам, чтобы досталось всем понемножку. И отец шевелил губами, что-то рассказывая, а ей чудилось – «Никто из нас не осуждает тебя, доченька. С волками жить – по-волчьи выть…». И она мгновенно просыпалась, и щеки ее почему-то долго пылали нестерпимым пыточным огнем.
Но потом и это прошло. Потом, позже, в Частях Особого Назначения. Тогда они назывались сокращенно – ЧОН – как, впрочем, и все. Все было тогда сокращено вплоть до жизни человеческой.
А началось с того, что мужа Леонтия Сукожникова внезапно, в разгар рабочего дня вызвали нарочным с пакетом. Секретарь райкома взломал печати, расписался на конверте, отдал его нарочному, а бумагу, дважды внимательно прочитав, старательно сжег.
Татьяна молча смотрела на него. Он поймал ее напряженный взгляд, сказал озабоченно:
– В Центр вызывают. Срочно.
И тут же умчался. Тане стало почему-то тревожно – согласно основному чувству тогдашнего времени – и она усиленно занималась текущими делами, чтобы изгнать эту безадресную тревогу. А муж прибыл счастливым:
– Назначен командиром чоновского отряда. Будем в тылу контрреволюционную нечисть уничтожать без всякой пощады и интеллигентской мягкотелости, как товарищ Ленин говорит.
– Я с тобой.
– Уверен был, о чем и объяснил товарищам. Собирайся. Тебе надо лично мандат получить.
– Какой мандат?
– Какой положено. С печатями, поручительствами и подписями. Ты комиссаром в мой отряд назначаешься, а так как ты университет закончила, то заодно и следователем с правом применения высшей меры социальной защиты.
– Так ведь я же числюсь историком, а не юристом, – растерялась Татьяна. – Я с таким обилием прав, боюсь, распорядиться не сумею. Или распоряжусь не так. Я даже законов не знаю. Никаких. Ни уголовных, ни процессуальных…
– Нет законов против идейных врагов, золотопогонников и прочей контрреволюционной сволочи? И правильно, что нет, потому что сейчас торжествует только закон защиты нашей социалистической родины. Для этого и предназначены части особого назначения. Так что одевайся и… – он прищурился. – Красную косынку на голову. Это теперь твой обязательный головной убор.
– Навсегда? – попыталась пошутить Таня.
– Нет, – он широко улыбнулся, даже подмигнул. – До победы мировой революции.
– Тогда потерплю, – сказала Татьяна, надевая косынку. – Честно говоря, меня весьма беспокоит предстоящая следственная работа. Я в ней ничего не смыслю, так может быть стоит взять какого-нибудь толкового юриста в качестве моего личного консультанта?
– Работа наша секретная, и никакая гнилая интеллигенция к ней не должна иметь касательства.
– Значит, возьмем не из гнилой.
– Не гнилой интеллигенция не бывает. Так Владимир Ильич сказал, так что никаких сомнений на этот счет.
– Бывает, Ленечка, бывает, – вздохнула Татьяна. – Например, моя семья, а в особенности – отец…
Сукожников вдруг строго, даже зло, посмотрел на нее. Сказал, увесисто помолчав:
– Твой отец погиб на баррикадах Пресни в четвертом году. Смотри, если когда забудешь об этом…
– Что ты, что ты, – спохватилась бывшая потомственная дворянка Вересковская. – Я пошутила. Просто пошутила.
Он продолжал сурово смотреть на нее, сдвинув брови к переносью и куда-то убрав собственные губы.
– Я очень неудачно пошутила, – тихо сказала она. – Прости, пожалуйста. За глупость.
– Такая глупость головы может стоить, – угрюмо сказал Сукожников. – За нами, партийцами, в четыре глаза глядят и в шесть ушей слушают. Мы есть пример, и сиять должны, как пример для всего народа. И болтать попусту…
– Прости ты свою глупую бабу, – Татьяна обняла его, крепко прижалась, и Леонтий улыбнулся.
– Ладно уж, пошли мандат получать.
– Прощена?
– Если еще раз ляпнешь да, не дай Бог, при посторонних, худо будет. Всем нам худо может быть.
– Слово партийца.
– Тогда – вперед.
А на улице пока ждали трамвая, припомнил:
– Да, после получения мандата нам еще в особый склад необходимо заехать , учти.
– Какой склад?
– Кожанки получить надо. Кожанка – теперь форма наша. Ну, и беспощадность, конечно, тоже.