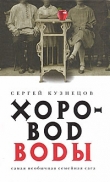Текст книги "Отрицание отрицания"
Автор книги: Борис Васильев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
16.
Во вторую ночь своего дежурства на бронепоезде «Смерть империализму!» Павлик Вересовский поклялся, что никогда в жизни по собственной воле на подобном чудовище передвигаться не будет. Койки были короткими и жесткими, откидных сидений и не предполагалось, а стены узкого – встречные еле-еле менялись местами, подтягивая животы – коридора шершавыми, как самая грубая наждачная бумага. И эта узкая кишка освещалась только щелями бойниц да единственной лампочкой мощностью в двадцать свечей, висевшей под самым потолком перед дверью командного пункта.
Все прелести этого помещения испытал на себе Павлик, назначенный подносчиком пулеметных лент в первом же бою. Отсек боепитания располагался в противоположном от пулемета конце коридора, Павлик не смог зараз поднять цинковый ящик, кое-как вскрыл его и таскал ленты охапками ко всем пулеметным точкам броневагона. От бесконечного грохота выстрелов, пороховых газов, мгновенно заполнивших все пространство, он ошалел, терял ориентировку, а заодно и ленты, которые расстилались теперь по всему полу от отсека боепитания до противоположного конца, где располагалось пулеметное гнездо. У него текли слезы от пороховых газов, потому что вентилятор не работал, мучительно першило в горле. Павлик надрывно кашлял, путался в пулеметных лентах, падал, поднимался и снова бежал то за лентами, то к прожорливым пулеметам, непременно при этом падая, в какую бы сторону он не бежал. И с ужасом думал только о черных глазах товарища Анны.
Наконец, прорвались. Потные, голые по пояс пулеметчики, поскальзываясь на расстеленных вдоль всего коридора лентах и матерясь, пробирались к спальным отсекам то ли пить воду со спиртом, то ли – спирт с водой. Павлик собирал ленты, уже ни о чем не думая. Он оглох и словно бы ослеп, что ли, потому что все время тыкался о шершавые стены плечами. Вагон немилосердно качало, поскольку поезд спешно набирал ход, уходя от негостеприимного безымянного полустанка, где ждала непредвиденная засада.
Из штабного купе вышел очкарик. Спросил с надеждой:
– Тебя не ранило?
– Цел, – хрипло сказал Павел.
– Жаль. Конец буквы не допишешь. Иди, товарищ Анна ждет. Иди, иди, чего глаза вытаращил?
Это был конец. Павлик понял, что конец, по ноющей боли в животе. И, не умываясь, задрожавшей рукой чуть откатил дверь.
– Вызывали, товарищ Анна?
– Входи, – сказала товарищ Анна, увидев его в щели.
Он вошел, прикрыл дверь и остановился у входа.
– Поздравляю с первым боем.
Павел ответить не смог, только плямкнул губами.
– Иди сюда, – Анна плеснула в оловянную солдатскую кружку, протянула. – Пей.
Павлик судорожно сглотнул:
– Не могу. Это ведь спирт, да?
– Если я говорю, значит, ты – можешь. Чуть выдохни, выпей одним глотком и, не дыша, запей водой. Вода – в графине. Пробку с графина сними, а то еще задохнешься.
Вересковский выпил, как велено. Но глотнув из графина, снова судорожно закашлялся.
– Сейчас эта пороховая гарь осядет. Ты хорошо воевал, старательно. За это получишь мою награду. Раздевайся.
– Как?.. – растерялся Павлик.
– Догола. Ну, чего топчешься? Это – приказ.
– Сейчас, сейчас…
Павел торопливо начал раздеваться, путаясь в одежде. В голове мутило от выпитого спирта.
– Какова твоя политическая ориентация? – вдруг строго спросила товарищ Анна.
– Я?.. Я – с вами.
– А я – против большевиков. Это ведь они устроили нам засаду на полустанке. Теперь – до конца. Пойдешь со мной до конца, гимназист? Или отвалишь, дыма наглотавшись?
– До конца, товарищ Анна.
– Тогда раздень меня.
– Я?.. Я не умею.
– Потому-то и зову, что не умеешь, это в тебе проглядывает. Только сначала замочек в дверях поверни.
Утром Павел Вересковский покинул купе Анны в должности адъютанта. Он ожидал неприятного разговора, но студент улыбнулся, вздохнул с видимым облегчением, отдал ему браунинг в желтой кобуре и лично водрузил на голову нового фаворита собственную студенческую фуражку.
– В ней больше формы, чем содержания в наших бронированных условиях. Но все же – дарю.
Маленький, но хорошо вооруженный бронепоезд метался по второстепенным дорогам юга России, захватывая полустанки с местечками, пополнялся топливом, заливал воду, отнимал все вооружение, которое только находил, и беспощадно грабил местное население.
О грабежах Павел узнал позднее. Анна на боевые операции его не отпускала, при дележе добычи он не присутствовал, как, впрочем, и товарищ Анна. Все это происходило по отработанной системе, нарушителя которой – об этом знали все – ожидал немедленный расстрел на месте.
Впрочем, он не особенно рвался. Ненасытная товарищ Анна восполняла утерянное на каторге с таким пылом, что у Вересковского и сил-то никаких не оставалось. Может быть, не столько сил – он был еще очень молод и легко их восстанавливал – сколько желания. Как выяснилось, желание узнать нечто новое утрачивается быстрее всех прочих желаний. Или – изнашивается, что ли. И наступает состояние полного безразличия ко всему, что происходит по ту сторону серых бронированных стен.
Однако полное превращение юного гимназиста в племенного жеребца не входило в интересы товарища Анны. На каком-то этапе их бессонных декамероновских ночей она решила, что пришла пора готовить из любовника верного боевого соратника.
И как-то ранним утром после скоротечной пальбы по очередному полустанку, вызвала командира личной охраны еще до остановки бронепоезда.
– Возьмешь в город моего адъютанта. Покажешь, как геройски воюют наши доблестные бойцы. Предупреждаю, Кузьма, под твою личную ответственность.
– Все будет в полной ладности, товарищ Анна, – густым басом ответил двухметровый балтиец с перекрещенной пулеметными лентами грудью и маузером в деревянной кобуре ниже колена.
Бравый личный телохранитель товарища Анны Кузьма понял свою задачу своеобразно. Вместо того, чтобы провести Павлика через баррикады, блиндажи и окопы вредного населения, он показал ему, как отважные бойцы бронепоезда «Смерть империализму!» уничтожают этот самый империализм на примере захудалого еврейского местечка.
Вой стоял над местечком. В него вливались плачь, вопли, крики и мольбы о пощаде. Жители и думать не посмели сопротивляться откормленным воинам революции. Старейшины преподнесли хлеб-соль, какие-то подарки, платки, букет цветов. Все это уже валялись на земле, втоптанное в пыль, красавицу, преподнесшую цветы, тут же и изнасиловали, но хоть не убили, не проткнули живот, даже помогли убраться, пока жива. А сотворив это добросердечие, ринулись по мазанкам перетряхивать тряпки в поисках спрятанных сокровищ, грабить съестное, взламывать сундуки. А не найдя ничего, орали: «Где прячешь?!.», таскали стариков за бороды, снимали с девчонок мониста и рвали серьги у женщин прямо с мочками ушей. И Вересковский часто потом видел кровь, текущую из мочек в горячечных беспокойных снах…
– Домой!.. – закричал тогда он. – Веди меня домой, Кузьма!..
– Життя у нас такая, – вздохнул Кузьма.
– Я нарочно тебе показала все эти мерзости, – вздохнула Анна, когда он, дрожа от ужаса и негодования, рассказал ей, что творится в местечке. – Я прошла через избиения, насилия и издевательства, и все это – еще при царе, при законной для всего населения власти. А революция всегда разрушает власть, и наружу вырывается террор. Не террор индивидуального наказания негодяев в мундирах, чем занимались левые эсеры во имя возмездия, а террор массовый, как мера устрашения народа. К нему и прибегли большевики, и будут прибегать, пока останутся у власти, добиваясь рабской покорности…
– Они насиловали женщин!.. – закричал Павлик, тыча рукой в дверь. – Они, а не большевики!..
– Успокойся, – Анна погладила его по голове, прижала к груди. – Насильники будут расстреляны под нашим окном.
– Не верю!.. Не верю!..
– Кузьма! – крикнула Анна.
Вошел Кузьма. Остановился, прикрыв дверь.
– Расстреляешь насильников. Чтобы мы слышали залп. Ты понял меня, Кузьма?
Кузьма молча поклонился и вышел. Анна налила полкружки спирта, протянула Вересковскому. Павел отрицательно замотал головой и всхлипнул снова. Совсем еще по-детски.
– Пей! – резко выкрикнула товарищ Анна. Дождалась, пока Павлик, давясь, проглотит спирт, сунула ему графин, чтобы запил водой прямо из горлышка, и жестко продолжила. – Большевики создали Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию по борьбе с террором и саботажем, тебе известно об этом? Во главе ее поставлен Феликс Дзержинский, человек уникальной жестокости, который добился для ВЧК права бессудного расстрела. Я его знаю, я была под его началом, что и послужило главной причиной моего расхождения с большевиками. Я говорила тебе об этом, но ты ничего не понял. Маховик террора уже запущен, и его ничто не в силах остановить. Он будет вертеться и крушить людей, пока они не превратятся в овечье стадо, способное существовать только под присмотром пастуха…
Она замолчала, подбирая слова, потому что Павел по-прежнему молчал, слегка, правда, осовев от спирта.
– Знаешь…
Под окнами внезапно грохнул залп. Вересковский вздрогнул, спросил почти испуганно:
– Кто это? Большевики?..
– Насильников расстреляли, – улыбнулась товарищ Анна. – Но ты прав, нам пора отправляться дальше. Приляг, укройся. Я распоряжусь, чтобы собрали всех. И – в путь.
– Какой путь, какой… – заплетающимся языков пробормотал Павел. – Нет у нас пути, в руках у нас – винтовка…
И опять мчался бронепоезд, сея смерть отнюдь не империалистам, поскольку не было их отродясь на станциях и в городишках второстепенных путей. А Павел лежал на узкой койке, укрывшись с головой солдатским одеялом, да и ел только тогда, когда ему после долгих уговоров приносили котелок.
Его болезнь огорчала весь экипаж. Где-то раздобыли снятую с расстрелянного чекиста кожаную тужурку. И Павел впервые вроде бы чуть оживился, потому что спросил:
– А фуражка есть?
Принесли и фуражку. Он повертел ее, примерил даже, но потом опять уткнулся носом с стенку.
– Ожил! – решила братва. – Радости ему надо.
Разгорелся спор, что есть радость. Долго толковали, спорили, пока кто-то не предложил:
– Да девку ему надо! Мясистую, враз оживет!..
Обрадовались такому простому рецепту. Кузьме сказали, а он только плюнул с досады:
– А товарищ Анна тоже обрадуется?
И враз примолкло экипажное толковище.
В одном из захваченных местечек привели доктора. Тщательно осмотрев, прослушав и простукав Павлика, он сокрушенно вздохнул и беспомощно развел руками:
– Сильное нервное потрясение. Покой, глубокий сон, никаких волнений. Микстуру я выпишу. Два раза в день по столовой ложке, легкая диета и никакого алкоголя.
– Ну какая микстура устоит супротив спирта! – негодовала братва, с уважением, как было велено, проводив доктора и шустро сбегав за прописанным лекарством.
Однако Анна лечила, как указал местечковый врач. Поила, кормила с ложечки, регулярно давала предписанное лекарство. Только Павлу легче от этого не становилось. Он лежал на койке, с головой укрывшись от железного грохота поезда, и не хотел разговаривать. Молчал или отвечал односложно – «Да» и «Нет». И решительно отказывался гулять.
А потом ему стало значительно лучше. То ли доктор хорошо знал свое ремесло, то ли молодое тело хотело жить вопреки всем хворям, а только он начал разговаривать и даже робко улыбаться. А, главное, вставать, и его уже не нужно было волочить на руках в уборную.
Товарищ Анна была счастлива. Еще бы, ведь ее личный адъютант снова ей улыбался.
Только однажды из вояжа в уборную вернулся странным, бледным и никак не мог залезть на полку. Хотел и – не мог.
– Что с тобой? – испуганно спросила Анна.
– Голова закружилась. Гулять надо, гулять.
– Вот займем следующую станцию, и Кузьма погуляет с тобой.
– А потом куда поедем?
– На Просечную.
– Нет, я лучше здесь погуляю.
Надел чекистскую кожанку, фуражку. Сказал:
– Через час – полтора от силы.
Поцеловал Анну, вышел. А Анна велела Кузьме глаз с него не спускать. Ни на миг.
– Будет сделано, товарищ Анна.
Кузьма был предан, старателен, но шея у него отсутствовала, и голова начиналась прямо из налитых силой плеч. А коли не было шеи, то и уйти от него не представляло никакого труда, поскольку нечем было вертеть головой. Кроме того, он очень любил азартные игры, и как только застрял возле играющих в очко, Павел тут же неторопливо подался назад, вылез из толпы, постоял, озираясь, и бросился к еще не разгромленному телеграфу.
– Депешу, срочно, – сказал он телеграфисту.
– Только по распоряжению…
Вересковский сунул ему через окошко браунинг, подаренный товарищем Анной еще прежнему адъютанту. Он рисковал, очень рисковал, поскольку знал о кнопке тревоги под ногою телеграфиста. Но выхода не было, да и телеграфист выглядел трусоватым.
– Куда телеграмму?.. – голос у него дрогнул.
– Диктую. «Станция Просечная, срочно. К вам идет бандитский бронепоезд „Смерть империализму!“. Взорвите выходную стрелку, а по проходе – входную. Мобилизуйте воинские части и рабочие дружины. Огонь открывать сразу при выгрузке бандитов. Подтянуть взрывников и взорвать штабной вагон, там – командование. Подтвердите прием. Уполномоченный Берестов».
Телеграфист застучал ключом. Павел не уходил, а ждал ответа, непроизвольно втянув голову в плечи. Наконец, в ответ застучал телеграфный аппарат.
«Меры примем. Благодарим товарища уполномоченного».
Вересковский зачем-то поднял воротник кожаной чекистской куртки, и вышел. Где-то неподалеку шуровали морячки с бронепоезда, он обошел их задами, стараясь держаться подальше от центра, вышел к какому-то парку, прошел по его единственной аллее. Она кончалась задумчивой скамейкой над обрывом. Павлик, не раздумывая, прыгнул в обрыв, спустился по нему к ручью, миновал ее и, поднявшись на противоположный берег, скрылся в густом березняке.
А неповоротливый Кузьма ошалело бегал по городишку, расспрашивая
встречных о пареньке в чекистской куртке и чекистской же фуражке, но все только испуганно шарахались в сторону. Он метался весь день, рискнув появиться перед товарищем Анной лишь в сумерки. И она молча воззрилась на него.
– Сбежал?
Голос был глухим, безжизненным. Кузьма не раз слышал эту безжизненность и весь покрылся потом, ожидая выстрела в голову. Выстрела навскидку, потому что его командир стрелял без промаха.
– Так точно. И сам не пойму, вроде рядом был, и вдруг – нету его. Нигде нету
Анна отвернулась к окну, замерла. Кузьма тоже молчал, но ему вдруг показалось, что плечи Анны странно вздрогнули, словно она изо всех сил сдерживала собственные рыдания.
– Может, заблудился где, – тихо сказал он. – Завтра людей возьму, городишко вверх дном перевернем…
– Сумку! – вдруг резко выкрикнула она. – Да не эту, синюю!
Покопалась в ней, тщательно просматривая бумаги. Отбросила сумку, бумаги разлетелись по купе.
– Так и есть. Мандат пропал.
– Какой мандат?
– Чекиста, которого ты в расход пустил. То-то ему тогда фуражечка чекистская понравилась…
Замолчала, опять в окно уставилась. Кузьма, изо всех сил сдерживая дыхание, собрал бумажки, положил на стол.
– Проверь, все ли вернулись. Если все, прикажи немедленно следовать дальше.
– Куда? – растерянно спросил Кузьма.
– Прямо! – резко сказала она. – На Просечную.
– Есть на Просечную.
Он уже развернулся в узком проходе купе, когда она сказала словно про себя, не оборачиваясь:
– Нового адъютанта мне подбери. Помоложе. Ты мой вкус неплохо знаешь. Ступай.
– Ага, – сказал Кузьма и вышел, тихо, без стука притворив тяжелую бронированную дверь.
17.
Великое русотрясение, как говорила Татьяна, уже началось. Девятые валы накатывались на города и селища, на пашни и луга, на людей и скотов, беспощадно смывая их с лика Земли в бездонную пучину братоубийственной бойни. И большинство не понимало, за что оно гибнет, за что гибнут их родные и близкие, за что убивает сам, за что Святой Руси этот гнев Божий. Мольбы и проклятия, слезы и кровь черным туманом застилали горизонты, и вкус их был горше полыни. Никогда доселе, ни разу единого не переживала Россия за всю тысячелетнюю историю свою хотя бы чего-либо похожего на происходящее. Брат восстал на брата, сестра предавала сестру, и жена отрекалась от мужа.
Радуга вскинутых над Россией знамен не предвещала никакого очистительного дождя. Красное мешалось с белым, царское оранжевое – с русским трехцветным, черное анархистское – с зеленым повстанческим, и никто толком не знал, за что именно он проливает свою и чужую кровь. Все сражались за свою правду, и никто не поднял праведного меча за общую истину.
– Россия сошла с ума, – резюмировал генерал Вересковский. – Война в сумасшедшем доме то ли за лучшего врача, то ли за лучшего повара, то ли против смирительных рубашек, то ли против горьких лекарств. Я не в состоянии припомнить ни одной войны подобного рода, хотя неплохо знаю историю. Если взять интеграл сегодняшнего времени, то получим бессмысленный бунт, если попытаться дифференцировать – бунтарская бессмысленность.
На багровом фоне этой бессмысленности махровым цветом расцвели казни, которых не знало Средневековье в самые сумрачные свои времена. Выстрел в затылок и повешение, сожжение живыми в избах и паровозных топках, плети – до смерти, и железные прутья – тоже до смерти. Утопление – так целыми ротами, отравление газами – так половину Тамбовской губернии. Расстрел – так каждого пятого, третьего, второго или десятого – как начальнику вздумается. Зарывали живыми в землю, и сутками кричала и шевелилась та земля. Сбрасывали в пропасть и со старых крепостных стен, перерезали сухожилия под коленями и оставляли умирать мучительно медленной смертью, перебивали прикладом хребет, и человек долго и беспомощно корчился на земле, подобно полураздавленному червю. Да разве перечислишь все виды фантазии русского человека, когда вопрос касается казни соседа по хате?..
Есть великое множество определений гражданских войн. Войны за освобождение рабов, крестьянства, пролетариата, буржуазии. Классическое – гражданская война есть вооруженная борьба двух культур в едином государстве. Какое из них подходит к гражданской войне в России – решать историкам. Разве в ней крестьянская культура сражалась с культурой буржуазно-городской?.. Увы. И крестьяне у нас воевали между собою, и офицерство вместе с буржуазией – тоже между собою. По той простой причине, что все в России воевали только за власть, может быть, кроме Батьки Махно. За безграничную власть над всей огромной территорией и над душами, населяющими ее, поскольку все твердо знали, что власть в тысячелетней Руси – власть всегда единовластная. Не ограниченная ни парламентом, ни законами, ни юриспруденцией, ни общественным мнением, ни самими тысячелетними традициями народа. Ее обманом захватили большевики, не имевшие даже крестьянской программы в крестьянской стране.
Именно поэтому гражданская война продолжалась в России почти сорок лет. В форме уничтожения крестьянства, как класса свободных производителей. Уничтожения интеллигенции, которая большевикам была не нужна, поскольку они верстали управленцев, руководителей и даже ученых, пропуская их сначала через жернова Ленинской Коммунистической партии большевиков. Уничтожения военных, славы и таланта которых боялись большевики. Уничтожения буржуазии, церковнослужителей, старообрядцев, сектантов, миротворцев, толстовцев. Ради этого и приступили к строительству небывалого в мировой истории количества концентрационных лагерей, в которых исчезали навсегда не только их политические и идейные противники, но и их жены, дети, внуки.
Проверенным безотказным оружием большевиков всегда был террор, возглавляемый Дзержинским и его преемниками. Небывалый по мощи и организации террор, с помощью которого они сокрушили даже тысячелетнюю Русскую Православную Церковь. А сокрушив до основанья все, что не нравилось, оказались на пустыре, который был настолько пропитан страданиями, что хлеб пришлось закупать заграницей…
Сколько же погибло народу во время гражданской войны, коллективизации, голода двадцатых, тридцатых и сороковых годов в России? Кто считал? Где лежат их останки, под каким памятным крестом или обелиском? А может быть – под величественным памятником, осененным всеми знаменами всех воевавших в гражданскую армий?..
Нет не то, что памятника, нет ни единой общей могилы жертв той безумной войны. Нет. Не существует, не ищите.
Большевики не покаялись в содеянном ими хаосе, который всегда является лишь формой отрицания. Большевики не покаялись, а мы – не спаслись.
Не покаявшись – не спасешься.