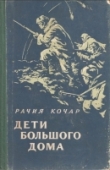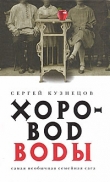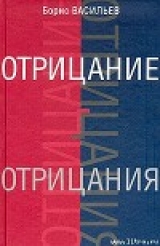
Текст книги "Отрицание отрицания"
Автор книги: Борис Васильев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
18
– Россия боялась невольных, а пуще того – вольных грехов, – говорил генерал за вечерним морковным чаем. – Думал долго, а пришел к выводу, что это есть не христианская, а рабская черта. Раб всегда вымаливает прощение, каясь в грехах с мечтой, авось, простят.
– Россия никогда не была страною рабов! – сердито сказала Наташа. – Ваши парадоксы, папочка, не для нас.
– Ой ли? – прищурился Николай Николаевич. – А чем, по-твоему, торговали предки наши по речному пути из варяг в греки? Пушниной? Так только зимняя в продажу годится. Пенькой? Так она полушку стоит, дороже перевозки. Тогда чем, спрашивается?
– Хлебом.
– Это на хлебный-то юг?
– Ну… – Наташа нахмурилась. – Янтарем.
– Верно, только много на нем не заработаешь. Рабами, дорогая моя, рабами! Русь была основным поставщиком рабов на Византийские рынки. А рабом считался любой пленный. Любой. Почему славяне так упорно и воевали друг с другом.
Генерал говорил ради своей супруги, вдруг зачастившей в церковь на службы. Она осунулась, плохо спала, часто молилась. И было, от чего. Старший сын исчез из Смоленского госпиталя неизвестно куда, Татьяна решительно перестала писать, а Павлик просто пропал. Просто пропал и все. Как сквозь землю провалился. Николай Николаевич, тоже беспокоился, тоже частенько думал о пропавших нивесть куда детях, о будущем оставшихся с ними, но уже чистивших крылышки Настеньке и Наташе. Но считал, что страдать следует про себя, а не прилюдно, да еще перед средневековой раскрашенной доской.
– Во всей великой русской литературе только граф Толстой отослал своего героя к Богу, поскольку у него самого имелись к Всевышнему какие-то претензии. – Разглагольствовал он за вечерним чаепитием. – Но заметьте, Федор Михайлович заставил убийцу Раскольникова каяться пред людьми! И нам следует запомнить этот совет, а Льва Николаевича оставить без милости, как в старину говорилось. Нет, нам непременно, чтобы при людно, видите ли…
Ворчать-то он ворчал, но тайком сам наводил справки, где только мог. В полку, где служил Александр. В госпитале, где сын лежал после ранения. В Генштабе через знакомых, некогда там служивших. Он искал Татьяну через университетскую Канцелярию, через адресный стол, через каких-то старых знакомых. И о Павлике узнавал.
А ответов не было. Ни одного. Ни ответов, ни, тем более приветов, как говорится. Канули трое из пяти детей в бездонных, черных пучинах междометий и отрицаний.
Жилось трудно и голодно, да, слава Богу, пока спокойно. Только генерала лишили хлебной карточки, как бывшего угнетателя народа, но он в праведном гневе обрел силы добраться аж до самой столицы, где с помощью какого-то Комитета был восстановлен в правах, как ученый, имеющий печатные труды. Да и карточка оказалась рабочей, а не иждивенческой, что по тем временам звучало звонко. И это обстоятельство весьма польстило Николаю Николаевичу.
– Нет, эта власть кое в чем разбирается, – разглагольствовал он. – Во всяком случае историю они ценят. Вот когда перестанут ценить, тогда и Россия баюшки скажет. Не в смысле, что переспать времена беспамятства вознамерится, а в смысле, что руками разведет.
– Ох!.. – вздохнула Наталья. – И власть ему уже понравилась. За фунт черного хлеба.
Она постоянно спорила и цеплялась к отцу, потому что и спорить было не с кем, а уж цепляться – тем более. Все молодые люди исчезли из ее окружения, воевали или прятались от боев, но прятались не у них в имении, а где-то, где-то… А время шло, свежая листва уже облетала, и она считала дни, когда станет старухой. Просто старухой, которая никому не нужна. А ведь было время, когда она упоенно мечтала о детях. Почему-то не о любви и жарких объятьях, а о детях. Только – о детях. О цветах завтрашних утренних зорь.
И мужчин нигде не было. Да и женщин тоже не было, потому что женщины тускнеют без ухода и ухаживаний, как чернеет старинное серебро, без пользы лежащее в буфетах. Смута отрицала как мужчин, так и женщин, и конца этого отрицания не было видно и в отдаленном времени. А Наташа мечтала о детях и…
И вдруг на аллее показалась мужская фигура. И фигура эта направлялась к дому, опираясь на палочку.
Наташа заметила ее из цветника. Заметила, бросилась навстречу и с разбега повисла на шее.
– Саша!..
– Извините, мадемуазель, – мужчина еле устоял на ногах. – Я не Саша, я – бывший прапорщик Николаев.
Каким бы он не был бывшим, а ему устроили немыслимый по тем временам отрицания прием. С шумом, объятьями, поцелуями и даже смехом, который давно уже не звучал в усадьбе. Даже Ольга Константиновна улыбнулась впервые за много дней. Улыбнулась и поцеловала.
– Дорогой мой, здравствуйте.
Тут же велено было накрывать на стол, и дворецкий, не спрашивая хозяев, расставил на белоснежной скатерти фарфор, хрусталь и серебро. И занял место у входа, торжественный, как памятник уходящей эпохи, памятник с салфеткой, переброшенной через левую руку.
Николай Николаевич тряхнул тайными запасами спиртного, велев достать коньяк и вина из подвала, кухарка, ворча, что съедят паек завтрашнего дня, разожгла плиту, а Наташа лично приготовила салат из съедобных трав, растущих в саду. Из крапивы, одуванчиков, щавеля, сныти, клевера – она знала массу съедобных трав. И даже Настенька отобрала ноты, чтобы сыграть случайному, а потому особенно дорогому гостю, что он пожелает.
А пока шла эта веселая толкотня и шумиха с накрыванием стола и приготовлением всяческих закусок, генерал увел бывшего прапорщика из студентов в свой кабинет.
– Присаживайтесь, Владимир, курите.
– У меня – махорка. Но – настоящая.
– Сворачивайте свою самокрутку и – рассказывайте, – Николай Николаевич вдруг спохватился. – Может быть, по рюмочке коньячку для начала? Только – для начала.
– Сначала – для ясности, – Николаев улыбнулся. – Я – командир полка Красной Армии.
– Над Россией заколыхалось знамен, как в хорошем букете. Мне не очень нравятся большевики, но я не смею осуждать, какой цвет выберет молодой человек вроде вас.
– Так постановила рота еще в семнадцатом. Я не мог оставить их, Николай Николаевич.
– И поступили в высшей степени благородно, друг мой, – генерал поднял рюмку. – А потому – за вас и вашу удачу.
Оба торжественно подняли рюмки, сделали по глотку, и Николаев учтиво поклонился.
– Благодарю. От души рад видеть вас во здравии.
– Здравие присутствует, хотя его и терзают всяческие тревоги и сомнения. А чему мы обязаны вашему сегодняшнему возникновению в конце аллеи? Да еще с палочкой. Ранены?
– Ранение пустяковое, уже отвалялся в госпитале. Но полк – на формировке, и у меня оказалось десять дней отпуска, если позволите. Я привез свой паек на всю декаду
– Отрицание традиций есть характернейший признак времен смутных и доселе неведомых, – изрек генерал. – Я имею в виду декадный паек, друг мой. Но всякое даяние – благо, а ваш приезд – праздник. И да здравствует десятидневный пир во время чумы!
И начался пир, во время которого дочери были обворожительны, Николай Николаевич пытался шутить, причем, порою удачно, а двадцатилетний командир красного полка смущенно ухаживал за Наташей. И только Ольга Константиновна по-прежнему была трагически замкнутой, однако, к величайшему удивлению генерала, в конце обеда неожиданно заулыбалась, поглядывая то на красного командира, то на начинавшую краснеть дочь.
– Знаешь, почему он приехал на целых десять дней? – спросила она мужа, когда они остались наедине.
– А куда ж ему деваться?
– Нет, ты воистину исторически не наблюдателен, друг мой! – с торжеством объявила Ольга Константиновна. – Исторически!
Ежедневно после завтрака молодые люди отправлялись гулять вплоть до обеда. А после него – гулять вплоть до ужина. А после ужина – до темноты. И весь дом был в букетах полевых цветов, которые они непременно приносили с собой.
– Догадываешься, почему у нас появилось столько цветов? – заговорщески спросила мужа Ольга Константиновна.
– Догадываюсь, почему у меня начались головные боли, – проворчал Николай Николаевич.
– Нет, ты – неисправим, как сама твоя история!
– Между прочим, он в двадцать лет стал командиром полка. Полковник в двадцать лет – это прямо декабрист.
А на третий день сборщики цветов, уйдя с вечера, явились только на следующее утро. Николай Николаевич безмятежно спал или прикидывался, что безмятежно, а Ольга Константиновна не сомкнула глаз со сладко замирающим сердцем.
– Мы ночевали в стогу! – объявила Наташа.
– Это заметно. У тебя на затылке – солома, – поджав губы, сказала мать. – А что скажет молодой красный командир?
– Я прошу руки вашей дочери, глубокоуважаемые Ольга Константиновна и Николай Николаевич.
Ольга Константиновна онемела ровно на секунду. Потом, ни слова не сказав, ринулась вдруг в свою спальню, откуда явилась с потемневшей от времени иконой Божьей Матери.
– На колени! – воскликнула она, жестом Екатерины Великой указав, где именно они должны стать на колени.
Молодые, взявшись за руки, опустились на колени в указанном месте и покорно склонили головы.
– Благословляю вас, дорогие мои, этой святой иконой моей пра-пра… Не припомню точно, сколько именно «пра». Целуйте святой лик, дети, клянясь любить друг друга!
– Я, правда, атеист, но крещен, а потому с почтением… – красный комполка благоговейно поцеловал икону. – И клянусь…
– Клясться будете в церкви пред алтарем, – строго сказала Ольга Константиновна.
– Не получится, мы – против церковных обрядов, – вздохнул молодой жених. – А при гражданской регистрации полагается клясться только в преданности нашей идее. Но это решительно ничего не меняет в наших твердых намерениях.
– Приветствую ваши твердые намерения, – сказал Николай Николаевич, целуя жениха и невесту. – Ну-с, полагаю, однако, что свадебный пир задерживать не стоит.
На следующий день молодые расписались в ближайшем Райкоме. И торжественно поцеловали Красное знамя.
19.
Александр в относительном покое отращивал бороду в доме Платона Несторовича. Нет, уже не прятался под трупами в мертвецкой, а лишь скрывался на время в комнате Анечки, где стоял огромный шкаф, в котором штабс-капитан и исчезал от посторонних глаз, оборудовав в нем вторую стенку. Но это случалось редко, поиски остатков офицерского выступления прекратились на всей территории города Смоленска, но внешность изменить было необходимо перед долгой и опасной дорогой на юг.
– Ждите, пока я вам документы не подготовлю, – отвечал патологоанатом на все нетерпеливые вопросы штабс-капитана. – В городе кроме сыпняка обитает оспа, холера и сыпной тиф. Так что вскоре кто-нибудь с подходящей внешностью помрет непременно.
В доме оказалась хорошая библиотека, в которой европейская классика была представлена на соответствующих ей языках, а русская – роскошно изданными однотомниками. Было много книг по философии и медицине, и – Анечка, и капитану Вересковскому ждать было не скучно. Анечка, правда, работала и в доме появлялась поздно, но Александр находил себе занятия и кроме чтения. Колол дрова, напялив что-нибудь попроще, чтобы не бросаться в глаза случайным прохожим, складывал полешки в сарае, а потом готовил лучину и к приходу хозяев ставил самовар. Пока самовар закипал, чистил картошку, ставил ее варить и накрывал на стол. И хотя в доме ничего не было, кроме картошки, накрывал на стол так, как мама, Ольга Константиновна, учила накрывать в праздничные дни.
Он любил этих людей, спасших ему жизнь. Они работали по четырнадцать часов, потому что медицинского персонала в госпитале катастрофически не хватало. Работали с полной отдачей не только потому, что любили эту работу, а потому, что они ничего не способны были делать, не отдавая при этом не только силу, знания, но и саму душу свою. И никогда не жаловались ни на усталость, ни на судьбу, ни на скудное питание.
Это была настоящая русская интеллигенция, питомцы гнезда Лаврова, которую Вересковский уважал безмерно не просто потому, что сам принадлежал к ней, а потому, что она была истинно народной интеллигенцией. Не выходцами из народной гущи, в которой за тысячелетие осело немало мути и грязи, а людьми, не жалеющими ни сил, ни времени ради работы во спасение этого народа. Темного, невежественного, неграмотного, ленивого, завистливого, вечно полупьяного и редко – воистину доброго. Капитан прошел суровое чистилище не на небесах, а на войне, где собственными глазами видел и собственной шкурой ощущал, как лучшие из солдатской массы сами отсеивают плевелы от зерен. Сами, лично. А большевистская «Правда» апеллировала к самым низменным солдатским слоям, безнравственным, бесчестным и корыстолюбивым. И он ненавидел «Правду», хотя внимательно читал ее при первой же возможности от заголовка до последней строчки. Врага завтрашней России необходимо было знать досконально.
Здесь было какое-то противоречие, которого Вересковский сам себе не мог объяснить. Он не мог понять, почему большевистская газета адресовалась к наименее подготовленному читателю. Среди солдат было достаточно эсеров, анархистов, меньшевиков – даже кадетов, но ленинцы упорно делали ставку на людей полуграмотных и с точки зрения штабс-капитана, ненадежных.
Он спросил об этом Платона Несторовича за ужином, который был для них заодно и обедом.
– Русская империя была государством уравновешенным. У нее не имелось колоний, а присоединенные земли, княжества, эмираты и прочие территории оставались со своей привычной властью, подотчетной только представителям государя в лице его генерал-губернаторов и то лишь в вопросах внешней политики, а политикой внутренней занимались сами. Тягостная война, а, в особенности, отречение государя породили смутные времена. А во времена смут, Александр Николаевич, авантюристы всех мастей люто рвутся к власти, почему самые беспринципные из них и стремятся опереться на люмпенов и маргиналов, которым не нужна никакая программа, которым вполне хватает лозунгов. «Штык в землю!», «Грабь награбленное!» и тому подобным. Чем примитивнее лозунг, тем он понятнее этой толпе.
– Вооруженной толпе, – сказала Анечка.
– Вооруженной и озлобленной бессмысленностью этой войны. А Ленин… Что ж, Ленин откровенно борется за власть, а в подобной борьбе все средства, как известно, хороши.
– И на кого же он будет опираться, если захватит власть, Платон Несторович? Крестьянство за ним не пойдет, буржуазия – тем более, а рабочий класс в России немногочислен, потрепан войной и сильно разбавлен женщинами и выходцами из той же деревни.
– На террор. Любое отрицание отрицания при втором явлении опирается на террор.
– Мы уже толковали об этом, – вздохнула Анечка. – Давайте сменим эту печальную тему.
– Это верно, – сказал отец. – Давайте о чем-либо более веселом, что ли. Может, споем? Мессу заупокойную.
Помолчали, не обнаруживая никакого желания веселиться. Потом штабс-капитан сказал:
– Я смотрел вашу библиотеку, там очень много литературы на иностранных языках. Вы – полиглот?
– В какой-то степени. Я свободно владею шестью языками. Закончил в Лейпциге два факультета параллельно, тогда это допускалось. Философский и медицинский. Потом уехал во Францию, год учился в Сорбонне, жил некоторое время в Италии и на юге Франции, путешествуя по Лазурному берегу. Однако когда мои весьма состоятельные родители внезапно умерли один за другим, я вернулся в Россию и оказался посторонним. Ни знакомств, ни протекций. Но в армию идти мне не хотелось, почему я и согласился на вакантную должность прозектора при военном госпитале. Но со времен моего вояжа в Европу я читаю всех европейских классиков только в оригинале.
– Философией не занимаетесь?
– Философия не нужна во времена Смуты. А если до власти дорвутся большевики, она рискует оказаться опасной.
– Почему? Им не нужна философия?
– Не нужна, но не это главное. Главная причина в том, что они взяли экономическое учение Маркса в качестве учения философского. Маркс был хорошим экономистом, но Энгельс – философ-любитель, и никак не более того. Философ-любитель и историк – тоже любитель. Типичный германский капиталист, развлекавшийся писанием популярных статей и брошюр. Не читали «Коммунистического Манифеста»? Любопытное сочинение двух сытых авторов. Немец никогда не плюнет в котелок, из которого его кормят, но пошутить над всеобщими поисками общественного устройства – это с удовольствием. И на свет рождается некое второе издание «Государства Солнца» Томазо Кампанеллы, в котором авторы предлагают для всеобщего равенства и счастья обобществить женщин. Шутка налицо, но если бы ее написали не немцы, Россия не обратила бы на это сочинение никакого внимания.
– Почему же именно Россия?
– Да потому, что вместо французов, которыми Россия восторгалась сто лет, занял восторг перед германцами. Нам вообще свойственно восторгаться, недаром само название славян происходит от латинского слова «славус» или «склавус», что означает раб. У нас рабская склонность восторгаться внешней стороной культуры, почему мы и заимствуем прежде всего восторг перед формой, а не восторг перед содержанием. Целый век Русь наивно восхищалась блеском и остроумием французов, а потом вдруг столь же наивно стала восхищаться аккуратностью, старательностью и честностью германского орднунга. Россия – большое дитя, ей необходим пример для подражания, потому что ее внутренний девиз – степной: либо все сразу, либо вообще ничего. Либо абсолютная монархия, либо – анархизм в его самом примитивном понимании: что хочу, то и ворочу.
К концу монолога Платон Несторович начал ворчать, поскольку понял, что говорит слишком много. И буркнул недовольно:
– Что-то я разболтался. Прощения прошу.
– Мы слушаем вас с удовольствием.
– Борода у вас, капитан, ни к черту. Вся в каких-то клочках.
– Я подстригу, – сказала Аня.
– Ни в коем случае. Он должен выглядеть опустившимся солдатом, сбежавшим с передовой.
– Но это же будет всего лишь форма, но отнюдь не содержание, – улыбнулся капитан.
– Я вам только что втолковывал, что в России принимают по одежке, – проворчал патологоанатом. – Документы я вам подберу, ко мне часто прямо с улиц трупы поставляют. Одежду – тоже. Остается борода. Вот и растите ее, только не клинышком. И, как говорится, с Богом на юг или еще куда.
Вересковский задумчиво улыбнулся:
– В таком путешествии да еще и с такой бородой мне очень будет недоставать надежного проверенного спутника. И такой есть, только его еще надо разыскать. Я имею в виду прапорщика Алексея Богославского, Аничка. После шумихи, которую мы с ним учинили, он переправил меня через Днепр и остался на том берегу у каких-то дальних родственников. Помнится, он что-то говорил о священнике, своем родственнике, что ли.
– Может быть, мне следует попытаться отыскать его, пока вы будете растить бороду? – спросила Анна.
– Попытайтесь, Аничка, окажите услугу. Может быть через его брата, телеграфиста Юрия.
– Разыщу, – уверенно тряхнула головой Анна. – Юрий – мой приятель, часто бывает в наших краях.
– Вот за это стоит выпить по доброй чарке, – Платон Несторович встал. – Сейчас принесу.
– У вас есть вино? – удивленно спросил Александр. – Это в наши дни такая редкость…
– У папы есть спирт.
– Вполне современное питье. Чем больше жестокости за окном, тем чаще приходится гасить им внутреннее несогласие.
Вернулся патологоанатом. Со склянкой с заманчивой жидкостью и солдатской фляжкой.
– Это – вам в дорогу, капитан, – он протянул фляжку Вересковскому. – А это – за вашу удачу. Аничка, давай стаканы.
И поставил склянку на стол.
20.
С той поры, как растерянный Петр Павлович Трутнев поведал генералу Вересковскому, что отныне он свободен, поскольку его супруга, приговоренная к одиночной камере Бутырского Тюремного Замка вышла на свободу, внук трансильванской травницы Игнатий оказался беспаспортным сиротой. Зимой он колол дрова и топил печи, в теплое время года старательно собирал травы и коренья и дотемна возился в саду и огороде. Человеком он был тихим и малоразговорчивым, и все вскоре как-то привыкли его не замечать. Все, кроме Настеньки.Это был ее единственный и очень верный друг. Он учил ее, как распознавать болезни по цвету роговой оболочки глаз, какие следует пить отвары от той болезни, которая вдруг обнаружилась, как и когда собирать коренья и травы, каким образом сушить их, и как делать мази, примочки и настои.
Но больше всего Настньке нравилась его безотказность. Если кто-либо заболевал даже в дальней деревне, Игнатий тут же одевался и ехал, если была лошадь. А если лошади не оказывалось, то шел пешком в любую погоду и в любую даль. И никогда, ни под каким видом не брал денег за оказанную помощь. Максимум, на что он соглашался после долгих разговоров, так это на кусок хлеба в обратную дорогу.
– Игнатий, почему вы ничего не берете за лечение? – как-то весьма недовольно спросила однажды Ольга Константиновна. – Вы стольким оказываете помощь, что вполне могли бы купить себе лошадь, а не топать пешком в дождь и метель за десять верст.
– Я бы козу купил, – очень серьезно ответил на это Игнатий. – Лошадь – для извозу, а коза – для пропитания.
– Лошадь нынче в цене, – сказал генерал Николай Николаевич. – Погибло их без счета. Знаете, кто больше всего гибнет на войне? Лошади и дети. Самые полезные существа.
– А женщины? – воинственно спросила Настенька. – Или женщина – бесполезное существо?
– Женщины во время войны гибнут морально, а дети и лошади – гибнут физически.
– Странная у тебя философия.
– Это – не философия, доченька, – вздохнул генерал. – Это – статистика. Войны возникают чаще всего не по доброй воле того или иного правительства, а по давлению на это правительство кругов, которые давно уже правят миром. Я имею ввиду могущественные финансовые и сырьевые империи, которые фактически и управляют наиболее развитыми странами. Ныне за территории дерутся лишь страны неразвитые в индустриальном отношении. Великие державы сражаются за сырье и рынки сбыта. И будут сражаться, пока одна или, как максимум, две державы не захватят весь мир. Они поделят его меж собою, и войны прекратятся.
– Папа, признайся, ты – марксист!
– Что касается анализа капитала, то – бесспорно. Ну, а что касается так называемого «Манифеста» – решительно нет. Решительно и бесповоротно. Это – игра или, если угодно, заигрывание.
– Перед кем им заигрывать?
– Да перед толстосумами всех стран и народов. Россия клюнула, произошел раскол в едином массиве капитала, а джин выпущен из бутылки. Впрочем, он довольно энергично к ней припадает время от времени даже во время сухого закона. Представляешь, что будет с джином, когда власть ради его утешения отменит царский сухой закон?
Он бесконечно спорил с дочерью по всем поводам. Спорил не ради самого спора, а чтобы унять собственное внутреннее волнение, успокоиться, придти в себя от постоянной тревожной мысли о множестве писем, написанных им в разные инстанции и по разным адресам. Он искал следы исчезнувших неизвестно куда детей, но по этим следам легче было найти его самого, нежели канувших ни весть в какие тартарары детей.
Он как по жизненному опыту, так и по историческим свидетельствам знал, как опасно докучать властям личными просьбами. Для чиновника не существует отдельно взятого человека вне зависимости от того, плох сам чиновник или хорош. Он служит власти, соблюдает интересы правительства, контролирует исполнение его распоряжений, и всякая личная просьба для него – выход за рамки этой службы, невольное проявление личной инициативы и, как следствие, в лучшем случае возможное неудовольствие вышестоящего начальника. Это – естественно и вполне оправданно, потому что никакая власть не в состоянии действовать в интересах подданного государства. А он писал, писал, писал и просил писать других по сугубо личным мотивам. И если кто-нибудь когда-нибудь соберет все эти письма в единую папку…
Что это было? Понимание черной полосы России, отринувшей естественный ход развития общества и придавшей ему гибельное ускорение? Или – предчувствие пожилого ученого, интуитивно постигшего происходящее?…
Приехали на машине в четыре утра. Чека всегда выбирало это время, и тогда, и потом. Товарищ Дзержинский посоветовал, большой знаток сыскного дела. На рассвете все – растерянные, глаза еще продрать не успели. Все – в халатиках, животы торчат, груди у пожилых – висят, лица помятые, в глазах – перепуг и большое внутреннее неудобство. Застали в ночном белье, прямо из постели, лица неумытые и зубы не чищеные. Товарищ Дзержинский настоятельно советовал именно в это самое время к интеллигентам врываться с мандатом на обыск. Неумытая интеллигенция от смущения такого наговорит, что потом в протокольчик ляжет уютно, как стихи гражданина Пушкина.
Человек двенадцать прибыло. Под все окна и двери – по одному вооруженному с приказом не выпускать. Остальные шестеро в кожанках в дом вошли – пятеро мужчин и одна женщина для личного досмотра особ женского пола.
– Всем стоять! Повальный обыск, вот мандат.
И начался разгром. Все ящики столов выдернуты, бумаги – на пол, книги с полок – все на пол, ковры – вниз ворсом, посуда из шкафов – какая на столешницы, какая – тоже на пол. Стеклянный звон – это не вечерний. Это – рассветный звон. Долго еще он пронзительно ощущался в новой Советской России…
Забрали какие-то бумаги – какие, неизвестно, опись никто не вел. Забрали с собой генерала-историка да подвернувшегося под руку трансильванца Игнатия, как не имеющего при себе никаких документов, удостоверяющих личность, а потому подозрительного. И – увезли.
Едва сквозь слезы все прибрали, по местам расставили, битое – выкинули, как Ольга Константиновна, ни единого звука не издавшая при обыске, столь же молча начала собираться в город.
– Не выпущу, барыня, – сурово сказал старый дворецкий. – Пока кофею не откушаете, не выпушу. А откушаете, вместе поедем барина выручать.
Откушала без споров. И вместе с дворецким выехала в город. Поздно вечером вернулись втроем – вместе с генералом Николаем Николаевичем. Ольга Константиновна сражалась за него, как тигрица. Ее посылали к другому начальнику, от другого – к третьему, четвертому, но она все же заставила какого-то очередного позвонить в Москву, в саму Академию Наук. И там клятвенно заверили, что арестант местной чека – известный историк. Лучший специалист по офицерскому корпусу России.
А Игнатий пропал. Все в чека в один голос утверждали, что он попытался бежать и был застрелен.
– Не верю!.. – закричала Настенька. – Не верю, не верю! Игнатий никогда бы не бежал…
– И я тоже не верю, доченька, – вздохнул генерал. – Только бумагу нам показали.
– Какую бумагу?
– Акт о расстрелянии при попытке к бегству, – Николай Николаевич еще раз горестно вздохнул. – Но я не верю в эту бумажку, не верю. И убежден, что наш Игнатий жив и здоров.