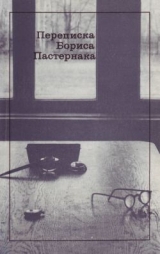
Текст книги "Переписка Бориса Пастернака"
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 2.XI.1924
Дорогая Олечка!
Что у тебя нового и как вам живется? Последний вопрос очень меня тревожит. Как твоя диссертация. Хотя, кажется, и не полагалось мне писать до твоего циркуляра, но вовсе не из повиновения тебе я был все это время так молчалив. Я и сейчас не прервал бы молчанья, когда бы не беспокойство за вас и желанье узнать, как твои дела. Писать же, значит писать о себе. Всего менее я стал бы делать это сейчас. Опять это не та жизнь, которую я себе наметил. А все началось так чудесно. Я нашел работу, которую не назову службой только оттого, что она – сдельная, и я не включен в штаты. Во всем же остальном это самая настоящая должность. В своем роде она даже приятна. Я получил работу по составлению библиографии по Ленину, и взял на себя иностранную часть. Для этого хожу в библиотеку Наркоминдела, где получается большинство иностранных журналов, и тону в них и захлебываюсь статьями, рецензиями и публикациями с десяти до четырех. Того, что от меня требуется, всего в них меньше. Но мимолетом просматриваю множество интереснейших вещей, по отношенью к которым «Современный Запад» с Прустом и Сати лишь отраженье в малой капле. Так было с месяц назад, когда я соразмерил все потребности жизни и свои собственные чаянья с величиной этого заработка, с размером остающегося досуга и со сделанными долгами, с двумя договорами, по которым я должен был получить деньги из Харькова и Петербурга, и очень порадовался возможностям и вероятьям, представившимся мне при том. Я тут же раскрыл Гамлета и принялся за его перевод, – замысел, который у меня откладывался годами. О предположеньях оригинальных не хочу говорить – их смутным ощущеньем всегда бываешь полон. Но тут это не было похоже нисколько на пассивное и темное колыханье непроверенной потенции. Нет, вновь, как когда-то очень давно, все это представлялось делом каждого дня, перспективой постоянных и регулярных, ежевечерних осуществлений. И вот еще Горацио не успел усомниться в действительности появленья тени, как из Харькова, а вслед за тем и из Петербурга, пришли отказы от договоров, из которых один находился в стадии заключенья (на Алхимика), а другой на прозу, был уже и подписан Ленгизом и мной, в мою бытность у вас – оставалось только рассказ один им дослать и деньги получить. Ты легко себе представишь, насколько тверды были мои расчеты на эти поступленья: что может быть надежнее аффирмированного договора, – так было по крайней мере до сих пор. С «годовой росписи» скинули таким образом до 100 червонцев, в общей сложности. Ты сама догадаешься, что со дня полученья таких известий я и внешне изменился, и из Наркоминдела стал приходить в 9-м часу, – хорошо еще, что там библиотекарши сменяются и читальня с 10 до 8-ми открыта. Было бы прямо спасеньем, если бы принцип сдельности проводился на манер чистых математических пропорций. Но боюсь, что тут имеются абсолютные критические пределы, выше которых отработанного не исчисляют. Боюсь также, что критический этот предел просто совпадает с тем, что мне было предположительно предложено. Думаю, что больше ста двадцати рублей в месяц мне не отработать и при двойной работе. Но так как все равно дома после пяти я ни о чем, кроме как о вероломности случая, думать не в состоянии, то я предпочитаю забивать эти часы еженедельниками, трехмесячниками, ежегодниками и прочим. Вот как обстоит у меня дело, и когда я возвращаюсь домой, то «обои» Жени уже ложатся спать. Конечно, я все усилия приложу к тому, чтобы это положенье изменить и дело поправить; да и хоти не хоти, все равно придется, библиографией мне и долга Фене (Жениной няне) не покрыть: я ей, не считая жалованья, должен 120 рублей.
Чтобы сразу с этой темой покончить, прибавлю, что жаловаться мне не на что. Я сам во всем виноват, на службу следовало уже поступить прошлую зиму. И еще скажу, что, несмотря на все «вышеописанное», я внутренне себя чувствую так хорошо, как уже давно не запомню. А теперь, таким образом, избавившись от ваших вопрошающих взглядов и их удовлетворив, кончу тем, с чего начал. Напиши про себя и про свою работу. Все, когда-то сказанное тебе о твоем приезде и прочем, остается в силе и в ней только еще приобрело. Никакого отношения моя информация до наших осенних планов не имеет. Чем грустнее мне, тем больше вероятия, что эта грусть при твоем появлении пройдет. Чем больше у меня причин возмущаться широтою госиздатовских телодвижений, с тем большим возмущеньем я брошусь в разговоры о тебе и за тебя. Засим, как писали, прощай. Крепко тебя и тетю целую.
Я защищала свою работу 14 ноября 1924 года. Оное событие происходило в холодный петербургский день, в университете, в зале совета, который тогда находился на III этаже главного здания.
Зал полон незнакомых людей.
Я в первый раз вхожу в ученое собрание. Никогда не бывала и не видела никаких заседаний. Никогда на людях не читала. Никогда не видела прений.
Держусь спокойно, в том высшем спокойствии, какое стоит волненья.
За большим торжественным столом члены совета, вся старая профессура, далекая, страшная, непонятная. Меня просят сесть напротив спиной к публике и лицом к президиуму и оппонентам. Холодно. Все одеты.
Марр, очень хмурый, садится посредине. Рядом Ильинский, ученый секретарь, зачитывает документы. Я произношу краткое слово на чисто теоретическую тему.
Начались прения. Первым говорил Жебелев, очень спокойно, домовито, по-хозяйски. Он начал со своего профанства, сразу отгородившись от ответственности. Я резко разоблачила своего учителя. Зал натянулся, как пузырь. Вторым говорил Толстой. Он все отрицал в моей работе, все порицал.
Возражения Толстого пробудили в Mappe все его внимание. Он жил, дышал, участвовал каждым биением своего пульса в происходящем. Он усмехался, мне подмигивал, в Толстого бросал реплики.
Тогда взялся распарывать мне кишки Малеин. Со злобой, издевательски он принялся уличать меня в ошибках, – я настаивала на том, что он, как и Толстой, принимают за ошибки новые принципы. К этому времени зал был полностью наэлектризован.
Официальные оппоненты кончили. Теперь идут страсти из публики. Уже несколько часов шла борьба неравных сил. Когда слово взял Франк-Каменецкий, я почувствовала страх.
Эти не были страшны. Страшен только он.
Он сказал: «Если бы это я прочел десять лет назад, вся моя научная работа пошла бы по совершенно иному пути».
Он говорил умно, светло, научно, всецело поддерживая меня. Марр счастливо и жадно слушал, весь – сплошное одобрение.
И вдруг я поняла, что это друг, что это высокая похвала – мне. Как краска заливает лицо, так горячее счастье залило мое сердце. Я поняла, что выиграла эту битву в каком-то очень большом и настоящем плане. Остальное меня не интересовало.
Марр бесцеремонно закрыл прения. Он встал и зачитал написанные им самим слова резолюции. Там в сильных выражениях говорилось о том, что «принимая во внимание совершенно новые, прогрессивные»… я уж не помню что, – но принимая во внимание что-то необычайно хорошее, ученый совет присуждает…
Я ничего не успела запомнить, как Марр, зачитывавший это стоя, сам (вместо ученого секретаря) в мгновенье ока кивнул налево и направо, сказал «возражений нет» – и закрыл собрание. Никто не успел опомниться.Пастернак – Фрейденберг
<Отрезной купон к почтовому переводу на 100 руб.>
Москва <19.ХI.1924>
Дорогая тетя Ася!
В закрытом письме я более подробно напишу о том, как папа меня упрашивал скрыть от Вас происхождение этих денег из боязни, что Вы его обидите и их не возьмете. Живое чувство подсказало мне его в этом отношении не слушаться. Уже с месяц назад он поручил нам продать одну его картину, и только теперь это удалось сделать. Вырученная сумма в частях получила разнообразное назначение. Сто рублей он просил переслать Вам. Что у вас и у Оли слышно? Скоро напишу. Целую. Ваш Боря.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 20.XI.1924
Дорогая Олечка!
Спасибо, что ты тотчас же написала мне. Я твое письмо прочел с большим волненьем. Ты молодчина, что смотришь на все стрясшееся как надо. Я легко, по личному опыту представляю себе, с каким чувством ты думаешь о Mappe и Франк-Каменецком. Но сколько тебе пришлось выстрадать в этот день! Мысленно сравнивая тебя с собою, я с радостью нахожу в тебе твердость и мужество, мне в такой форме и в такой степени не свойственные. Если я верил в тебя раньше, если картина диспута, в своей природе понятная и естественная, эту веру поддерживает и объективно подтверждает, то она особенно возрастает от того, как ты на этом позорище держалась и как судишь, вспоминаешь и пишешь о том. Завидная преданность своему назначенью и в своей непоколебимости – знаменательная и многообещающая. Так и почти всегда только так открываются поприща с большим будущим, – ты это не хуже меня знаешь, потому что читала во всяком случае больше моего. Вероятно, ты теперь отдохнешь и некоторое время никаких планов строить не будешь. Я хотел тебе предложить на это время приехать к нам. Если хочешь и тебе удобнее провести его дома с тетей, а приезд к нам связать с возобновленьем этих планов, будь по-твоему. Мне очень тебя хотелось бы видеть, и ты знаешь, как я тебе буду рад. Тоже и о Жене. – Что касается меня, то я мало и редко бываю дома и томлюсь по воскресеньям, когда представлений не даю. Мне нравится мой быстрый, механизированный машинный день, свинченный из службы, из дел и занятий, связанных с ней, и из множества других хлопот, с ней не связанных и касающихся до дома, до сношений с людьми, исполненья всяких просьб и поручений и пр. Я как игру переживаю всю эту гонку и с увлеченьем, словно фигурируя в каком-то сочиненном романе, изображаю взрослого, вечно торопящегося, лаконического, забывчивого и скачущего из ведомства в ведомство, с трамвая на трамвай. Вот о чем я говорил тогда у вас, я вовсе не «слиянья» хотел, а именно этого. Я получаю 15 черв<онцев> в месяц, если бы не долги, это было бы 3/4 того, что нам нужно. В будущем, думаю, мне и работать удастся. Дай Бог, чтобы в этом отношении я не ошибся. А пока что, должен сказать, я провожу день в непрерывных наслажденьях, ибо, повторяю, наполненность дня густою сетью несложных и стремительных пустяков меня чарует. Бездарная эта горячка все-таки больше похожа на бывалую горячку духа, которая сделала меня поэтом, нежели то вынужденное бездействие, в какое я впал в последние два-три года, когда узнал, что индивидуализм ересь, а идеализм запрещен. Но полно о чепухе такой речь заводить. Вчера я перевел вам по просьбе папы 10 червонцев. Он так пространно и сложно и наивно умолял меня Вам их переслать без обозначенья источника, что будет преступленьем с вашей стороны, если вы хоть чем-нибудь оправдаете его опасенья. Оля, золотая, прошу вас, не надо – примите.
Боря.
Напиши все-таки, когда думаешь к нам собраться. Крепко целуем тетю.
Чтоб скрасить картину, Боря выслал нам 100 рублей, якобы от дяди. О, как мы волновались! Эти деньги мы поклялись с негодованьем отправить обратно. Но наша нужда была так велика, что деньги начали, как прогнившая ткань, расходиться под нашими пальцами. Я хотела задержать этот процесс – и не могла. Но принять эту подачку, эту затычку, эту плату за поруганные надежды – о, нет! Со слезами я взяла нашу последнюю опору, мамину золотую цепочку, и отнесла ее на продажу. С каким трудом, с каким чувством утраты я возвращала Борису его подлые сто рублей – все деньги, вырученные за прекрасную цепь; с каким искушеньем, с каким трагическим сожаленьем! Итак, Боря вверг нас в дополнительные горести.
Фрейденберг – Е. В. Пастернак
Ленинград, 27.XI.1924
Дорогая Женечка!
Пишу Вам, а не Боре, потому что настал тот час, о котором мы говорили летом, и мне нужно твердое слово Ваше, а не зыбкое Борино.
Настал час, говорю: за плечами отзывы, диспут, взвешиванье сил, пробный хлебок из чана с ядом… Все уже перевалило, все уже испытано. Настал час действовать. И мне нужен Ваш «завет верности», признание летних слов, – чтоб я знала, одна я или с Вами.
До сих пор – вы свидетель – я не только ни о чем не просила Борю, но останавливала его и охлаждала; сберегла ли я тем его внутренний напор – сомневаюсь. Вот вся моя история за это время; я просила о справке о Покровском, остальное отодвигала до сегодняшнего дня, – не так ли? – Да, но не такова история Бори. Она совсем другая. Боря с первых же шагов вопреки мне, следовательно, совершенно добровольно стал что-то делать и о чем-то отписываться. Что? О чем? – Не знаю, как и Вы, вероятно. Он сразу взял тон таинственный, с недомолвками, многообещавший. Он, ничем не вызываемый мною, стал писать, что ежедневно занимается моими делами, что-то подготовляет и вот-вот о чем-то возвестит. Он сделал из своих писем анонсы, заставлял ждать их (и как мы ждали!), поддерживал беспрерывно нарост внимания, обещал и не называл своих обещаний. Женечка, я достаточно Вас знаю, чтоб не сомневаться, что Вы меня хорошо поймете: не правда ли, как духовно нецеломудренно всякое обещание, какой дряблостью чувства оно вызывается, как женской сильной натуре, знающей страсть беспересадочных действий, оно претит! Но ладно, – он обещавался. Какой же конец? – Молчание. До него – слова о моем письме, как о человеческом необходимом документе, пришедшем с фатальной нужностью, о чем-то радостном и большом, о последующем «отчетном деловом письме». Потом молчание – я все жду. И наконец, мирный апофеоз с «ничем».
Кому это было нужно? Ему или мне? Вам или маме?
Выжидательный период, прошедший в словесном «воздержании», был бы чище и содержательней. Я, повторяю, ничего за это время не возлагала на Борю и ничего не ждала. Но сам он настойчиво обострял мою наблюдательность, наводил эксперимент на самого себя, и я клянусь Вам, что ни я, ни моя любовь к Боре не виноваты нисколько, если все неотвязней и отчетливей его образ переходил в Хлестаковский.
Мама – иначе. Она вываливала Борю. И эти деньги! Заключить невыполненные, оборванные в клочки обещания родственной подачкой! Как это бестактно само по себе! Если б Вы знали, какая горечь, какая жгучая боль была в этой сторублевке! Мама так рыдала, так возмущалась; я переживала чувство чего-то фатального – за что такое нагроможденье одних горестей?
И опять поднимаешь голову, опять начинаешь принимать жизнь, продолжаешь ее опять и опять.
В конце концов, когда вкладываешь в жизнь героическое содержание, отбиваешься беспрестанно от ее гротесков, смотришь ей прямо в глаза своей нуждой, своим не желающим передышки упорством – о, как тогда мерзка кажется и преступна чья-то невыполненность! Разве Боря не понимает, что моя жизнь уже стала биографией? Что ее страдания давно перешли за норму реальности и сделались приемом искусства? Это уже стало частью эпоса – скажите ему, давать мне обещания – значит не иметь литературного чутья.
Оттого я отвечаю не ему, а Вам. Для меня настал час действовать, подготовленный моими трудами и созревший до высшего предела в безысходности моих неудач. Ответьте же мне: ждать мне чего-нибудь или нет? Если нет, имейте мужество это сказать; только, ради Бога, без обещаний. Я поняла очень скоро, что то, чего я не могу, не может и Боря; в Кубу я не могу попасть – и он не поможет; к Покровскому попасть не могу – и он нет, и пр. и пр. Это все я отбрасываю, – хотя грех Бори в том, что он не отклонил мои надежды, а я сама разбила их о него же. В таинственность и многообещанность я уже не верю. Мои желания стали ограниченные и потому точны: я хочу напечатать свою работу, которую диспут очень осветил в смысле ее новизны и научной революционности, во-первых, а затем я хочу места, которое в самой незначительности и мизерности спасет меня от «вольной профессии» и от пиявки – Сашки. Жить при такой насыщенной длительности всех и отовсюду лишений я больше не в состоянии. Узел из Сашки, вольной профессии и абсолютной нужды – должен быть разрублен.
Это мой minimum к СССР. Но и теперь я не стану обременять Борю просьбами; ни одну из своих забот не перекладываю на него. К нему – вот что: может ли он устроить мне прием у Л<уначарского> или нет? Переговоры, изложение дела etc. я беру на себя; мне нужна только услуга – огромная, разумеется – в устройстве приема.
Повторяю, пишу Вам, потому что Вы женским чутьем уловите серьезность моего тона и положения. Вы честно и прямо ответите мне – да или нет.
Поехать в Москву мне денежно очень трудно. Но пружина моя еще туга достаточно, чтоб все-таки приехать. Если Вы писать не любите, заставьте Борю, – это все равно будет для меня ответ Ваш.
Я буду ждать очень сильно. Если Вы найдете, что прием я могу получить (за его исход Боря не понесет ответственности), то я приеду сейчас же по получении письма от Вас или от Бори. Злосчастные деньги я привезу, в ином случае переведу.
Крепко и горячо Вас целую.
Ваша Оля.
Пастернак – Фрейденберг
Москва <30.ХI.1924(?)>
Дорогая Оля!
Выезжай. Я тебя просил об этом в каждом письме, и теперь очень рад, что и у тебя самой приезд стоит на очереди. Дело в том, что я на свои письма смотрю иначе, чем ты, и если в каком-нибудь из них есть что-нибудь о приезде, последуй тем советам, что там имеются. Из того что помню: захвати обязательно с собою работу, если можешь, то в двух экземплярах. Если это удобно и не вне твоих планов, то посоветуйся с Марром, чего и как тебе добиваться, и возьми у него письмо к Луначарскому. Только не сердись и не отчаивайся. Твой диспут был реальным фактом в реальной обстановке. Неужели ты думаешь, что в реальные условия поставлена ты одна, я же нахожусь в пространстве, насквозь пропитанном симпатическими токами и построенном в согласии с моими взглядами, чувствами и намереньями. Единственное, что было и остается в моих силах, это вывести тебя и твое дело из зависимости от меня и того, что с нами делается. Что это значит, узнаешь, когда приедешь. Между прочим мне не раз бывал нужен Л<уначарский>, и я воздерживался от встреч с ним, п<отому> ч<то> берег его про тебя. Твое письмо меня естественно очень огорчило. В нем сказались признаки такой несправедливости, которая по своим размерам указывает, что ее источники субъективны. Тем нетерпеливей я тебя жду. Л<уначарский> нас примет. Это я тебе гарантирую. Крепко тебя и тетю целую. Счастливой дороги.
Протелеграфируй, я или Женя тебя встретим.
Твой Боря.
P. S. Олечка дорогая, и если только это возможно, то не откладывай поездки в долгий ящик, – мне Л<уначарского> и самому надо неотложно видеть – на этой неделе обязательно будь. И не мудрствуй. Обнимаю тебя.
Б.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 3.XII. 1924
Дорогие Женечка и Боря!
Большое вам и сердечное спасибо, что ответили тотчас же. И я делаю то же, чтоб не задерживать визит Бори к Л<уначарскому>.
Я в Москву не приеду. Пожалуйста не принимайте этого на свой счет. В сущности, имей я деньги, я приехала бы, но чтоб обнять вас обоих и Дудля и доказать вам свое миролюбие, – а затем уехать. Если хотите – я очень утомлена жизнью; начинать экспедицией новую главу я сейчас не в состоянии. То, что ты, Боря, советуешь мне захватить записку от Марра, раскрывает мне характер твоей протекции. Во-первых, никогда я не научусь в ученом видеть влиятельного человека, никогда не стану форсировать научное доброе отношение к себе и менять его на звонкую монету. Никогда. А во-вторых, если Марр так влиятелен, что его имя нужно присоединять к экспедиции за жемчугом, то не проще ли ориентироваться на него одного? Чудак, чудак ты, Боря! Да если б я внутренно могла брать записки у ученых, была б ли такая у меня жизнь! Но так скроено природой: берущие записки ничего не дают сами, а дающие – не берут!
Тебе, впрочем, может показаться (или показалось уже), что я впадаю в тон величайшего самомнения. Я о скромности тебе говорила: что люди называют скромностью. Но я убедилась и в том, что такое самомнение и гордость: чувство концентрации, то, что Ницше гениально называл «пафосом дистанции», в глазах толпы есть самомнение и гордость.
Я достаточно резка и откровенна, чтобы очиститься перед вами в подозрении недоговоренности. Еще раз: у меня нет ни малейшей обиды или неосуществившихся претензий к тебе, Боря. Я, в конечном итоге, сердилась только на твой духовный темперамент, – а как раз это есть свойство врожденное, непроизвольное. Упаси Боже, – разве в твоих обещаниях меня раздражала их неосуществленность? Это грубо и не точно во всяком случае. Нет, я сама слишком сурова и насыщенна (орфография сознательная!), чтобы простить в близком человеке одну потенциальность; об остальном речи нет. Ты не сжат, ты импульсивен – за это ведь нет права обижаться, можно только бунтовать против этого an und für sich, [72] – что я и сделала. Все житейское при этом выключается.
Но то, что я не приеду в Москву, совершенно диктуется не этим, и ничего скрытого не читай между строк, затаенного не ищи. Причина лишь та, что маршрут трамвая не совпадает с моим путем; я убеждаюсь, что идти пешком мне будет легче. Да, я утомлена самой жизнью и, быть может, взбунтовалась и против тебя рикошетом. Я хотела бы служить приказчицей в чужом и частном предприятии, где ответственность несет хозяин, я хотела бы складывать работы в письменный стол и скрывать их от мифических издателей; запоздавший поезд с летними планами уже не застает меня. Я утомлена мирщиной, шарадностью истины, понимаемой каждым по-своему, зыбкостью слов, черепными перегородками и тютчевским «сочувствием», которое дается нам в виде «благодати».
Конфликт оказался сложнее, чем суфлировала житейская инсценировка. Коллизия не только двух миропониманий, но хуже гораздо: даже и с тем лагерем коллизия, и на берегу противоположном.
И как ни трудна жизнь человека, но жизнь личности еще труднее.
Кроме того, на улице поймал меня профессор-иранист и целый час не отпускал, облобызав сердце и заморозив ноги. Я и так была до и после (и во время) диспута отчаянно простужена.
Мои враги воспитывают уже новое поколение в ненависти к моей книге. Ходят по университету и говорят гнусности. Но дурное все же выветривается, а самый факт «Магистрата» остается, и в конце концов всякий, пожимая мне руку, будет помнить об ученой степени и больше ни о чем. Следить за их психологией – какая трагическая отрада! Карты перемешиваются тем, что среди единомышленников у меня завистливые враги, среди традиционных ученых – сердечно относящиеся доброжелатели. Это так мучительно и сложно! Куда сложнее диспута, прошедшего для меня легко, как двенадцатые роды. Меня тянут во все стороны, – а я хотела бы уйти от всех и от всего. Широта моей специальности тоже осложняет дело – вместо десятка врагов у меня их будет сотня. Пока злы одни классики – но близка очередь ориенталистов, и тех как раз, которые лелеют меня на своей груди. Трагедия моя еще и в том, что при революционно настроенном научном мышлении у меня овечья мирная натура. Я счастлива, когда меня не трогают. И все же должна сказать, что подготовленная враждебность на диспуте несколько разряжается, и голоса в мою пользу раздаются все больше. Но и в этом беда: враждебность лучше цементирует научные свойства, чем дряблая доброта. Занимаюсь много, сама, за исключением грузинского у Марра, который очень воспламеняет меня. Делаю у него успехи. Кончаю санскрит и древнееврейский, переходя уже к чтению; санскрит кошмарно труден, что-то невероятное, почти цирковое. С рождества начну ассирийский. Надеюсь, с помощью богов, за зиму окончить подготовление фундамента для следующей, формально-докторской работы, по замыслу и материалу уже разработанной.
Живу «по ту сторону». От скверной стороны жизни спасаюсь и возрождаюсь в этой. Выхожу освеженная и радостная, все принимающая легко и емко.
Чего и Вам желаю. Разживусь деньгой, приеду к Вам, заговорю с Вами по-вавилонски. А Вы растите Дудля и готовьте его в академики.
Крепко вас целую!
Ваша Оля.
Теперь напишу вам не скоро.








