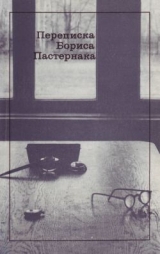
Текст книги "Переписка Бориса Пастернака"
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Пастернак – Фрейденберг
<Надпись на книге «Грузинские лирики». Москва, Советский писатель, 1935>
Дорогой сестре Олюшке от крепко ее любящего брата.
Когда позволит время, найди терпенье просмотреть все до конца. Потому что среди ерунды, которую, хотя и в ограниченном количестве, я был вынужден включить в свою работу, здесь есть неподдельные дарованья, понятье о которых я старался посильно дать. И никогда не сердись на меня.
Боря
15. I.1936
В самом начале мая 1936 г. вышла в свет моя «Поэтика сюжета и жанра». Десять лет я делала эту книгу; не дни, но и ночи; не во время работы, но и во время отдыха, в праздники, в каникулы.
Книга вышла и стала быстро раскупаться. Через три недели после выхода в свет – книгу конфисковали.
28 сентября в отделе «Библиография» газеты «Известия» была напечатана рецензия Ц. Лейтейзен «Вредная галиматья», с добавлением редакционного примечания: «Печатаемая нами статья о книге О. Фрейденберг показывает, какие научные кадры воспитывал Ленинградский институт философии, литературы, лингвистики и истории и какие „научные“ труды он выпускал. Книга Фрейденберг – диссертация на степень доктора литературоведения – вышла под маркой этого института. Что же думает обо всем этом Наркомпрос?»
«Известия» были сугубо официальной партийной газетой. Каждое слово этого органа имело официальное значение, практические результаты которого (или, как принято было говорить, оргвыводы) невозможно было переоценить.
Как врывались эти репрессии и удары в мирную жизнь человека, только что пережившего невзгоды и начинавшего думать, что все позади и можно, наконец, отдохнуть! О, эти вести, которых мы вечно ждали в трепете! Эти вести, которые звонили, настигали, прибегали в дом и срывали крыши со всех убежищ.
Едва ли кто-нибудь поймет в будущем, как это было плохо! Как грозно и зловеще!Пастернак – Фрейденберг
Москва, 1.Х.1936
Дорогая моя Оля.
Я зимую на даче с затрудненною почтой, без газет, – но об этом после. Вчера я был в городе и Женя мне показала статью в «Известиях», – она плакала.
Во всем этом мне страшно только то, что ты еще не закалена и с тобой это впервые. Наверное, это уже подхвачено ленинградской печатью, а если еще нет, то ты должна быть к этому готова. Это будет множиться с той же подлой механичностью без мысли, сплошь в прозрачных, каждому ясных передержках, с неслыханною аргументацией (всем известно, как Маркс относился к Гомеру, – как будто ты пишешь о Марксе и, приводя противное, искажаешь факты – как будто твои аналитические вскрытия есть осужденья, как будто тебе Гомер дальше, чем этой репортерской пешке, своими руками затягивающей петлю на своей собственной шее, точно этому газетчику дышится слишком вольно и надо постараться, чтобы дышать стало еще труднее…).
Я не могу сейчас, на этих ближайших днях приехать к Вам, как мне бы хотелось и было бы, может быть, нужно. Не могла ли бы ты приехать ко мне? Здесь у тебя была бы отдельная комната, и ты попала бы в поселок, состоящий сплошь из таких же жертв, как ты. [108]
Зимою была дискуссия о формализме. Я не знаю, дошло ли все это до тебя, но это началось со статей о Шостаковиче, потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда, Мариэтту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников, и опять-таки лучших, как, например, Владимир Лебедев и др.
Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе Писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и, послушав как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти что во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими настоящими именами. [109] Прежде всего я столкнулся с искренним удивленьем людей ответственных и даже официальных, зачем-де я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирались. Отпор мне был дан такой, что потом, и опять-таки по официальной инициативе, ко мне отряжали товарищей из союза (очень хороших и иногда близких мне людей) справляться о моем здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали, как фронду.
Я не знаю, как тебе быть, издали этого не сказать, надо знать, как далеко зашла у тебя эта беда в объективных фактах, надо увидаться. Я знаю случаи, когда люди, получив такой щелчок, пытались объясниться по существу, писали письма в ЦК и, добившись того, что там ознакамливались с поводом разноса (книгой, пьесой или картиной), только усугубляли свое положенье, и уже непоправимо, вторичным, усиленным на них наскоком, в подтвержденье первого. Так было с поэтом Светловым и его пьесой. Во всех этих случаях, как и со мной, урон был только моральный и, значит, при нравах нашей прессы, лишь видимый и призрачный, с эффектом обратного действия для всякого не обделенного нравственным чутьем и силой.
Я не знаю, как это по твоей неопытности разыгрывается с тобой, я не знаю твоих друзей и знакомых, твоих корней в среде, – я говорю только о вещах для внутреннего душевного употребленья, – самом в таком случае важном, если бы даже возможность самозащиты была нужна или доступна нам. Мне страшно себе представить, как ты все это переносишь и как это отражается на здоровье тети. Об этом, пока об этом, я прошу тебя немедленно протелеграфировать мне по адресу: Москва, Белорусско-Балтийская дорога, Баковка, городок писателей 48 Пастернаку.
Женя сказала, что я должен был бы вступиться за тебя в печати, т. е. написать контрстатью о книге. Если я это сделаю, я знаю наперед, что случится. Если бы даже это напечатали, меня в ответ высмеяли бы довольно мягко и милостиво, а тебе бы влетело еще больше, и, как это ни странно, еще и за меня.
У меня и на этот счет есть опыт, так всегда бывало, когда я за кого-нибудь вступался, хоть и устно, но публично.
Но зато, если бы потребовалось, негласными путями, т. е. личными встречами и уговорами, апелляциями людям с весом и т. д., я готов тебе служить, как могу, рвусь в бой и хотел бы только знать, что именно надо. И вслед за телеграммой, очень прошу тебя, поторопись подробно написать мне и пошли письмо спешной почтой по тому же адресу.
Теперь главное. Ты наверное давно ждала (и удивлялась и обижалась, может быть, – его непоступлению) – моего отклика и мненья о книге, и права была, не находя безобразию этому имени. И я сумел бы соврать или обойти вопрос молчанием, если бы не знал, что, будь ты тут, ты меня бы оправдала; – но факт тот, что я еще ее толком не прочел. Я пробежал – это было весной – при первом получении всю книгу поверхностно, через пятое в десятое, но и этого было достаточно, чтобы подивиться как раз тому, что этот мерзавец намеренно проглядывает и нагло искажает: глубине и цельности общей мысли, методологическому ее члененью из главы в главу через всю книгу. Кроме того, я прочел страницы о лирике, восходящие к тогдашнему разговору твоему на кухне, когда ты мне эти мысли поясняла снимками с позднейшей греческой скульптуры. «Укрощенье» я знал в оттиске. [110]
Я так уже тогда боялся, что не скоро улучу минуту для этого верха наслажденья (книга на интереснейшую тему, в новом, весь генезис ее преображающем разрезе, увлекательно написанная, да притом еще тобою!), что написал тебе телеграмму с ничего не значащим выраженьем голой радости (неужели я и ее даже не отправил!). Тогда Женя болела и я должен был ее устроить на юг в санаторий, а затем и их обоих с Елизаветой Михайловной на все лето в дом отдыха. Достраивались эти писательские дачи, которые доставались отнюдь не даром, надо было решить, брать ли ее, ездить следить за ее достройкой, изворачиваться, доставать деньги. В те же месяцы денежно и принципиально решался вопрос о новой городской квартире, подходило к концу возведенье дома, начиналось распределенье квартир. Все эти перспективы так очевидно выходят из рамок моего бюджета и настолько (раза в три) превышают мои потребности, что во всякое время я бы отказался ото всего или, по крайней мере, от половины и сберег бы время, силы и душевный покой, не говоря о деньгах. Но на этот раз, по-видимому, серьезно собираются возвращаться наши. Папе обещают квартиру, но из этого обещанья ничего не выходит и не выйдет. Надо их иметь в виду в планировке собственных возможностей. Я страшно хочу жить с ними, как хотел бы, чтобы ты приехала ко мне, т. е. хочу этого для себя, как радости, но совсем не знаю, лучшее ли бы это было из того, что они могли бы сделать, для них самих. Это остается в неопределенности, а я уже живу под эту неопределенность, и трачусь, и разбрасываюсь, может быть впустую. Однако эта неопределенность с родителями лишь часть общей неизвестности, в которой я нахожусь, – жить так, как мне приходится жить сейчас, весь век было бы неисполнимым безумьем, если бы даже это мне улыбалось, – и опять-таки их проблематический приезд осложняет дело, временно фиксируя меня в том положеньи, в каком застает, и отсрочивая некоторые неотложности на неопределенное время. Но об этом я даже и не вправе распространяться.
Короче говоря, я все задерживал переезд на дачу, пока Зина не собралась сама и в одно прекрасное утро не перевезла всей мебели и хозяйства. Я тоже бросился туда, как был, без книг и вещей, необходимых мне в работе. О последней я, после кризиса, составлявшего существо моей прошлогодней болезни (он, между прочим, заключался и в судьбе работ, подобных твоей) – редко мечтаю. [111] Я пишу невероятно мало, и такое, прости меня, невозможное говно, что, не будь других поводов, можно было бы сойти с ума от одного этого. Но так вообще все это не останется, я вырвусь, даю тебе слово, ты меня, если тебе это интересно, опять увидишь другим. Как раз сейчас, дня два-три, как я урывками взялся за сюжетную совокупность, с 32 года преграждающую мне всякий путь вперед, пока я ее не осилю, – но не только недостаток сил ее тормозит, а оглядка на объективные условия, представляющая весь этот замысел непозволительным, по наивности, притязаньем. И все же у меня выбора нет, я буду писать эту повесть. Да, но это к делу не относится, я заболтался, что же это я хотел сказать?
Да, так вот только вчера я поехал за нужными книгами, и также за твоею, которая все лето оставалась в неприступной квартире, опустошаемой и загроможденной ремонтом. Способна и согласишься ли ты это постигнуть?
Все дальнейшее, что я стал бы говорить тебе и рассказывать, я бы притянул к делу только для того, чтобы ускорить твой ответ. Поэтому прошу тебя прямо: как бы тебе ни было трудно, как бы ни было мало мое право просить тебя об этом и на это рассчитывать, умоляю тебя, найди минуту и немедленно телеграфируй мне, что с вами обеими; затем пересиль себя и напиши мне подробнее. Наконец, если это в твоих возможностях (не переехал ли бы на это время Саша к тете?), приезжай ко мне. У тебя будет тут, если захочешь, отдельная комната, а рядом, под боком, все товарищи по несчастью: Пильняк, Федин и другие, обтерпевшиеся как раз в той травле, которая тебе еще в новинку. И, наконец, последнее, на то короткое время, которое меня отделяет от твоей телеграммы, письма и приезда: мне ли, невежде, напоминать тебе, историку, об извечной судьбе всякой истины? Напиши ты компиляцию о прочитанном, ни мизинцем не отмеченную ничем собственным и новым, и исход был бы, конечно, совсем другой. А тут ты выходишь с совершенно своею точкой зрения, с произведеньем, что-то прибавляющим к привычному инвентарю, с делом до осязательности новым, и гуси, конечно, в бешенстве. Есть еще одно обстоятельство, невообразимое, так оно на первый взгляд противоречит смыслу. Существуют несчастные, совершенно забитые ничтожества, силой собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливость, на которую они осуждены отсутствием для них выбора, т. е. убожеством своих умственных ресурсов. И когда они слышат человека, полагающего величие революции в том, что и при ней, и при ней в особенности, можно открыто говорить и смело думать, они такой взгляд на время готовы объявить чуть ли не контрреволюционным. Это верное наблюденье, но я второпях его скомкал, это надо было бы выразить в двух словах, и тогда бы тебе этот нонсенс был ясен.
Обнимаю тебя, и не буду знать покоя, пока не протелеграфируешь и не ответишь. Тетя, целую Вас.
Б.
Вызвался поехать в Москву Хона <Франк-Каменецкий>. Дома он объяснил, что катастрофа со мной подорвет и его, рецензента книги. В этом была правда.
Мы долго думали, к кому должен Хона кинуться, и решили, что к Боре. Мы решили Борю просить переговорить с Бухариным, редактором «Известий», который его высоко чтил. Доверить такое решение нельзя было ни письму, ни телефону: все вскрывалось, читалось, подслушивалось. <…>
Хона уехал в тот же вечер. Из Москвы он проделал тяжелое путешествие по грязи в Переделкино, где жил Боря. Усталый и нервный, он попал к Боре за стол, где сидели чужие, и в том числе Нейгауз, профессор Московской консерватории, близкий друг Бори, муж Зины, второй Бориной жены. (Эта «женитьба», сказал мне как-то Боря с улыбкой, «просто была формой моего увлечения Гарриком Нейгаузом, а потому и его женой».) С трудом удалось ему поговорить с Борисом наедине (он очень нравился, как человек, Хоне). Боря рассказал ему, что Бухарин сам находится под вопросительным знаком, и сидит дома, и повидать его трудно. <…>
В тот же вечер Хона возвращался в Ленинград. Стоял холодный черный вечер поздней осени. Шел дождь с мокрым снегом. Из Переделкина отправлялась в Москву машина, и Боря втиснул в нее Хону. Грязь по колено, дождь со снегом, шум мотора, темнота, битком набитый автомобиль. Хона грохнулся на сиденье, и не успел он опомниться, как у него на коленях уселись две оживленные особы женского рода, ехавшие из гостей от писателей. Из их щебетанья Хона понял, что у него на коленях сидит Лейтейзен. Он так был утомлен и жизнь казалась ему таким сумасшедшим домом, что он не имел сил найти в себе какого-то отношения к происходящему. И он мчался в темноте, держа на коленях ту, из-за которой так был утомлен и измучен. Советская действительность представлялась ему фантомом, и он не мог четко различить, из-за чего качнуло в такую даль и по такой грязи, – уж не для того ли, чтоб посадить к себе на колени веселого товарища Цилю Лейтейзен?..Пастернак – Фрейденберг
Москва, 7.Х.1936
Дорогая Оля!
Я совершенно потрясен самопожертвованьем Франка-Каменецкого, свет не видал ничего подобного. Зато как разочарует он тебя на мой счет отчетом о своей поездке!
Я не знал, чем компенсировать бескорыстие и благородство его вмешательства. К сожалению, у нас были в этот день гости с ночевкой, и я не мог предложить ему остаться у меня. Но он ведь сам все тебе расскажет, свободно и без инспирации, не как передатчик, но как судья и наблюдатель.
Я ему обязан бесконечно многим: никакое письмо от тебя не могло бы, конечно, дать мне столько сведений, в конце концов успокоительных, как его рассказ о тебе и тете в ходе моих четырехчасовых расспросов.
Когда я звал к себе тебя, я имел в виду не только улаженье этой неприятности, но вообще хотел поговорить с тобой и тебя видеть. Мне хотелось, чтобы ты пожила у меня или у Жени, и тут, разумеется, менее всего Фр<анк-Каменецкий> мог тебя заменить.
Единственной помощью, которую я мог предложить ему (устройством ему приема, где это бы понадобилось, и обеспечением нужного разговора), он не захотел воспользоваться, находя это неудобным для тебя и нецелесообразным. Он передаст тебе, какою малостью, очень спорной и ничего не стоящей, я попытался послужить тебе по его совету.
Не унывай, Оля. Мне верится, что, хотя большинство таких историй, в виде правила, никогда не улаживается, так что постепенно их перестали считать «историями», твоя, с какою-то долей приемлемого для тебя компромисса, уладится. Назначенье комиссии подает мне эти надежды.
Нет смысла писать тебе сейчас: ты раньше письма и гораздо больше узнаешь от И. Г.. [112] Поблагодари его от моего имени еще раз.
Тетя, напишите папе и маме. Как поймут они меня, если я, сын, стану их отговаривать. Ни разу я в этом отношеньи им ничего не рекомендовал. Вот границы, в которых, не расходясь с правдою, я звал их и продолжаю звать в последнее время: я пишу им, что их приезд был бы счастьем для меня и что я всегда готов разделить с ними ту жизнь, в какой они меня застанут, и большей радости для себя не знаю. В глубине души я не верю в их приезд.
Ваш Б.
Фрейденберг – Е. В. Пастернак
Ленинград, 8.X.1936
Женечка, спасибо Вам, дорогая, что вы так хорошо приняли моего посланца. Он в Вас совсем влюблен. Говорит, что его мозг горел все дни дома, в поезде, у Бори, у родственников. Единственные часы, когда он не думал обо всей этой истории, – это у Вас, с Вами. Словом, я ужасно рада. Я просила его побывать у Вас и давала ему Ваш адрес (он остался на конверте к Боре), но у него все вылетело из головы. Впрочем, он собирался у Вас побывать еще до Бори, но поезд опоздал на два часа и спутал его планы.
Как Вам нравится вся эта идиотская история? Если б Вы знали, сколько мы ссорились дома! Я была против поездки Ф<ранк>-К<аменецкого> к Боре, я дрожала, чтоб он не втянул его в эту музыку. Но его фаршировали дома, жена и родственники. Мама его не любит и ссорила нас, «натравливала». А тут, в разгар событий, оказывается, что я забыла заплатить за телефон – его выключают. И то я вызываю Ф.-К. и прошу не ехать, то он появляется и объявляет, что едет… Словом, волнений масса. И кому нужна была эта поездка? Добро только, что он с Вами познакомился. О Дудаленочке он почти ничего не мог рассказать, а мы жадно расспрашивали.
Боря мне писал, что это Вы показали ему Известия и настаивали, чтоб он выступил в печати. Да, если б он не был моим братом. Это может сделать только чужой человек.
А я-то все мечтала побывать у Вас, посмотреть Дудлика. Мы так хотим его видеть! Но я не приехала бы по постному случаю. Да и маму не на кого оставить.
Она очень плохо видит, бедняжка, с каждым днем хуже. Писать ей очень трудно. Не читает. Горячо Вас обнимаю. Чувствую Вас.
Ваша Оля.
Мама говорит, что не может писать, очень огорчается за стариков, боится их переезда.
Ко мне стали приходить факультетские друзья, сочувствовать, давать советы. Мне советовали общественно выступить, признать ошибки в мелочах, чтобы отстоять книгу в главном. Надлежало быстро, пока я стояла на ногах, принимать какие-то меры. Но решение уже было мною принято.
О покаянье и речи не могло быть. Но я не хотела новой вины, еще более тяжкой, вины перед учеными, друзьями, перед оппонентами по Институту; от меня все требовали, чтобы я не забывала последствий начатой кампании для других ученых.
Решение было мной принято. Я написала Сталину.
То было время, когда я еще искренне верила, как сотни тысяч других людей, в искажение партийных распоряжений, вредительство, проделки местных негодяев. Говорили, что Сталин желает добра, что все письма он читает. Я решила действовать своими обычными средствами – личным непосредственным обращеньем к наивысшей инстанции, без посредников, полумер и компромиссов. Одно в жизни было у меня, безоружной, оружие: мое перо, моя страсть, моя честность.
Письмо составляло мою тайну. Но оно составляло и тайну политическую, не допускавшую разглашения.
Это происходило в начале октября. Я сразу успокоилась и только выжидала. Но дни шли, отклика не поступало, а последствия диффамации вступали в силу.
Со мной старались не сталкиваться, чтобы не раскланиваться. Товарищи перестали мне звонить по телефону. <…>
Я продолжала читать лекции и ходить на заседанья, где студенты презирали меня, а товарищи оставляли вокруг меня все стулья пустыми; председатели не давали мне, под разными предлогами, слова. В эти дни я увидела, что значит трусость, какой цвет лица у низости, как выглядит обезличенность, лакейство, отсутствие чести.
Меня заставляли работать в этих условиях, и я работала, тщательно следя за тем, чтоб не давать поводов к тем обвинениям, которые подстерегали меня на каждом моем шагу. Я привыкла входить в двери, ставшие для меня тюремными, и делать свое дело, ни на кого не обращая внимания, с глубоким ощущением своего достоинства, оставшегося при мне вместе с чувством моральной чистоты.
Дома было тяжело. Бедная моя мама, в вечных переживаниях бедствий и мук за меня, лежала с воспалением легких. Пользовавший ее знаменитый советский профессор, бахвал и себялюбец, объявил мне, что спасенья не ждать. Я призывала последние силы духа, чтоб не ощутить полного отчаяния.
Расправа со мной задерживалась праздниками 7– 9 ноября. Уже все мои ожиданья ответа из Москвы истлели.
Это было 6 ноября. Мне позвонили из Университета, чтоб немедленно приехать. В каких чувствах я оставила больную и приехала, говорить не приходится. Меня встречают…предупредительно. Получена телеграмма из Москвы, подкрепленная телефоном, чтоб немедленно командировать меня на прием к Волину (зам. наркома просвещения) 10-го числа. Университет достает мне билет на «Красную стрелу» (экспресс). Ректор велит передать мне, чтоб я по приезде немедленно явилась к нему, вне очереди, лично.
Уже звонок в наркомат показал, что меня ждет почет и ласка. Куда я ни шла, под моими ногами лежали розы.
Волин принимал меня свыше трех часов, отменив все приемы и дела.
Это был старый четырехугольный, коренастый человек с седыми взрыхленными копнами волос, с лицом и нравом Держиморды: заслуженный советский цензор. Я слышала, что Сталин хорошо к нему относился, так как он-де был воспитатель его детей.
Он встретил меня по-стариковски, ласково: «Ну, что? обидели?» И дальше рассказал, что мое письмо к Сталину у него и что ему поручено разобрать это дело (позже я сообразила, что Сталин два месяца отдыхал, и письмо, по-видимому, ожидало его резолюции). Разумеется, старый цензор на сей раз не нашел в моей книге ничего предосудительного: у нас логика вставляется в мозги в механизированном виде и зависит не от объекта суждения, а от рук вставляющего. Он, оказывается, «изучил» мою книгу, но никаких расхождений с марксизмом не заметил. Лишь отечески бранил за непонятный язык и «ковырянье». Именно – отечески. <…>
На прощанье Волин мне сказал: – Никто не тронет вас больше. Если когда-либо кто-нибудь в чем-нибудь притеснит вас или захочет создать ограничения, – пишите прямо ко мне. Вы имеете право свободно печататься и ничем не скомпрометированы.
В веселом расположении духа я провела вечер у Жени в обществе Бори и Шуры. Боря проводил меня на вокзал.
В Ленинграде меня ждала совершенно новая обстановка, словно все старое было фата-моргана. Куда, откуда все было известно? По какому радио? Но разве по радио изменяется климат?
Все были ласковы. Мне улыбались. Ко мне свободно подходили и выражали сочувствие. Меня поздравляли.
В университете меня нетерпеливо ждал ректор. Он двумя руками пожимал мою руку.
– Ну поздравляю! Поздравляю. Себя – прежде всего! Потом – вас!
H вдруг, сделав серьезное лицо, прибавил:
– А, знаете, пока вы были в Москве, я еще раз перечитал вашу книгу, внимательней, глубже! И должен вам сказать, что ведь все понял! Представьте: я понял – и только тогда оценил.
Это было 13 ноября: день полной моей реабилитации, успокоенья и победы. А 14 ноября в тех же «Известиях» появилась грозная заметка, в которой говорилось примерно так, что терпенье у научной общественности лопнуло, что дирекция ЛИФЛИ не желает, видимо, понять значенья своего потворства мне, и потому теперь голос за судом общественности. Взвился вихрь. Зам. директора Морген говорил мне: «Что же это такое? Сигнал к травле?» В глазах ректора я оказывалась самозванцем. Трудно было переоценить значение заметки. Это был знак к началу моего растерзания, то есть созыва общественного собрания (всех работников науки), шельмования моей книги и меня – и волчьего паспорта.
Нужно было экстренно, в одни сутки, задушить и эту заметку. Она представляла собой корреспонденцию из Ленинграда, а потому показывала, что злые силы идут отсюда, а не из Москвы. Писал кто-то из работников ЛИФЛИ, от имени его «общественности».







