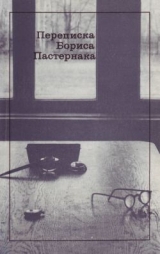
Текст книги "Переписка Бориса Пастернака"
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 8.VI.1941
Дорогая Оля.
Сердечное тебе спасибо за золотые строки о Жене. Как это все интересно, верно и талантливо, не говоря о том, как это ласково и человечно.
С нетерпеньем буду ждать Теофраста. [138] Страшно заинтригован, потому что просто не представляю себе, как воссоздавать научную древность. Вам наверное приходилось создавать свою предположительную терминологию? Чем вы в таком случае руководствовались? Тебе, наверное, пришлось заняться историей естествознанья? Как это все замечательно! Ботаника была моей первою детскою страстью.
Не сердись, пожалуйста, за отрывочность и запоздалость моих последних писем. Не могу изобразить тебе «многозаботности» и сложности моего существованья. Половина таких «ответов» пишется наспех, в виде бессмысленных повторяющихся восклицаний, – это должно раздражать тебя.
Я немного верил в исполнимость твоего приезда с мамой и огорчен тем, как вы обе на это смотрите. Мы бы с обеих сторон друг на друга понасмотрелись, это дает так много! Нашему больному лучше в том смысле, что, по-видимому, жизнь его вне опасности. Теперь это обычный тяжелый случай костного туберкулеза, который потребует какого-то долгого времени для излеченья, без дополнительных пугающих загадок.
Если у тебя есть возможность сделать это по телефону, позвони, пожалуйста, когда у тебя будет время, Машуре. [139] Я забыл или не знаю отчества тети Вари, [140] а хотел бы написать ей (адрес, наверное, несложен, просто город Касимов и больше ничего). Может быть, Машура черкнет мне? Тогда как Машуре ответить, чтобы этого не знала тетя Клара? Целую тебя и обнимаю.
Твой Боря.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 17.VI.1941
Дорогая Оля!
Браво, браво, горячо тебя поздравляю. Это мог я тебе сказать уже ровно неделю, и только эта подлая жизнь виной тому, что я этого не сделал. Да и сейчас пишу, высуня язык.
Теофраст бесподобен, я и отдаленно не предполагал ничего похожего, и поглотил разом, как только Леня подал мне пакет. Я читал его гостям, им наслаждался бывший у меня в воскресенье Женя, я всем его показываю, и когда буду в городе, хочу, чтобы его прочел философ Асмус. Жаль хоронить это в ученых записках. Если бы существовала по-прежнему «Академия», его надо было бы издать с чем-нибудь параллельным этого же порядка.
Очень хорошо, что вы переводили дословно, – «силен сделать» и т. д. В вашем объеме я, конечно, никогда этого не знал, – речь о твоем «греческом запахе», – но и то немногое, что я когда-то восторженно усвоил, я безбожно перезабыл, и из запаха помню только какие-то αποτμετεις την κεφαλην (обезглавленный) и, как вижу, даже писать разучился.
Все мои восклицанья наравне с документом относятся к твоему увлекательному вступленью. Интереснейшие, блестящие страницы! Замечательные мысли о параллелизме этики и комедии, о видоизменении значений при неизменности смыслового образа или термина, об истории перемещенья прицела (боги, герои, посредственности) и историко-публицистические характеристики времени и обстановки.
Я знаю, что еще больше интересных и поучительных мыслей и неожиданностей почерпну в другой работе, о древнегреческом фольклоре [141] (как смело сформулирован вопрос гумбольдтоподобной широты и напряженности!), но я ее еще не прочел.
Прости, что я тебя, наверное, невольно обидел, промедлив выраженьями своего восхищенья. По-моему, твое торжество должно быть полным. Чего ему недостает, чем еще могут быть тут недовольны придиры?
Крепко тебя целую, вновь и вновь благодарю и поздравляю. Мне очень хочется поскорей развязаться с Ромео, есть и еще кой-какие осложненья, вот отчего у меня такой загнанный вид и язык. Если у тебя будет свободное время и возможность, попроси своих учеников достать тебе 6-й, июньский номер «Красной нови». [142] Я им дал несколько своих пустяков, написанных о зиме и прошлом лете нынешнею весною. Обнимаю тебя и тетю Асю.
Твой Б.
22-го июня, в один из приятных летних дней, я от нечего делать позвонила по телефону. Было воскресенье около полудня. Меня изумило, когда чей-то женский голос ответил, что Бобович, которому я звонила, сейчас не подойдет.
– Он слушает радио.
Я изумилась еще больше. После незначительной паузы женский голос добавил:
– Объявлена война с Германией. Немцы напали на нас и перешли границу.
Это было страшно неожиданно, почти неправдоподобно, хотя и предсказывалось с несомненностью. Невероятно было не это нападение, – кто не ждал его? Невероятна была и не война с Гитлером: наша политика никому не внушала доверия. Невероятен был переворот в жизни, день так быстро нагрянувшей межи прошлого с настоящим. Тихий день с раскрытыми окнами, приятное спокойное воскресенье, чувство жизни в душе, надежды и желанья, как нечто объективно вросшее в меня, хочу я или нет, – и вдруг война! Не верилось и не хотелось.
Кто же, однако, не знал, что это начало величайших событий и бедствий? Я понимала теоретическое значение случившегося. Но я наблюдала, как эта страшная весть не произвела на меня никакого впечатления, кроме сенсации. Ничто из 1914 года не шло в сравненье. В сущности, душа была совершенно безразлична, и только становилось страшно за быт. Какие впереди бедствия!Пастернак – Фрейденберг
Москва <9.VII.1941>
Дорогая, золотая моя Олюшка!
Ну вот, ну как это тебе нравится! Пишу тебе совсем в слезах, но, представь себе, о первой радости и первой миновавшей страсти в ряду предстоящего нам: Зину взяли работницей в эшелон, с которым эвакуируют Леничку, и таким образом, он с божьей помощью будет не один и будет знать, кто он и что он. Сейчас их отправляют, и я расстанусь со всем, для чего я последнее время жил и существовал.
Женичка в армии, где-то в самом пекле, в Вашем направлении.
Ты удивишься, но в самых неподходящих условиях, среди трагических разговоров и в бомбоубежище, я вдруг начинаю рассказывать о тебе и твоем Теофрасте, чем привожу всех в восхищенье.
Пиши мне по городскому адресу: Москва, 17. Лаврушинский пер., д. 17/19, кв. 72.
Как здоровье тети Аси?
Крепко целую Вас обеих. Пиши мне, помни меня, пользуйся мной.
Детей отправляют на восток от Казани, на Каму.
Что будет со мною, не знаю. На даче я вырыл глубоченную траншею, но дорога эта западная, там будет по отъезде моих пусто и мертво, я, наверное, там не выживу.
Обнимаю тебя. Твой Б.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 12.VII.1941
<Получено в Москве 21.VII.1941>
Да, родной Боря, в какие дни мы встречаемся! Сердце и разум не вмещают событий, суешь дни, как в набитый чемодан, и не влазят. Сейчас села писать, духота такая, что мозг разварен. В комнате 27°.
Я позвала бы тебя к нам, если б верила, что с московским паспортом это возможно. У нас души устоялись, мы спокойны. Может быть, возле нас ты обрел бы обиходный покой.
Женечку, нашего Дудлика, жаль до боли. Скажи Жене, что мама сидит и плачет. Скажи ей, что мы ее сердечно целуем и любим. Обязательно и немедленно пошли ему наш адрес. Мало ли что бывает, он может оказаться в Ленинграде. Наше направление благоприятное. Как они расставались, как прощались, Боже мой! Он такой нежный, незакаленный мальчик!
Что у Шуры? Как Зина поступила с больным мальчиком? Это очень хорошо, что Ленечка имеет маму около себя; ужасны, безумны отрывы. [143]
Повезло одной Кларе, которая вовремя очутилась у Вари. [144]
Тяжелый кризис мы пережили третьего дня, когда встал вопрос – ехать ли со службой или увольняться? Но проблема не в службе, конечно, а в факте переезда к черту на кулички. С утра до вечера приходят друзья, знакомые, члены кафедры. Советуются, прощаются. Поездка А<кадемии> н<аук>, с десятками друзей и сотоварищей, заставила нас дрогнуть, а тут уже списки и на нас. Мучительная коллизия! Но сразу стало легче, как только я приняла решение. Мы остаемся. Я не в силах покинуть любимый город, мама не в силах доехать. Решение, предусматривающее смерть, легкое всегда решение. Оно не требует ни условий, ни программного образа действий. Это единственное решение, которое милосердно и ни на что не покушается. А душа цела и живет. Она контрабандой протаскивает созидание. Страстно интересуют военные события, и с первых дней я записалась в госпиталь. Но покупаю цветы и пишу о сравнениях у Гомера. [145]
Обнимаю тебя, родной. Будь бодр и не расставайся с собой. Придет обетованный час мирового обновления, кровавых зверей задушат. Я верю в уничтожение гитлеризма.
Твоя Оля.
Мама молодцом. А что папа и девочки? Есть ли вести?
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 12. VIII. 1941
<в Москве 16.VIII.1941>
Дорогой Боречка, что ты и где ты? Хочется обменяться вестью. Напомню, что давно уже имела от тебя письмо об отъезде Лёнечки, и сейчас же ответила тебе, но с тех пор ничего от тебя не имела. Что Дудлик, есть ли от него известия? Непременно пошли ему наш адрес, хотя возможности встречи сужаются. Мы надеялись (как я тебе писала), что ты сумеешь по командировке писателей попасть к нам и тут пожить и отдохнуть. Вопросов тьма: как дядя дорогой, где Женя, Шура, что с Федей, есть ли вести от Зины? Поторопись с ответом. Мы живы и здоровы. Пока не зову тебя до полного устройства.
Чмок! Твоя Оля.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 22.VIII. 1941
<в Ленинграде 22.IX.1941>
Дорогая моя Олюшка! Спасибо за письмо и открытку. Крепко обнимаю тебя и маму. Женя в свое время вернулся со своих работ, и недавно перевелся и уехал с Женею старшей в Ташкент. Будет большим чудом и счастьем, если эта открытка достигнет тебя. Я совершенно один, и, м<ожет> б<ыть>, если будет можно, в компании с двумя-тремя такими же холостяками, проведаем своих жен под Казанью. Они все здоровы, но им, как и естественно, очень трудно.
Твой Боря.
Смерч приближался. Первого сентября произошло самое ужасное бытовое бедствие: закрылись так называемые коммерческие лавки. Это были магазины, где провизия продавалась правительством по взвинченным ценам. Карточки, введенные на хлеб и продукты еще в августе или июле, особого значения не имели, так как все, что нужно было, можно было купить в магазинах.
И вдруг это все исчезло. Что мы будем есть, что я буду доставать.
Смерч еще ближе. 8-го сентября днем вдруг раздалась в воздухе оглушительная частая стрельба. Это был, казалось, град взрывов, стремительная охапка рокочущей пальбы, разверзающийся поток частых громов, вихрь шума, треска и катастрофы.
Прошло несколько дней, мы уже знали, что такое налеты, бомбы и пожары. Но вдруг – адский взрыв – выстрел. Сотрясается дом, кричат стекла. Мы вскакиваем, как угорелые. Тихо. И вдруг снова выстрел – гром, с грохотаньем ударяющий в дом и рассыпающийся страшным взрывом. Люди, обезумев, не знают, где спастись. Бегут на лестницы, в пролеты, вниз.
Это было еще страшнее, еще слепее, еще непредугаданнее, чем налет с воздуха, еще более неестественно и бесчеловечно. Это был артиллерийский обстрел из тяжелых орудий. К такому ужасу привыкнуть нельзя!
Немцы совершали налеты на Ленинград ежедневно, и каждый день по несколько раз, через час, через два, по пять и шесть раз, и по девяти, и по одиннадцати раз в день. Сколько им позволял бег времени и солнца, они убивали людей и превращали в развалины пятиэтажные дома. О, эти груды щепок и куски железных кроватей, жилища бедняков, жалкий скарб среди кирпичей и балок. Как все люди бывают уравнены в обнаженном виде, так одинаковы казались все квартиры среди мусора и обломков. У одних домов оставался зияющий скелет, в других поражала дверь, кусок коридора, каменная переборка. Как только начиналась воздушная тревога, мы, трепещущие, судорожно одевались и выходили в пролет лестницы, этажом ниже. Это наивное самообольщение успокаивало нас. О, этот ужас, эта темнота, этот свист пикирующих немецких бомбардировщиков, этот миг ожидания взрыва, и тотчас же падение смерти, сотрясение дома, глухой крик воздуха.
К налетам город не был подготовлен. Настоящих бомбоубежищ почти не было. Укрывались в подвалах, погребах, в газоубежищах, в холодных, сырых страшных подземельях. Прохожих загоняли туда насильственно, и в случае попадания фугасной бомбы эти подвалы засыпало.Пастернак – Фрейденберг
Москва, 14.IX.1941
В Ленинграде 27.IX.1941
Дорогая Олюшка! Какое время, какое время! Как я тревожусь и болею душой за тебя и тетю! Безумно, я тебе сказать не могу! У вас ужасные бомбардировки. Мы это испытали месяц тому назад. Я часто дежурил тогда на крыше во время ночных налетов.
В одну из ночей, как раз в мое дежурство, в наш дом попали две фугасные бомбы. Дом 12-ти этажный, с четырьмя подъездами. Разрушило пять квартир в одном из подъездов и половину надворного флигеля. Меня все эти опасности и пугали и опьяняли. Я один, но, наверное, буду зимовать вчетвером с Фединым, Всеволодом Ивановым и Леоновым в одной из наших дач. Женя с Дудликом в Ташкенте. Зина с Леничкой и еще одним мальчиком в Чистополе на Каме, другой ее сын, с костным туберкулезом, на Урале. Было известие из Оксфорда. Все живы.
Твой Б.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 8.Х.1941
<в Ленинграде 21.X. 1941 >
I. Дорогие Олюшка и тетя Ася!
Адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченко, Евг. Влад. Пастернак. Кажется, пока они не жалуются, по слухам, Женя поступил в университет на матем<атический> факультет, а также подвизается в театре. Милый друг Оля, спасибо за открытку и телеграмму. Можешь себе представить как я им обрадовался!! Я доживаю на даче последние дни со старой Жениной работницей: я все-таки навещу Зину, пока не стали реки. Там все спокойно, хотя у Лёнички корь и условия в общежитии, где помещается Зина наверное трудные. Она недавно страшно сглупила, заплатив в Лит. фонд за себя и детей за все три месяца, несмотря на свою адскую работу при столовой, между тем как ничего не делающие жены богачей-лауреатов живут в долг той же организации, не ударяя пальцем о палец. «Зачем рождается столько детей» – вот последнее Лёвино mot, [146] привезенное в Москву эвакуированными.
II. Дорогие, золотые мои! Вот еще раз на всякий случай адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченки, ей. Какое счастье было бы, если бы вы съехались! Папа и сестры живы, справлялись о нас по телеграфу, – перед отъездом к Зине в Чистополь протелеграфирую им Pasternak 20 Park Town, Oxford о вас и о нас. Конечно, я страшно соскучился по Леничке, он просил Зину «пусть папа приедет, чтобы не летали бомбы». Вызовы Зины все требовательнее и ультимативнее, мне хочется съездить к ней. Если бы случилось такое чудо, и вы проездом ли или в виде окончательной цели оказались в Москве как раз в мое временное отсутствие, тут будут всякие возможности, начиная с квартиры, некоторого топлива, некоторого количества картошки и капусты и т. д. и т. д. в ведении Жениной старой работницы, Елены Петровны Кузьминой, Тверской бульв., 25, кв. 7, Е. В. Пастернак. Может быть, у ней будет жить и Ахматова, вас это нисколько не стеснит, это хороший и простой человек.
III. Трижды родные! Адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченки, Евг. Влад. Пастернак. На время моего выезда из Москвы, если бы вы в ней случились, к вашим услугам все пустующее, городское и деревенское, в Лаврушинском и на Тверском бульваре (25, кв. 7) и какие будут запасы овощей и топлива. Все это в ведении старой Жениной работницы, Елены Петровны Кузьминой (кроме Жениной квартиры она может быть у своей сестры: Москва, Кропоткинская, 3, кв. 20: у М. А. Родионовой). Кто бы у меня ни поместился в мое отсутствие, вам всегда все обеспечено. Я ей про вас рассказал, и введет вас к ней Шура (Гоголевский бульв., 8, кв. 52, тел. К-4-31-50). Если вас судьба закинет к Женям, это будет благо и праздник, которому нет названья. Посмотрите тогда за ними. Пусть работают и зарабатывают, это главное. У них, кажется, хорошо и беззаботно.
С декабря пошло двойное усиление: морозов и голода. Такой ледяной зимы никогда еще не было. Город не имел топлива. Ни дров, ни керосина не выдавали, электроплитки были запрещены. Нормы все уменьшались. Большинство населения получало на целый день 125 гр. хлеба. Уже давно, впрочем, это был не хлеб. Подозрительное полумокрое месиво всяких суррогатов, пропитанных отголосками керосина. Чем меньше хлеба, тем больше очереди. На морозе в 25–30° истощенные люди стояли часами, чтобы получить убогий паек.
Уже в декабре люди стали пухнуть и отекать от голода.
Стал трамвай. Не было топлива, а потому и тока. Громадные городские и пригородные расстояния люди одолевали ногами. Ходили молча, из района в район, через мосты, по льду рек. Тащили за собой санки, на них балки, бревна, доски, щепки, палки.
Вдруг пошли аресты профессоров. Арестовали Жирмунского, Гуковского.
С первого января по двадцатое ровно ничего не выдавали.
Голодные, опухшие, отекшие стояли люди в ожидании привоза по 8–10 часов на жгучем морозе, в платках, шалях, одеялах поверх ватников и пальто. День за днем, неделю за неделей человеку не давали ничего есть. Государство, взяв на себя питание людей и запретив им торговать, добывать и обменивать, ровно ничего не давало.
Начались повальные смерти. Никакая эпидемия, никакие бомбы и снаряды немцев не могли убить столько людей. Люди шли и падали, стояли и валились. Улицы были усеяны трупами. В аптеках, в подворотнях, в подъездах, на порогах лестниц и входов лежали трупы. Дворники к утру выгребали их словно мусор. <…>
Когда арестовали Сашу, счастьем для меня было готовить для него передачу, которую дозволяли ссылаемым вместе со свиданьем или без него. Я бегала по лавкам и радовалась, когда что-либо изобретала или находила.
Теперь в эту зиму эти запасы были основой нашего существования, и месяц за месяцем мы вскрывали коробку за коробкой с бесценным содержимым, с Сашкиными деликатесами.
Мамино душевное состоянье ухудшалось. Суровые испытания делали ее нервной и ожесточали ее душу. Как ребенок, она считала виновной во многом меня и совершенно не хотела понимать причинности вещей.
У нас было 3° ниже нуля, минуты вставанья были мучительны, т<ак> к<ак> мы на ночь раздевались, боясь завшиветь, как все в городе.
Мы невыразимо страдали от замерзших рук. О, эта колкая, острая, нестерпимая боль пальцев! Слезы подступали к глазам, кричали на крик. Мы поминутно отогревали руки на чайнике, кастрюле. С утра до вечера шла борьба с этой болью замерзающих рук и ног.
Мы любили сидеть у печки. Это называлось «миг вожделенный настал». Спускался вечер, страданья дня кончались. Мы садились у печки и наслаждались теплом. Уют, горящие дрова, покой.
И вдруг – завыванье сирены, жалобный, протяжный – мучительно плачущий вой… Потом свист, взрыв, сотрясенье, баханье зениток. Мы замерли, ждем: взорвет нас сейчас или нет? С нами ли сейчас стрясется страшное или с другим кем-то? На кого пал жребий.
Молчало радио. В этой мертвой тишине, охватившей даже большевистскую агитацию, заключалось что-то страшное. Отпал весь окружающий мир. Было жутко ничего не знать, что делалось на свете, в стране, в городе, за границей. Люди, в острейший период бедствий, были искусственно разобщены и не могли ни подать руку, ни крикнуть «спасите».<…>
Началась эвакуация университета. Пошли бесконечные мучительные колебания, бессонные ночи, тысячи изменчивых решений, советы. Одни говорили – ехать, бежать, идти пешком из этого города смерти. Другие ухмылялись – уезжать теперь, когда столько пережито, в новые условия голода? Мы с мамой ночи не спили, говорили и говорили все на ту же тему.
Мои ноги уже почти не выпрямлялись. С каждым днем мне становилось все хуже и хуже. Мучительны были боли по утрам, когда ноги должны были стать и держать тело. О, эти страшные утра и дни, которые начинались судорогой в икрах, ужасной болью сведенных, искривленных, волком сердитым сжавшихся мышц!
И наконец, утром 24 февраля я не могла от боли ни стать, ни прыгать, ни передвигаться по комнате. Тело дрожало в ознобе, руки немели и теряли чувствительность.
Это было начало моей долгой, двухмесячной болезни. <…>
Оказалось, заболевал уже весь город. Единственное леченье – разновидности витамина С и согревающие компрессы.
Все лето и осень, под разрывы артиллерийских снарядов, под канонады и свист бомб я продолжала работать. Сперва я писала «Гомеровские сравнения». К зиме закончив «Сравнения», я стала искать работы, которая не требовала бы книг и литературы. Я стала записывать свои лекции по теории фольклора. <…>Пастернак – Фрейденберг
Чистополь, 18.III.1942
<в Ленинграде 6.VI.1942>
Дорогая Оля, у меня дрожат руки в то время, как я вывожу твое имя. Тут ли вы с тетей и живы ли? Как я надеялся, что вы вырветесь в Ташкент к Жене, как вас там ждали!! Если бы ты с тетей Асей были вне Ленинграда, я думаю, я бы об этом узнал, мы бы друг друга разыскали. Безотлагательно дай мне весть о себе сюда, тогда спишемся подробнее о том, что делать дальше. Шура с семьей остался в Москве. Я, может быть, поеду туда по делам через месяц. Поторопись ответить мне и подумай, не выехать ли вам? О папе и сестрах ничего не знаю. Леня при Зине, она служит в детском доме. Пиши скорее. Целую.
Боря.
Что и как Машура?








