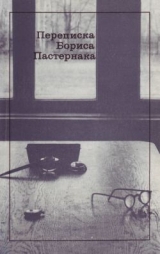
Текст книги "Переписка Бориса Пастернака"
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 26.VI.1942
<в Чистополе, 18.VII.1942>
Дорогой Боря! Посылаю тебе открытку с оказией. Мне трудно тебе писать. Можешь ли ты себе представить, чтоб Данте (пока Вергилий завтракает) присел черкнуть письмецо? Что тебе сказать, чтоб не теребить твоих нервов? Ничего. Или вот. Я решительно не знала, как понимать твое восьмимесячное молчание. Телеграфировала Жене в Ташкент, но ответа не получила. Наконец, событие: в июне пришло твое письмо от 25 марта, и наконец адрес. Что Шура в Москве, я не полагала. К Новому году обменялась приветствием с Лидочкой; [147] все здоровы. В феврале получила от нее телеграмму с тревогой о тебе и Шуре; ответила ей, бедняге, только через три месяца (лежала в цинге), и тогда за двумя сортами фамилий полетели благодарности и благословения, – я, конечно, сообщала наугад, что вы здоровы, но трудно сноситься. Тебе на открытку я ответила срочной телеграммой. Пока ответа нет, хотя подходит двухнедельный срок. «Остальное – молчанье». Моя кафедра со службой в Саратове, где меня требуют, и условия хорошие, но я боюсь тащить ветхую маму в 82 года. Долго ли проживем, не знаю. Сердечно целуем тебя, Зину и Ленечку.
Пастернак – Фрейденберг
Чистополь, 18. VII. 1942
<в Ленинграде 3.VIII.1942>
Дорогая Оля! Сейчас твоя открытка попала в такую обстановку, что я, не тратя ни минуты, отвечу тебе. Воскресенье, семь часов утра, день выходной. Это значит, что с вечера у меня Зина, а в десять часов утра придет Ленечка. Остальную неделю они оба в детдоме, где Зина за сестру-хозяйку. Свежее дождливое утро, на мое счастье, потому что иначе по глубине континентальности была бы африканская жара, а я не сплю в сильное солнце. Я встал в шесть часов утра, потому что в колонке нашего района, откуда я ношу воду, часто портятся трубы, и, кроме того, ее дают два раза в день в определенные часы. Надо ловить момент. Сквозь сон я услышал звяканье ведер, которым наполнилась улица. Тут у каждой хозяйки по коромыслу, ими полон город.
Одно окно у меня на дорогу, за которою большой сад, называемый «Парком культуры и отдыха», а другое в поросший ромашками двор нарсуда, куда часто партиями водят изможденных заключенных, эвакуированных в здешнюю тюрьму из других городов, и где голосят на крик, когда судят кого-нибудь из местных.
Дорога покрыта толстым слоем черной грязи, выпирающей из-под булыжной мостовой. Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем такого качества, что кажется смешанным с угольной пылью, и если бы такую землю трудолюбивому, дисциплинированному населенью, которое бы знало, что оно может, чего оно хочет и чего вправе требовать, любые социальные и экономические задачи были бы разрешены, и в этой Новой Бургундии расцвело бы искусство типа Рабле или Гофманского «Щелкунчика». В окно я увидел почтальоншу, поднимающуюся на крыльцо нарсуда, и узнал, что она бросила к нам в ящик открытку.
Я без всякого препятствия взялся сейчас за письмо вследствие раннего часа, тишины и живописности кругом. Телеграмма от тебя была для меня понятным потрясеньем, я плакал от счастья. Но я, наверное, долго бы не мог преодолеть робости и удивленья перед мерой перенесенного вами и еще переносимого, и долго бы не мог написать тебе, потому что никакие восклицанья не казались бы мне достаточными для их выраженья.
Когда я сюда приехал в конце октября, я почему-то надеялся, что вы попадете к Жене в Ташкент. Я ее о вас запрашивал. Но дело в том, что и от самой Жени я не имел ни слова первые четыре месяца, и письма оттуда пошли только с конца января. Мне помнится, что я тебе писал перед отъездом из Москвы или вскоре по приезде в Чистополь, и мне казалось, что Зинин адрес (Чистополь, детдом Литфонда) тебе известен. Главное же, я в глубине души так же, вероятно, не допускал мысли, что вы в Ленинграде, как тебе не верилось, что Шура остался в Москве. Наконец, последнее: только в марте я узнал на практике, что из отрезанного Ленинграда и туда бывает почта, что в природе это имеется. Но даже и тогда мне казалось дерзостью покушаться писать на ваш обыкновенный адрес, суеверный страх того, что ваша квартира опустеет от одной смелости допущенья, будто в ней по-старому может быть кто-нибудь, чтобы отпирать почтальону. И я наводил о вас справки через С. Спасского [148] и, с помощью ленинградца Шкапского, [149] живущего здесь, собирался запрашивать о тебе Ленинградский университет. Только случайно естественнейшая мысль пришла мне в голову. Дай-ка напишу я им все-таки простую открытку.
Вот, в конце концов, и все. Продолжается хорошо тебе известная жизнь с видоизмененьями, какие внесла в нее война. Пока я был в Москве, я с большой охотой и интересом разделял все новое, что сопряжено было с налетами и приближеньем фронта. Я очень многое видел и перенес. Для размышлений, наблюдений и проявления себя в слове и на деле это был непочатый край. Я пробовал выражать себя в разных направленьях, но всякий раз с тою долей (может быть, воображаемой и ошибочной) правды и дельности, которую считаю для себя обязательной, и почти ни одна из этих попыток не имела приложения. Между тем надо жить.
Сюда я привез с собой чувство предвиденности и знакомости всего случившегося и личную ноту недовольства собой и раздраженного недоуменья. Пришлось опять вернуться к вечным переводам. Зиму я провел с пользой и приготовил для Гослитиздата избранного Словацкого, а для Комитета по делам искусств перевел Ромео и Джульетту. Теперь я свободен. Для возвращенья в Москву требуется правительственный вызов. Их дают неохотно. Месяц тому назад я просил, чтобы мне его выхлопотали.
Пройдет, наверное, еще месяц, пока я его получу. Тогда я поеду в Москву из целого множества естественных чувств, и между прочим любопытства. Пока же я свободен, и торопливо пишу, переписываю и уничтожаю современную пьесу в прозе, которую пишу исключительно для себя из чистой любви к искусству. [150]
Что-то не выходит у меня письмо к тебе и, чувствую я (такие ощущенья никогда не обманывают), читаешь ты его с холодом и отчужденьем. Все мои тут и в Ташкенте здоровы, но, конечно, одна кожа да кости, феноменально похудели. Хорошо еще, что тут хлеба досыта, но это почти и все. Зинин старший мальчик (с костным туберкулезом) в санатории на Урале, она ею не видела около года, собирается к нему. Леня, которому я сегодня сказал, что получил от тебя открытку, помнит тебя по прошлогодним рассказам. Крепко обнимаю тебя и тетю Асю. Что же ты думаешь все-таки делать?
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 7.VIII.1942
<в Чистополе 24.VIII.19 42>
Дорогой Боря! Как я счастлива, что наконец обрела тебя! Не делай больше таких пауз. Если б ты ответил мне сразу на телеграмму! А я телеграфировала Шуре, разыскивая тебя, но ответа и от него не получила. Твое письмо пришло быстро, в две недели. Ты пишешь, что оно вызовет во мне холод и отчуждение, что оно тебе не дается. Мне стало печально от него, пусто, но не за себя, а за тебя. Ты не все мог и хотел написать. Но форма (чушь, не форма в литературном значеньи) умолченного и сказанного так легко придвинула меня к тебе, как внутренний бинокль. Это ли жизнь для тебя, когда тебе ничего не надо, кроме самовыраженья, а его-то надо занафталинить до будущего сезона, – и тяжко, и страшно; есть ли еще внутренние силы – страшно, что скоро засохнут без движенья; молчанье ли – страшно, что это конец. Но нет, глупости! Ты сам себе не представляешь, как душа живуча, как гибель трудна, всякая гибель, – погибнуть не легче, чем спастись: и тут нужна доля, нужна участь – и чтоб погибнуть, своего рода удача. Сильна, сильна кровь! Ты – донор. Полежишь на кушетке, иссякший – и к вечеру восстановишься. Я – не пример, когда речь идет о силах, тебе дарованных. Но и мне была страшна не соматическая гибель; казалось, душа изомнется. Так нет! Одна страница настоящего искусства, две-три строчки большой научной мысли: и жив курилка! Поднимается опять страсть и пеплом пылится отвратительная псевдореальность, и мираж как раз она, и она будет ли жить и кровообращаться, вот вопрос. Мое несчастье, – одно из сильнейших, – в оптимизме, конечно; он меня, в конце концов, погубит; это не теоретическая предвзятость идеи, а чересчур громкое жизнеощущенье. Однако, и без оптимизма – правда ведь, что смеется тот, кто смеется последний, и мы еще не на свалке; и благодетелен этот снежный покров, под которым вызревает плод. Хаос: недаром все народы начинали с него, а не с черта, борьбу света. По-видимому, мы приступаем к зачатию. Ты увидишь, мы родимся, – посмотри, сколько его, как он распространяется. Только бы сохранить душу.
Боже, я совсем не это хотела писать. Дорога каждая строчка, а я измарала уже половину письма.
Я была разочарована, что ты не откликнулся на весть об оксфордцах. Я так из кожи лезла, чтоб втиснуть в депешу. Видишь ли, под Новый год я послала им поздравленье, на которое моментально пришел ответ. Вдруг в феврале запрос Лидочки о вас, полный ужасной тревоги. И на него-то (пойми!) я три месяца не отвечала. О, что это были за три месяца!.. Выбрав день, когда ноги могли передвигаться и еще не начался обстрел из тяжелых орудий, я пошкандыбала на Главный Телеграф. Я сообщала, что могла: что вы все здоровы, что сообщаться трудно, что ты в Ташкенте (как я считала). Через день пришли благодаренья, благословенья, счастливые слезы…
Наш город чист, как никогда ни один в истории. Он абсолютно свят. Он пастеризован. И я прохожу военное дело без отрыва от производства. Умею отличать, сидя у себя в комнате, 12-ти дюймовое от 8-ми дюймового орудия; знаю, как строить гаубицы и пулеметные гнезда; зенитные снаряды не спутаю с минометами, береговую артиллерию с полевой. Я различаю пике наших бомбардировщиков от змеино-шипящих немецких, и больше не смешиваю вражеский налет с воздушными (немецкими) разведчиками. Мало того: когда свистят снаряды и колышется дом, я знаю по звукам разрывов и раскатов, наши ли это или вражеские приступы. В остальном прочем – но мы свыклись с фронтом и давно забыли о тыле. Я его стала бояться. Мне страшно туда уехать, как в страшилище, сутолоку и давку. Мы разучились ласке и улыбкам. Мы отвыкли от людей и быта, от рынка и от меню, от того, что планируется и разыгрывается в четыре руки. Если квартал имеет воду и кран на улице, мы выходим стирать или мыть посуду На угол такого-то и такой-то; мы читаем Котошихина и Олеария, [151] наклоняясь над рвом во чреве мостовой и шайками, чайниками, кастрюлями черпая воду, – шум, крики, сани с кадками, скользкий лед, в платках и одеялах пестрая, густая женская толпа; но это март, февраль; вольготно, легко выходить летом с чашкой мокрого белья и полоскать его на тротуаре. Мы питаемся дикими травами и подножным кормом; мы делаем огонь и тепло, и добываем, согрев мемуарами и полом, и проза оказывается горячей стихов, на истории вскипает чайник; прекрасным полом выходит паркет. «Завтра» нет для нас. Я спросила, когда придет телеграмма. «Я не знаю, что будет с вами и мной через 10 минут», – , ответила телеграфистка. Это все не быт, конечно, а вереница суровых дней и дел, футуристическая композиция, которая для обывательского глаза представляется грудой падающих и пересекающихся нелепостей в квадрате и квадратов в нелепости: это новое воспроизведение пространства и невиданный аспект времени, с каузальностью, которая не снилась ни Гегелю, ни твоему доброму, старому марбуржцу. [152]
Кстати, я забывала тебе сказать, – пока до темы смерти письма не доходили. В мировой литературе – конкурс описаний смерти. Толстой и Мопассан очень сильны; они переворачивали мне душу. Но мощный удар в сердце, по-настоящему, я ощутила над Охранной грамотой, где ты даешь смерть Когена. Это потрясающе по адекватности, ибо по простоте констатации нуля. С величайшим тактом и глубиной ты исчерпываешь описание смерти тем, что показываешь пустое зеркало. Ты все наполняешь Когеном и навертываешь Марбург до сгустка, не упоминая того, кому он однозначен. И вот в самом конце: а где же Коген? Его нет. Он умер.
У меня нет цитаты, но я помню впечатленье. Шекспир пытался в «Лире» дать это нулевое качество, когда на зеркале нет дыхания Корделии. Чистое у рта зеркало! Вот образ смерти. Он художественен метафоричностью, у тебя же и метафоры нет, а показано «ничего». Коген просто не упомянут. Где же он? Его нет. Я не помню, говоришь ли ты даже, что он умер. – Милый друг, с какой охотой и радостью я с тобой говорю. В городе осталась одна Лившиц, ибо врач; живет с мужем, почти помешанным, – таких очень много, и к этому есть простая кантовская каузальность. Я делала много попыток уйти от детских уз. Теперь в Лившиц много открылось мудрости, хорошей, настоящей. Она героически еженедельно навещает нас, и это большие дни. Как Сади некогда сказал, нет ни друга у меня ни одного, ни знакомого, – Боря, Боря… Я строила жизнь для Саши; как каменщик, складывала песок и консервы, банки с жиром, чемоданы с арктической одеждой, даже открытки и марки. Вот почему мы живы и я могу посылать открытые и закрытые письма. Второй год осады города! Вот как мы уцелели в декабре – феврале. Потом мучительнейший скорбут, [153] крики мои и стоны от ног, сведенных в конвульсиях. Я лежала февраль, март. Бедная мама! Ты представляешь? Отморозить ноги и руки в комнате, где мы спали при трех градусах мороза и вода обращалась в лед. Нервы ее очень исчахли. Она меня замучала. И наша физическая структура! И ее старость! И эта больная боль друг за друга. И ее непреклонная душа, без скидок на жизнь, без уступок на человека!
Только 12 июля мы наконец уехали. Мое учрежденье в Саратове. Там комната в центральной гостинице, хороший свой стол с особым пайком, работа, жизнь, жалованье. Они уехали зимой, в лютые морозы, когда я лежала. Меня звали, ждали, понуждали. Я не решалась из-за мамы. И разоренье. И мир книг! И комната с детских дней! И всякие иррациональные вещи. Наконец, уехали 12 июля после большой физической и душевной укладки. Судьба послала мне крупного оборонного человека, отправлявшего нас на машинах, с военной помощью. [154] И вот эпилог. Уже на первом этапе путешествия я свалилась; мама держалась молодцом, и в ней проснулась светская женщина. Пришлось пресечь путешествие и вернуть меня обратно, на предмет леченья. Тот же военный подобрал нас в чистом поле (а я уже мечтала о Чистополе) и доставил лично. Распечатали двери… свалили груду тюков… и так и живем, не зная, как быть, что же делать. Тут свалилась с температурой сорок и мама, но скоро ожила, хотя и медленно. События сгрудились. Военный уехал. В Саратов далеко, опасно. Зимовать здесь вторично пагуба. Вот и сидим.
Я не люблю Римского-Корсакова. Он слишком академичен и чересчур музыкально прав. Я написала бы к его «Китежу» новое либретто. Я сделала бы из него пастеризованный город, без единой бациллы жизни; там нет ни беременных женщин, ни детских голосов. Это была бы колба, из которой выкачали воздух, – нет, время. Будущее его! А настоящее? Там вечно ждут футурности, а настоящее футуристично.
На этом обнимаю тебя и твоих. Целую Зину, Ленечку, дорогого тебя. Предполагай, что я тут, и пиши при всех обстоятельствах сюда. – Так рука попадает в щель, как наша жизнь в эти попала дни. Будем ли живы? – Я работала, хоть урывками, все время, – писала, ради «чистой души». И как хочется! Но нет ни сил, ни возможности: все упаковано.
Обнимаю! Твоя Оля.
В доме ничего нет. Мы, бледные, истощенные, умученные, пьем воду с крохами хлеба. Но и самовар нечем подогреть. Я сижу у себя за столом, но работать не могу из-за анемии мозга. Передо мной листики, исписанные моей рукой, с моими «Лекциями по теории фольклора», но голова не варит. Завтра еще более страшный день, даже без пустого супа.
Я бегала в поисках работы, т<ак> к<ак> паек первой категории теперь выдавался только служащим. Меня рекомендовали для работы в Архиве. Я не смела отказываться. С конца июля начались мои визиты в здание Сената, где располагались архивы, где меня ласково встречали, но не могли придумать формы, в которой протекала бы моя работа. Тогда мне предложили тему о героизме ленинградских женщин. Мне понравилась мысль показать, как работали в осажденном городе деятельницы духовных профессий.
Знакомство с ленинградскими героинями было мало интересно. Меня больше занимали маленькие люди. С двумя женщинами мое знакомство оказалось прочно. Одна из них была Мария Вениаминовна Юдина. Я ее знала давно, когда к ней ходили Доватур и Егунов [155] , почти студенты, и таскали для нее античные книги из нашего кабинета. Потом я узнала, что она приятельница Бори и Жени. Давно я хотела с ней познакомиться.
Профессор нашей консерватории, она была изгнана за открыто исповедовавшуюся религиозность, и теперь приезжала из Москвы на концерты. Ее героизм был подлинным. Нужно было иметь высокий стойкий дух, чтоб добровольно жить в нашем страшном городе, выносить смертельные обстрелы и в кромешной тьме возвращаться черными вечерами на седьмой этаж Астории. Юдина очаровала маму, которая сразу почувствовала к ней какую-то семейную любовь и близость.Пастернак – Фрейденберг
Москва, 5.XI.1943
Дорогие тетя Ася и Оля!
На днях Юдина нашла и вновь подарила мне вас. В прошлом году я послал вам несколько писем и телеграмм, оставшихся без ответа. Из последнего твоего письма, Олюшка, я знал, что вы двинулись было из Ленинграда и опять туда вернулись. Больше известий от вас не поступало, и запросы оставались без ответа. Но не я один был в отношении вас в таком положении. Факт близкого нашего родства очевидно широко известен, что доставляет мне всегда живейшую радость. В прошлом году, когда как раз я терзался неведеньем о вас, в одном издательстве ко мне подошла незнакомая и очень милая молодая женщина, сказавшая мне, что она твоя ученица по фамилии, кажется, Полякова, и что после твоего несостоявшегося выезда из Ленинграда она потеряла твой след. [156] Вскоре с теми же сожалениями ко мне обратился проф. Б. В. Казанский. В последней открытке, которую я тебе написал, я упоминал тебе с радостью, как тебя знают и любят. В результате вашего молчания я пришел к нескольким допущеньям, из которых самым легким было предположенье, что вы все-таки выбрались в какую-нибудь сибирскую глушь. Я был уверен, что вас в Ленинграде нет, а вашего дома (раз письма не находят вас) и подавно: что его снесло снарядом. Розыски вас я приостановил в конце декабря. Нынешним летом Казанский посоветовал мне написать в Центроэвак в Бугуруслан, и я этого не сделал только потому, что были едущие в Ленинград, и я надеялся запросить через них университет. Вы для меня были настолько потеряны, что мне трудно даже было скрывать это в телеграммах от папы.
В конце декабря я опять уехал от холодов к Зине и Леничке в Чистополь на елку; ведь он родился как раз» в новогоднюю ночь. Я очень полюбил это звероподобное пошехонье, где я без отвращения чистил нужники и вращался среди детей природы на почти что волчьей или медвежьей грани. Все-таки, элементарные вещи, как хлеб, вода и топливо, были как-то достижимы там, не то что в многоэтажных московских ребусах, в которых зимами останавливаются все токи, как кровь в жилах, и которые в меня вселяют мистический ужас. Я там опять прожил несколько месяцев и перевел «Антония и Клеопатру». Их печатают, а «Ромео и Джульетту», мою прошлогоднюю работу, я, может быть, пришлю тебе до Рождества. Когда я летом прошлого (42-го года) приехал в Москву, я столкнулся с полным нашим разореньем, из которого потрясла меня только почти полная гибель папиных эскизов и набросков, а частью и законченных вещей, которые у меня имелись. Я уезжал среди паники и хаоса октябрьской эвакуации. Мы с Шурой ходили в Третьяковскую галерею с просьбой принять на храненье отцовские папки. Никуда ничего не принимали, кроме Толстовского музея, который далеко и куда не было ни тележек, ни машин.
У нас на городской квартире (восьмой и девятый этаж) поселились зенитчики. Они превратили верхний, не занятый ими этаж в проходной двор с настежь стоявшими дверями. Можешь себе представить, в каком виде я все там нашел в те единственные 5–10 минут, что я там побывал. В Переделкине стояли наши части. Наши вещи вынесли в дом Всеволода Иванова, в том числе большой сундук со множеством папиных масляных этюдов, и вскоре ивановская дача сгорела до основанья. Эта главная рана была для меня так болезненна, что я махнул рукой на какие бы то ни было следы собственного пристанища, раз пропало главное, что меня связывало с воспоминаньями. Я не мог заставить себя пойти на свою городскую квартиру еще раз и прожил осень и половину прошлой зимы, не побывав ни разу в Переделкине, где прожил лучшее время с Леничкой, которое любил и где сосредоточенно и в тишине работал, хотя знал, что там живет Ленькина няня и что туда надо было бы съездить. Всю зиму (до Чистополя) я кочевал, некоторое время жил у Шуры, а больше у больших своих друзей профессора В. Ф. Асмуса и его жены, где зажился и сейчас и откуда сейчас пишу тебе. В июле я привез в это разоренье Зину с ее сыном Стасиком и Леничкой. За старшим, Адрианом, с ампутированной ногой (костный туберкулез), она недавно со страшным трудом ездила в Свердловск и привезла полуумирающим. Он под Москвой в санатории. Страшных трудов стоило выселить из квартиры зенитчиков. Это удалось только на прошлой неделе. Зина героически перебралась в этот неотопленный пустырь постепенно обживать его. Ее другой сын, Стасик – живет у знакомых близ Курского вокзала, она в Лаврушинском, я у Асмусов близ Киевского, Леничка со своей прежней няней, странной, чтобы не сказать больше, женщиной, не чающей в нем души, живет у ней на кухне нашего пустого дома в Переделкине. Я надеюсь, что холода, в конце концов, всех нас туда загонят. Когда Леня тихо подходит к моему столу во время моей работы, чтобы посмотреть, как это мне помешает (как теребят корочку на губе), это на меня действует как присутствие музыки. В конце концов он самое крепкое, что связывает меня с жизнью. Кроме того, зима в лесу, что может быть проще в смысле разрешения дровяной проблемы. Если мы там очутимся, я примусь за «Лира». Мне заказали «избранного Шекспира»; Лира, Макбета или Бурю, и две хроники, Ричарда II и Генриха IV.
Нам сейчас очень трудно, ни угла, ни обстановки, жизнь приходится начинать сначала. В сентябре я был на Брянском фронте. Мне было очень хорошо с военными (армия была все время в передвижении), я там отдохнул. Когда позволят обстоятельства, я опять туда поеду. Посылаю тебе книжечку, слишком тощую, очень запоздалую и чересчур ничтожную, чтобы можно было о ней говорить. В ней есть только несколько здоровых страниц, написанных по-настоящему. Это цикл начала 1941 г. «Переделкино» (в конце книги). Это образец того, как стал бы я теперь писать вообще, если бы мог заниматься свободною оригинальной работой. Это было перед самой войной. Ты догадываешься по почерку и стилю, что пишу я страшно второпях. Я очень много работаю эти недели (жизнь у Асмусов в этом отношении очень благоприятна: он мне уступил свой кабинет, я им только что много о вас рассказывал. Она – Ирина Сергеевна Асмус, моя приятельница, в ней есть какие-то тети Асины черточки). Я очень много работаю. Мне хочется пролезть в газеты. Я поздно хватился, но мне хочется обеспечить Зине и Леничке «положенье». Зина страшно состарилась и худа, как щепка. Приехала из Ташкента Женя с Женечкой. Он учится в Академии танкостроения, лейтенант (20 лет), на втором курсе, на хорошем счету, любим товарищами. Я пишу, перевожу, сочиняю поэму на современную тему с войной и буду ее печатать в «Знамени» и «Правде». [157] Папа и сестры с Федей и семьями живы и благополучны.
Без конца целую и обнимаю вас.
Ваш Боря.








