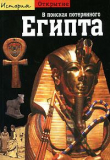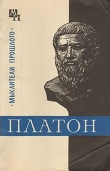Текст книги "Путешествие через эпохи"
Автор книги: Борис Кузнецов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Дифференциализм
Основная цель моих путешествий на машине времени – черпать из прошлого то, что сейчас усиливает выход науки за пределы констатаций, за пределы «изъявительного наклонения», о котором говорил Пуанкаре, ее распространение на «повелительное наклонение», на область ценностей, на область добра и красоты. Первая тема в несколько упорядоченном расположении, которому я отныне буду подчинять воспоминания, – это связь эстетических и моральных ценностей Возрождения с новым, дифференциальным представлением о движении, с представлением о бесконечно расширяющейся картине макромира и бесконечно детализирующейся картине микромира. Иначе говоря – связь культуры XIV–XVI веков и новой науки, появившейся в XVII веке и получившей свою законченную форму в XVIII и XIX веках. Такая связь была предметом многочисленных бесед с гуманистами Треченто, то есть XIV века, затем с деятелями, мыслителями и художниками XV и XVI веков, а также с очень далекими от них и по эпохе, и по кругу интересов математиками XVIII и XIX веков.
С первым и наиболее известным представителем гуманизма Треченто, с Франческо Петраркой, я встретился в Венеции в 1365 году. Разговаривать с ним было труднее, чем с позднейшими гуманистами: Петрарка не чувствовал близости гуманизма к изучению мира. Интерес к античному наследству казался ему необходимым поворотом от познания божества к познанию самого человека. Познание мира для Петрарки было еще очень тесно связано с познанием бога. Петрарка еще не чувствовал пафоса самопознания, состоящего в новом объяснении мира, в изъятии самого мира из-под власти божества. Именно такое изъятие в глазах следующего поколения было самопознанием и апофеозом индивидуальности. У Петрарки человеческое познание не отбирает мир у бога, оно отгораживается от мира, который остается областью истин откровения. Но это было первым шагом к гуманистическому, новому переосмыслению природы.
Разговор с Петраркой начался моим рассказом о встречах с мыслителями прошлого и будущего.
– Мне трудно понять вашу манеру высказывать мысли в форме вымышленных бесед. Ведь и я написал когда-то диалог с Фомой Аквинским [144]144
Лаура, имя героини лирических сонетов Петрарки, отождествляемой с исторической личностью Лауры де Нов (1308–1348).
[Закрыть]. Но между нами существенная разница. Платон сделал Сократа выразителем своих мыслей. Моя поэзия, как и поэзия моего учителя Данте, передала эту роль любимым – Беатриче у Данте, Лауре [144]144
Лаура, имя героини лирических сонетов Петрарки, отождествляемой с исторической личностью Лауры де Нов (1308–1348).
[Закрыть]– у меня; ведь все, что высказано в моей поэзии, это беседа моего сердца с сердцем Лауры. Вы высказываете свои мысли и чувства через историю, через плеяду мыслителей разных эпох. Видимо, ваша мысль требует стоустого выражения.
– Но и вы не ограничились сердцем Лауры, как неявным собеседником вашего сердца. Ваше сердце принадлежит мыслителям и поэтам древности. Как и у Данте: у него беседа завершается образом Беатриче, но до этого собеседником вашего великого компатриота остается Вергилий.
– Да, – ответил Петрарка. – Но беседа с Вергилием у Данте была преддверием апофеоза – встречи с Беатриче у ворот Рая, а у меня интерес к древности переходит во всепоглощающий интерес, общение с бессмертным сердцем Лауры.
– Оно стало бессмертным благодаря вашей поэзии.
– Скорее, наоборот. Бессмертие, о котором говорит церковь, – это растворение человека в боге. Я покорный сын церкви, но я уже сейчас ощущаю бессмертие своего бытия в минуты, когда думаю о Лауре.
Эта реплика заставила меня задумать о мышлении Возрождения. «Когда я думаю о Лауре». Мысль как основа бессмертия. Это очень далеко от Эпикура, который отгораживал индивидуальное существование от смерти, исходя из полного сенсуализма. Его «смерть не имеет к нам отношения» – это негативное, отрицательное бессмертие, основанное на всевластии ощущений: когда нет ощущений, того, что характерно для здесь-теперь, – нет ничего. Для стиля мышления Возрождения бессмертие – это активное и позитивное ощущение. Оно основано на заполнении личного существования внеличным содержанием.
Это заполнение, гораздо более явное в XIV веке, было содержанием культуры XV века – Кватроченто. Леонардо да Винчи высказал его и в своих беседах, и в дневниках, и в художественной практике. Я расскажу сейчас о беседе с Леонардо да Винчи в 1506 году во Флоренции. Беседа началась у законченного к тому времени портрета Моны Лизы. Нужно сказать, что картина тогда значительно отличалась от ее современного реставрированного вида. Яснее была техническая сторона, вернее, то, что казалось технической стороной, – фантастическая точность передачи деталей, результат характерной для Леонардо зоркости к многокрасочному внешнему миру. Портрет жены Франческо ди Джокондо мне показался самым отчетливым выражением духа только что закончившегося XV века – синтеза абстрактной мысли и сенсуальной яркости, вернее – воплощенной в конкретное, в образное абстрактной мысли и пронизанного мыслью конкретизированного видения мира. Этот портрет поражал страстным желанием художника передать с максимальной точностью действительные оттенки цвета, полутени, блеск глаз, нюансы… Это была живопись, стремившаяся, подобно науке, к истине. Но не только к детальной точности отображения. К мысли, которая берет каждую деталь как некоторое здесь-теперь, тянущееся в будущее и ведущее за собой в прошлое. Картина показалась мне предвосхищением новой науки, классической науки, которая рассматривает здесь-теперь как нечто движущееся, как приращение пройденного пути, отнесенное к приращению времени. Предвосхищением дифференциального взгляда на мир, динамической картины мира, предвосхищением науки, которая ищет бесконечное в конечном, мысль в образе, общее в локальном, рациональное в сенсуальном, будущее в настоящем.
Я сказал Леонардо о своих размышлениях. Он подхватил разговор, сначала рассказав о личном отношении к живописи и науке, а затем перешел к более глубокой и общей проблеме связи между живописью и новым представлением о мире.
– Меня часто упрекали, – говорил Леонардо, – что я не оканчиваю того, что начал, и таким образом обманываю ожидания заказчиков. Это результат увлечений, опытов, проб, поисков не только новых технических приемов, но и новых представлений о мире. Но здесь в этом портрете, когда я писал его, я имел возможность десятки раз проверять краски, свет, рисунок в каждой мельчайшей детали, и сейчас мне кажется, что я не только написал этот портрет, но и создал нечто большее. Я вдохнул в изображение Моны Лизы разум, мысль, то, что выходит за пределы существования смертного. Пигмалион сделал статую смертной женщиной, мне кажется, я сделал смертную женщину бессмертным изображением, не уменьшая ее живой человеческой прелести.
– И этот отблеск бессмертия состоит в движении, – продолжал Леонардо. – Живопись и философия трактуют одно и то же – движение, его скорость. Когда-нибудь философия объяснит все в мире движением вещества, переходом от одного момента к следующему. И уже сейчас живопись, подобно мысли, подобно науке, подобно философии, предвосхищает то, что будет, она пронизана движением.
Я вспомнил два определения живописи. Одно принадлежит Лессингу [145]145
Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781), немецкий драматург, философ, теоретик искусства, литературный критик, один из крупнейших деятелей немецкого Просвещения.
[Закрыть]и высказано в «Лаокооне»: «Живопись выбирает мгновение и делает его неподвижным и поэтому бессмертным». Другое определение не претендовало на общность. Оно относилось к живописи Леонардо, оно принадлежит Полю Валери [146]146
Валери Поль (1871–1945), французский поэт и мыслитель. Наряду с поэмами и стихотворениями Валери принадлежит эссе, посвященные живописи, литературе, танцу, историко-литературные и историко-философские произведения. Поэма «Мой Фауст», опубликованная в 1941 году, осталась незаконченной.
[Закрыть], и я слышал это определение из уст самого Валери. Он говорил, что живопись Леонардо напоминает концепцию Фарадея, концепцию поля, где все, что происходит в данной точке, – продолжение того, что произошло, и начало того, что произойдет в соседних точках.
От проблемы живописи и науки разговор перешел к совершенно иной, на первый взгляд очень далекой проблеме. Леонардо начал вспоминать свою молодость, 70-е годы XV века, пребывание здесь, во Флоренции, в кругу, близком Лоренцо Великолепному [147]147
Медичи Лоренцо (Великолепный) (1449–1492). Правитель Флоренции в 1469–1492 годах, поэт.
[Закрыть]. Он сопоставлял флорентийские впечатления с последующими впечатлениями Милана, где Леонардо застал диктатуру Лодовико Сфорца [148]148
Сфорца Лодовико (1452–1508).
[Закрыть], и с еще более поздними на службе Чезаре Борджиа [149]149
Борджиа Чезаре (1475–1507).
[Закрыть].
Несомненно, власть Медичи – Лоренцо Великолепного, которого Леонардо знал, и Козимо [150]150
Медичи Козимо (1389–1464), с 1434 года фактический правитель Флоренции, еще сохранявшей формально республиканский строй.
[Закрыть], о котором он немало слыхал, – была несколько идеализирована в воспоминаниях художника. Эта власть совпала с его молодостью, и в 1506 году Леонардо переносил на условия, в которых когда-то жил, былое ощущение юности. Тем не менее, из рассказов Леонардо становилось ясным действительное различие между властью Медичи во Флоренции, с одной стороны, и властью Сфорца в Милане и Борджиа [151]151
Борджиа Александр (1431–1503), римский папа, прославившийся развратом, жестокостью, и вероломством. Завоевательные войны его, направленные на подавление самостоятельных итальянских государств, граничивших с Папской областью, вел сын Александра, Чезаре Борджиа, не уступавший отцу в разврате и жестокости.
[Закрыть]в Риме – с другой. Понятной становилась и некоторая общая особенность флорентийского режима и связь его с научными и эстетическими идеалами Леонардо.
Леонардо говорил о 70-х годах как о редкой эпохе в истории Флоренции, когда во главе государства находился талантливый поэт и вместе с тем человек, всеми силами стремившийся поднять промышленность Тосканы, сделать изделия этой промышленности конкурентоспособными на внешних рынках.
Поэзия Лоренцо, как говорил Леонардо, была вакхической и карнавальной. Стихотворение «Триумф Вакха и Ариадны» с его великолепным припевом («Счастлив будь, кто счастья хочет. И на завтра не надейся») казалось ему в свое время пессимистичным. Окружавшие Леонардо представители флорентийской молодежи тогда не могли понять слов Лоренцо о мгновенной юности.
– Теперь я лучше понимаю смысл этих слов, – говорил Леонардо. – Поэзия Лоренцо Великолепного была триумфом мгновения. И вместе с тем она была триумфом личности. И если не триумфом личности, то некоторым ее освобождением была политика Лоренцо.
В своем стремлении поднять экономическую и политическую мощь страны Лоренцо ориентировался на интересы цехов и отдельных граждан, а не на максимальное подавление их воли, как это делали Сфорца в Милане и еще более – Борджиа в Риме.
Я излагаю то, что говорил Леонардо, переводя не только слова, но и понятия XVI века на современный язык. Пойду по этому пути еще дальше. Я много думал об оценках Флоренции во времена Лоренцо Великолепного, услышанных из уст Леонардо, и эти оценки ассоциировались с некоторыми современными понятиями.
Флоренция 70-х годов XV века была ареной очень быстрого научного, технического, экономического и культурного прогресса. Это было время, когда традиции были бессильны. Примитивная техника во флорентийских мануфактурах не давала возможности бороться за рынки, традиционные представления о мире не объясняли новых фактов, патриархальные общественные отношения и старые моральные нормы приводили к тяжелым трагедиям, традиционные эстетические ценности оставляли флорентийскую толпу равнодушной. Быстрота процесса означала, что критериями ценности во всех областях жизни становились уже не традиционные каноны, а изучение объективных процессов. Это была ранняя вспышка поисков новых критериев взамен традиционных. Их искали в науке. Подобные поиски создавали среду сочувствия и понимания вокруг молодого Леонардо, уходившего тогда от живописи в изобретение и конструирование всякого рода станков, основанное на теоретических схемах механики.
Изучение природы и конструирование текстильных станков, гидротехнических сооружений, фортификационных средств и артиллерии, не традиционных, а основанных на научных понятиях, не противоречили гуманизму, стремившемуся сделать центральным объектом познания самого человека, человеческую личность. Это было время первых, еще неясных зорь рационализма. Интерес к личности включал интерес к ее мышлению. Мыслящий человек наряду с чувствующим и в противовес верующему был объектом всеобщего внимания. Мыслящий о мире субъект содержательного мышления.
Личность человека освобождалась или стремилась освободиться от традиционных внешних принудительных норм. Если человек поступает соответственно своим мыслям, своему опыту, индивидуальному постижению мира, он уже не подчинен строго регламентированным традиционным нормам. Он не подчинен и внешней воле, не основанной на каких бы то ни было объективных критериях. Он перестает быть объектом жестокого, средневекового по своему духу регламента – общественного эквивалента абсолютно жесткой механической системы. Конечно, в действительности личность не становится свободной. Средневековый жесткий регламент сменяется игнорированием, царством статистических законов – общественным эквивалентом макроскопической физики.
Для Леонардо эта атмосфера рационалистических по своему духу динамических интересов и критериев во Флоренции Лоренцо Великолепного сменилась суровой, средневековой по сравнению с господством Медичи диктатурой Сфорца в Милане и потом Борджиа в Риме. Тираническая власть Борджиа казалась Леонардо особенно одиозной в сопоставлении с властью Медичи. Борджиа, как и Сфорца, не интересовались объективными законами бытия и теми возможностями обновления техники, хозяйства, культуры, которые вытекали и могли вытекать из поисков этих законов. Под светской властью папы Рим рассчитывал на подчинение других областей с помощью победоносных войн, интриг, отравлений, казней. В политике Борджиа и других итальянских тиранов XV–XVI веков только одна личность была свободной от законов божеских и человеческих, в том числе и традиционных. Это была личность самого тирана, все остальное было подчинено жесткой и жестокой, часто кровавой регламентации. Это было уничтожение традиционных норм, переходившее в уничтожение всяких норм, основанное в последнем счете на экстенсивном развитии хозяйства и общества без внутренней трансформации его технической базы, без апелляции к науке, к разуму, к мышлению.
Разумеется, Леонардо не говорил о таких глубоких и неявных основаниях различий между обстановкой во Флоренции в 70-е годы и позднейшими условиями его деятельности. Подобные историко-культурные соображения могли появиться у собеседника Леонардо, посетившего XVI век из будущего, что является прерогативой человека, передвигающегося на машине времени. Для него беседа возле портрета Моны Лизы обладала несомненным подтекстом, констатацией связи между живописью Леонардо, впечатлениями окружающей жизни и общественными и эстетическими идеалами художника и мыслителя. Общим для жизни Леонардо, для его отношения к науке, технике, культуре, для его живописи, для его представления о мире было то, что можно назвать динамизмом, убеждение в ценности движения и изменения, перенос внимания на то, что математики и физики назвали впоследствии производной по времени.
Атмосфера непрерывного преобразования культуры во Флоренции во времена его юности стала эталоном, с которым Леонардо сравнивал последующие этапы своей жизни. Живопись охватывает не застывшее мгновение, а мир в движении, бесконечно малые элементы мира как переменные и поэтому реальные объекты. Наука воспринимает мир как совокупность процессов, как движение того, что традиция считала неподвижным. Таковы были исходные идеи Леонардо.
Размышления о связи динамического искусства Возрождения и динамического представления о мире и о его познании привели к решению посетить XVII век.
Возрождение в целом представлялось мне подготовкой идей Бэкона, Галилея, Декарта и Ньютона. Для эпох, когда меняются фундаментальные представления (в том числе для нашего ХХ столетия), необходимы такие поездки в прошлое и ретроспективные оценки. В данном случае меня интересовала драматургия Шекспира [152]152
Шекспир Вильям (1564–1616).
[Закрыть]как реализация того, что обещало искусство Возрождения, и философия Бэкона [153]153
Бэкон Френсис (1561–1626), английский философ, один из первых борцов за экспериментальное изучение природы. Его сочинения, особенно «Новый Органон», оказали огромное влияние на развитие науки и философии XVII века. В XIX веке появилась необоснованная и быстро дискредитированная попытка приписать Бэкону авторство сочинений Шекспира (так называемая «шекспиро-бэконовская проблема»).
[Закрыть]как реализация перспективы итальянской натурфилософии XV–XVI веков. Таким образом, появилась своеобразная «шекспиро-бэконовская проблема». Ее можно было разрешить в беседе с одним из двух корифеев английской культуры XVI–XVII веков. Я выбрал Бэкона и посетил его в Грейсинне в 1625 году.
Я рассказал Бэкону о «шекспиро-бэконовской проблеме» в той несколько анекдотической форме, какую она приняла с самого начала в середине XIХ века, и даже рассказал об его отдаленном потомке Дэлии Бэкон, которая сидела в Стратфорде у могилы Шекспира, надеясь получить из загробного мира доказательства того, что ее предок был автором шекспировских драм. Я рассказал и о «шекспиро-бэконовском шифре». Все это я изложил в виде предположения о будущей полемике. Рассказ показался Бэкону забавным. Он долго смеялся. Затем взял с полки вышедший на два года ранее, в 1623 году, фолиант, изданный Юлингом и Конделем. Перелистывая Шекспира, Бэкон говорил о действительной связи идей «Нового Органона» и образов «Гамлета», «Отелло» и других шекспировских драм.
По мнению Бэкона, творчество Шекспира в целом – это апофеоз мысли, даже там, где человек поглощен чувством. Даже в драме «Отелло». Объятый ревностью, порывистый Отелло не так уж далек от размышляющего Гамлета, укоряющего себя за то, что мысль тормозит действие. Доверие Отелло к наветам Яго – это доверие к силлогизму. А в финале колебаний Гамлета – такой взрыв действия, который почти не оставляет в живых свидетелей драмы. Поэтому и сонеты Шекспира с их усложненными силлогизмами не являются чужеродным элементом его творчества. А потрясающая диалектика речи Ричарда Глостера [154]154
Ричард III (1452–1485). Рядом убийств проложил себе дорогу к английскому престолу (1483) и остался в истории олицетворением жестокости и вероломства.
[Закрыть], обращенная к королеве Анне [155]155
Анна (1456–1485), королева, жена Ричарда III
[Закрыть], у тела убитого короля?! Мысль и логика обладают в драмах Шекспира такой мощью, потому что они исходят из действия и ведут к действию. Но ведь и новая наука, которой Бэкон посвятил свою жизнь (он повторял эту ретроспективную оценку своей жизни с большой энергией: значение «Органона» компенсировало жизненные неудачи его автора), – это неразрывность мысли и действия: мысль без эксперимента не приводит к достоверным результатам, как и действие без мысли. Душа современной науки, говорил Бэкон, эксперимент, мысль, проверенная действием, действие, вытекающее из мысли. Бэкон говорил также о значении отдельного события, отдельного эпизода в драмах Шекспира, в частности в хрониках. Шекспир описывает моменты, когда в результате одной реплики, в течение одной сцены, не говоря уже об одной битве, весь исторический процесс меняет свое направление. Именно в таком результате – воздействии прошлого на локальное событие и в воздействии этого события на будущее – состоит историческое значение реплики, решения, сцены, битвы.
Бэкон не проводил параллелей с наукой, но мне, человеку иной эпохи, знающему идеи Бэкона в их классической реализации, становилось ясным, что мысль о мгновении, когда отношение приращения пространства к приращению времени определяет ход событий, мысль, высказанная в конце XVII столетия Ньютоном и Лейбницем, имеет свою предысторию в начале века в творчестве Бэкона и свой поэтический эквивалент в творениях Шекспира.
Для основного вопроса, который меня занимал, – связи характерной для Возрождения тенденции освобождения и автономии здесь-теперь с подготовкой новой науки, с подготовкой дифференциального представления о движении – мне показались существенными и другие замечания Бэкона о Шекспире. Именно в таком освобождении состояла основная задача карнавальной культуры с ее сенсуализмом, с ее защитой локального здесь-теперь от поглощения в универсалиях. Этой задаче служило и карнавальное снижение сюжетов народных представлений, и карнавальные стихи Лоренцо Великолепного. И в этом же потоке, размывавшем и разрушавшем средневековые статистические устои, родился весьма карнавальный образ Фальстафа. Бэкон сочувствовал Фальстафу – антипуританскому и вполне раблезианскому чревоугоднику, который потом деградировал в «Виндзорских кумушках» и возродился в «Двенадцатой ночи» в виде сэра Тоби. В этом сочувствии, как мне показалось, таилось интуитивное ощущение близости карнавальной культуры к новой динамической картине мира, освобожденной от статических абсолютов и божественного провидения.
Но фальстафиана – только первый этап поэтического эквивалента нового представления о мире и о человеке. Творчество Шекспира соответствует всем сторонам культуры XV–XVI веков, является их дальнейшим развитием и продолжением. Когда Бэкон говорил о Шекспире, мое сознание все время возвращалось к впечатлениям Возрождения и к героям древности – любимым героям гуманистической среды, с которой я недавно соприкасался. Сам Бэкон сравнивал героев Шекспира с героями древности. В отличие от гуманистов предыдущего века и представителей классицизма следующего века Бэкон видел в древности детство цивилизации, а в Возрождении и новом времени – ее зрелость. Соответственно образы Шекспира казались ему несравненно более мощными и сложными, чем образы «Илиады» и «Одиссеи». В этой связи было сказано, что любовь Ромео, ревность Отелло, мысль Гамлета – это нечто более значительное, чем античные образцы, чем чувства античных героев. Я сейчас, как отчасти и раньше, буду излагать не столько слова Бэкона, сколько ассоциации, пробужденные словами мыслителя XVII века в сознании, полном представлениями и понятиями ХХ века. Бэкон говорил о превышающем античные образцы уровне мыслей и чувств героев Шекспира. При этом он выделял Гамлета. Бэкон сравнивал его, как и других героев Шекспира, с героями греческого эпоса и затем с историческими личностями – героями Плутарха. И те, и другие – боги, полубоги и равные полубогам – подчинены фатуму. Ими управляет равная себе статическая необходимость, статическая гармония. Античные герои подобны телам физики и космологии Аристотеля: они стремятся к своим естественным местам, и смысл того, что происходит в мире, сводится к восстановлению нарушенного космического равновесия, к возвращению тел на их естественные места после того, как насильственные движения удалили их оттуда.
Эта аналогия поведения героев с физикой Аристотеля принадлежала Бэкону. Но в дальнейшем подобные аналогии возникали в моем сознании сами собой, и, когда я их высказывал, Бэкон выслушивал меня сочувственно, ведь он был глубоко убежден, что все происходящее в мире объясняется физическими причинами, и морально-физические аналогии казались ему вполне естественными.
Герои Возрождения и мыслители, говорившие от имени этой эпохи, в какой-то мере освободились от власти фатума. Они сами, исходя из своих мыслей, интересов, идеалов, убеждений и привязанностей, определяют, какое поведение, какие поступки соответствуют мировой гармонии и какие не соответствуют ей. Данте свободно распределяет людей и их действия по кругам Рая, Чистилища и Ада, и убеждения гибеллина, склонности гуманиста и чувства, внушенные Беатриче, становятся критерием моральных ценностей. Но как это еще далеко до Гамлета! Датский принц не ограничивается судом над людьми и их поступками. Его не устраивает сама гармония мироздания. «Весь мир – тюрьма, и Дания – одна из худших камер». Его не устраивает и мировой процесс. Он кажется лишенным смысла нагромождением событий: «Распалась связь времен!» И Гамлет берет на свои плечи задачу восстановления разорванной связи времен и распавшейся вселенской гармонии. Но тут появляется совершенно новая идея. Гамлет отнюдь не считает свою систему координат привилегированной, единственно реальной, единственно истинной. Она равнозначна другим системам. Отсюда динамизм моральных канонов, трансформация оценок, потеря их традиционной каноничности и однозначности, разрыв традиционной связи мысли и действия. Само действие меняет мысль, меняет представление о мире, релятивирует его. Это происходит в эпоху, когда рушится аристотелевская статическая картина бытия, когда ее сменяет идея динамической гармонии, когда абсолютное пространство Аристотелевой физики сменяется относительным пространством классической механики.
Эти мысли о связях между морально-философскими идеалами и представлениями о мире были импульсом, направившим меня с моей машиной времени к XVIII–XIX векам, к классической науке, придавшей динамической картине мира однозначную и строгую форму и этим в значительной мере изменившей стиль мышления людей о природе и о себе.
XVIII век был временем очень мощной миграции естественнонаучных, по преимуществу механических понятий в общественную мысль, в философию, в мораль. Именно тогда начали говорить о силе, импульсе, равновесии в политической экономии, в исторических исследованиях, в теории права, в учении о морали. Именно в это время подобные понятия, так же как общая презумпция подвижности и изменчивости мира, непрерывности его движения, вышли за рамки учения о природе. Но предпосылкой такого широкого и стремительного тока от естествознания в философию и в общественную мысль была формулировка основных естественнонаучных принципов, основных представлений о природе в наиболее строгой и общей форме. В математической форме. Когда динамическая картина мира получила опору в математическом естествознании, в анализе бесконечно малых, это было основой перехода понятий скорости и ускорений в более общие понятия, допускающие непосредственное применение вне механики, а также опосредствованного неявного перехода этих понятий в качественные определения бытия, в концепцию связи прошлого, настоящего и будущего, связи бесконечного и конечного, общего и частного, здесь-теперь и вне-здесь-теперь. Этот ток от естествознания и математики встречался с обратным током – к математике и естествознанию от общественно-философской мысли.
В модифицированной, качественной форме анализ бесконечно малых оказал большое влияние на те области культуры и формы общественного сознания, где математические понятия в собственном, количественном смысле были неприемлемы.
Путешествия на машине времени и беседы с математиками XVIII века давали сравнительно мало для констатации связи между исчислением бесконечно малых и характером мышления, выходящего за пределы астрономии, механики и физики. Такой выход часто бывал безотчетным, часто происходил он не у математиков, последние, как правило, не думали об общенаучном, философском и общекультурном эффекте своих исследований. Но были исключения. Лагранж [156]156
Лагранж Луи (1736–1813).
[Закрыть], придавший механике наиболее абстрактный характер, даже исключивший из своих главных трудов чертежи, задумывался над воздействием абстрактных математических конструкций на мышление и общественные идеи.
Встреча и беседа с Лагранжем произошла во время моего ближайшего, после процесса де ля Мотт, Роана и других, приезда в Париж. За прошедшие по счету XVIII века три года процесс и его финал были забыты. Наступила весна 1789 года. Бастилия еще не была взята, но приближение революции казалось очевидным. Я ходил по знакомым улицам, разговаривал с самыми различными людьми и был, как всегда, поражен удивительным слиянием эмоционального революционного подъема и очень трезвых, отчетливых, логических выводов.
Накануне революции манера разговора, выбор аргументов, переходы от сложных конструкций, включавших соображения об английской торговле, финансовой политике правительства и о множестве других фактов, к выражению гнева, ярости и – по другому адресу – преданности, готовности к жертвам – весь этот пестрый и сложный, очень эмоциональный и очень рационалистический разговор на площадях и улицах, на стихийных собраниях, в кафе, в мастерских делал очень рельефными и непосредственно ощутимыми логические и психологические корни революционных настроений.
Я пришел к Лагранжу в качестве графа Калиостро. Он очень добродушно, но несколько юмористически отнесся к моей репутации мага и современника прошлых поколений и с интересом слушал изложение моих физических и математических познаний и воззрений, которые комментировал с таким блеском, что мне иногда казалось, будто я узнаю от него новые и интересные вещи относительно математических идей ХХ века. Здесь тоже был барьер. История науки, как и общая история, необратима. Лагранж бросал очень глубокие замечания, когда я говорил о математике ХХ века, но это не отвлекало его от основных направлений собственной мысли.
Основным направлением было создание аналитической механики. Лагранж понимал ее общее, выходившее за рамки естествознания философское и культурное значение. Он говорил об изменении стиля научного мышления. По мнению Лагранжа, отказ от наглядного представления о пространстве, манипулирование абстрактными пространствами делает новые математические понятия более общими, способными реконструировать не только математику, но и физику и, что может быть еще важнее, вызвать поворот культуры, языка, мышления к более точным понятиям.
В разговоре со мной Лагранж затронул один на первый взгляд очень далекий от математики вопрос. Речь зашла о Руссо. Смысл того, что говорил о нем Лагранж, можно передать следующим образом. Руссо, поставив чувство – прежде всего сострадание – впереди разума, был тем не менее близок к рационализму, науке, математике. Последняя показала, как можно выйти из здесь-теперь во вне-здесь-теперь. Сострадание и вообще чувство – это выход из изолированного я в ты, в они – это экстериоризация личности. Руссо не увидел связи своей идеи с основной идеей рационализма и классической науки XVIII века. Поэтому он выступил против них, против прогресса, против цивилизации. Дальнейший прогресс сделал эту связь явной. Но соратники Лагранжа – энциклопедисты понимали ее уже в середине XVIII века.
Внутренняя ценность анализа – продление локального чувственного впечатления в прошлое и будущее. Эта идея получила более отчетливое выражение в учении Коши [157]157
Коши Огюстен Луи (1789–1857), французский математик.
[Закрыть]о бесконечно малой. Коши родился как раз в том году, когда мы беседовали с Лагранжем. Я имел возможность поговорить с ним много позже, через 40 лет, когда он по приглашению Карла X [158]158
Карл Х (1757–1836), король Франции (1824–1830).
[Закрыть]начал преподавать математику юному принцу – герцогу Бордоскому, или, иначе, графу Шамбору [159]159
Шамбор, граф, герцог Бордоский (1820–1883).
[Закрыть].
То, что я услышал от Коши о смысле дифференциального исчисления и о реальности производной по времени, не отличалось в своей основе от того, что уже более ста лет повторяется в учебниках. Бесконечно малая – это не нуль, обладающий некоторым направлением, как думал Эйлер [160]160
Эйлер Леонард (1707–1783), один из величайших математиков XVIII века.
[Закрыть], и не песчинка, которой мы можем пренебречь, когда речь идет о горах, как думал Лейбниц. Бесконечно малая – это переменная величина, которая бесконечно стремится к нулю, но не достигает его. Можно, однако, определить, какого конечного значения достигло бы отношение бесконечно малых, если бы они реализовали свое приближение к нулю, достигли бы нулевых значений. Такое предельное отношение стягивающегося в нуль приращения пройденного пути и стягивающегося в нуль приращения времени – это производная по времени – скорость движения частицы.
Но в разговоре с Коши мы коснулись некоторых вопросов, которые в меньшей мере стали содержанием учебников. Прежде всего вопрос о реальности производной. Ведь это предельное отношение, скорость в точке. Но разве может быть реальным движение в точке? Реальный ли это образ – предельное отношение бесконечно малых величин, которые в действительности не могут достичь своих пределов, не могут стать нулями? На этот вопрос Коши ответил, в сущности, чисто философским замечанием.