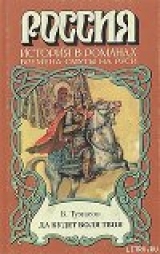
Текст книги "Да будет воля твоя"
Автор книги: Борис Тумасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
– Отчего, панове, наш царик не вызволит свою жену? Ее царь Василий в Ярославле держит.
– Она ему жена, как мой кобель муж суке пана Адама Вишневецкого, – под глумливый хохот вставил Ружинский.
Ян Хмелевский нахмурился, а Лисовский возмутился:
– Панове, негоже насмехаться над тем, кому служим, из чьих рук едим. Вы к царю Димитрию пристали по воле. Если нет ему веры, покиньте его.
Хмелевский одобрительно кивнул. Ружинский промолчал: не время ссориться с бешеным шляхтичем, осужденным крулем на изгнание из Речи Посполитой за рокош Зебржидовского…
Разбрелись паны, затих дворец. Атаман Заруцкий расставил караулы из казаков, остался во дворце: мало ли чего взбредет в голову хмельным шляхтичам.
Нигде не имел Иван Мартынович Заруцкий пристанища: ни в Речи Посполитой, ни в Москве. Искал удачи с Болотниковым, да сбежал. Теперь у атамана решение твердое: царя Димитрия не покинет, авось с ним в Москву вступит.
Детство свое Заруцкий помнит смутно, и лицо матери видится как в тумане. Домик у Вислы-реки, ранняя смерть родителей, безрадостная жизнь у дядьки в Тарнополе. Старый пан Заруцкий не слишком жаловал племянника, а в один из набегов орды угнали Ивана в плен. Бежал, попал на Дон, к казакам. Походы за Перекоп, дикие степи, богатая добыча. Карманы, отягощенные злотыми, разгульное веселье в шинках…
Паны вельможные часто упоминают имя Марины Мнишек. Много всякого говорят о ней, жене Димитрия. Его именуют в Москве самозванцем. Но отчего бегут к нему бояре и дворяне? А паны к его войску пристали, как голодные псы – к миске с похлебкой.
Заруцкий не знал Марину Мнишек, но однажды она явилась ему во сне. Она была красивая и манила его…
В ту ночь увидел сон и Матвей Веревкин. Будто стоит перед ним Ружинский с мордой волчьей, клыкастой и направляет на него самопал. Тут стрельцы набежали, уволокли гетмана, а стрелецкий десятник принялся попрекать Матвея:
«Кой ты царь, самозванец непрошеный!»
В страхе пробудился Веревкин – на лбу испарина, а сердце стучит – того и гляди из груди вырвется. Открыл Матвей глаза – в палате темень. Пробурчал:
– К чему свечи погасли? Причудится же этакая мерзость…
И тут же подумал: «Надо услать гетмана воевать северные городки».
В сопровождении Заруцкого и двух десятков казаков-донцов Лжедимитрий, насколько позволяла безопасность, приблизился к Москве. Въехав на холм, с высоты седла попытался разглядеть город. Однако сколько ни вглядывался, мало чего увидел, разве что Кремль и маковки церквей.
Однажды Веревкин побывал в Москве. Его нанимал литовский купец охранять обоз с товарами. Остерегаясь лихих людей, добирались долго. В Москве жил больше месяца, пока купец торговые дела вел…
Лжедимитрий придержал коня. Вспомнил, какой осталась Москва в памяти: вся в садах и рощах, с церквами и торгами, Кремлем каменным и дворцами…
Матвей Веревкин повел взглядом по стенам Земляного города, по селам, жавшимся к Москве. Там, за Земляным городом, Белый город{14}, и называется он так оттого, что обнесен стенами из белого камня. Красным кирпичом Кремль и Китай-город{15} защищены.
Дворцовые покои и Кремль, власть царская манят Матвея. В Речи Посполитой слышал, как сравнивали Москву с Иерусалимом, Царьградом и Римом…
Стоит красуется Москва. Там, за ее стенами, хоромы княжьи и боярские, все больше рубленые, двухъярусные, а на Красной торговой площади – лавки и ряды, чуть отойдешь в сторону – слободы ремесленные, стрелецкие, дома и избы разного люда, кабаки, где ели и пили разгульно, играли в зернь, где сходились всякие гулеваны…
Лжедимитрий повернулся к Заруцкому:
– Служи, атаман, мне, государю, верой-правдой, а за то я тебя своей царской милостью пожалую, как на престол родительский сяду.
Со стены грохнула пушка, и белое пороховое облачко поплыло над посадом. Лжедимитрий тронул коня.
Обратную дорогу молчал, прикидывал свои и Шуйского возможности. По всему получалось, царь Василий продержится долго, если не перекрыть подвоз хлеба в город.
Вдоль древних стен Кремля, под горой, огибая царские сады и Тайницкие ворота, течет Москва-река. С севера от боровских лесов впадает в нее Неглинная, с востока – Яуза, с запада – Пресня.
По берегам, к самой воде, лепятся деревянные срубы банек. Вечерами и по субботним дням они курятся сизыми дымками. Вдосталь напарившись и нахлеставшись докрасна березовыми веничками, мужики и бабы в чем мать родила остужаются тут же, в реках и запрудах.
Обильна Москва-река водами и рыбой разной. А на той стороне реки, от Крымского брода – широкая луговая низина Замоскворечья с избами и огородами, с заезжими дворами и сенокосами, кабаками и кружалом на Балчуге, рощами и садами.
Замоскворецкие мужики всяким ремеслом промышляют, а кое-кто рыбу ловит, плетет ивовые верши, ставит их на мелях…
У самого брода, в покосившейся, вросшей в землю избенке жил захудалый, ледащий мужик Игнашка с гулящей женкой Матреной. К исходу дня, в аккурат на праздник Ильи, заглянул в избу Яков Розан, пригнулся под низкой притолокой, переступил порог, сел на лавку, поморщился:
– Хоть дверь отворяйте: от зловония дух перехватывает.
Матрена огрызнулась:
– Знамо, у тебя кровь дворянская, ан ко мне, смердящей, случалось, ночевать хаживал. Ноне зачем явился?
– Не твоего ума дело. – Розан метнул ей деньгу. – Сходи в кабак.
Продолжая ворчать, Матрена вышла. Розан подпорол подкладку кафтана, извлек листы:
– Здесь, Игнашка, письма царские, чуешь?
– Подметные! – ахнул мужик.
– Дурак, и голова твоя пустая. Царь Димитрий к стрельцам обращается, к себе на службу зовет, чтоб Ваську Шуйского не защищали. – Поднял палец. – Подкинешь стрельцам – вознагражу.
– А велика ли мзда? – Длинный нос Игнашки вытянулся еще больше.
– В обиде не останешься.
– Боязно!
– Не трясись, все одно сдохнешь – не от руки ката, так от зелья. Эвон рыло красное, ровно кафтан стрелецкий. Держи письма да Матрене не обмолвись.
Сам Розан страшился, как и Игнашка, однако виду не подавал. Когда, таясь, впервые с письмом к Ляпунову крался, меньше караулов было, а нынче насилу проскочил. Помогли углежоги: везли на Пушкарный двор мешки с углем.
– Лодку-то еще не пропил?
– Покуда цела, – хихикнул Игнашка, обнажив гнилые зубы.
– Седни в полночь рекой меня из города вывезешь.
Мужик закрестился мелко:
– Ну как на дозорных наскочим?
– По всему видать, ночь темная будет. Дай-кось посплю покуда. – И Розан полез на полати. – Разбудишь.
Через Фроловские ворота{16} Прокопий Ляпунов вошел в Кремль. Миновав Оружейный двор, между подворьем крутицкого митрополита и двором князя Федора Ивановича Мстиславского столкнулся с Голицыным. Отвесил поклон:
– Здрав будь, князь Василий Васильевич.
– Здрав и ты, Прокопий сын Петров. – Откинув голову, вперился в Ляпунова. – Уж не к государю ли зван? – спросил с хитрой усмешкой.
Голицын сухопар, неказист, с редкой сединой в бороде, а ведь за сорок перевалило. Здоровьем крепок князь и коварством не обделен. Первого самозванца они с Шуйским да Романовым выпестовали, к нему после смерти Бориса Годунова перекинулись, а потом с Шуйским же и заговор против Лжедимитрия учинили…
– Мы, Ляпуновы, после Пронска не в чести у государя.
Голицын хмыкнул:
– Коли Василий в делах воинских превзошел, отчего воров тушинских к Москве допустил? Брата Дмитрия попрекнул бы. Кто под Болховом войско бросил? То-то! Такой ли нам государь надобен? Смекай, Прокопий сын Петров.
Распрощались. Ляпунов оглянулся вслед Голицыну. Прокопий и без князя Василия знает: плох Шуйский на царстве, никудышный государь. Промашку дали бояре, а ныне плачутся. Уста Шуйского ложь изрыгали, клятвопреступник он.
Неустройство на Руси, самозванцы и царевичи всякие, яко грибы поганки, отовсюду повылезли. Второй самозванец сызнова Димитрием назвался, в ворота Москвы стучится, бояр и дворян на измену Шуйскому подбивает. Прокопий не сомневается: переметы потянутся в Тушино на поклон, хотя и ведают, что самозванец. Рабство отродясь и в боярине, и в холопе заложено. Перед сильным на коленях ползают, гордого аль строптивого согнут либо изничтожат, как Ивашку Болотникова и его сподвижников…
На паперти Благовещенского собора канючили, гнусавили нищие и калеки. В смутную пору от них спасенья нет. Покуда в храм меж ними пройдешь, полы оторвут. Дома и то воротный едва успевает вышибать их.
Ступил Ляпунов на паперть, а его уже окружили убогие, стучат мисками и клюками, руки тянут, голосят. Старуха за ногу ухватила:
– Батюшка родимый, не допусти помереть!
Ляпунов поддел ее сапогом, горбатого нищего ткнул кулаком в зубы и, кинув на паперть монету, рассмеялся, глядя, как убогие сцепились в клубок.
А в соборе полумрак и тишина, золотые оклады и лики святых с большими строгими очами, горят свечи, пахнет топленым воском и ладаном.
В душу Ляпунова влилось трепетное благоговение. Поставив свечу, он перекрестился:
– Вразуми, Господи!
День за днем однообразно и утомительно набегают друг на друга, сливаясь в недели и месяцы. По-прежнему строго доглядывают за Мариной Мнишек. Даже когда отъехал отец, сандомирский воевода, с панами, которых держали в Ярославле, не сняли стрелецкий караул у домика, где прошлой весной поселили Марину с ее верной гофмейстериной пани Аделиной.
По воскресным дням с торга доносится людской гомон, рев скота, колесный скрип. А на Руси смута не стихает. От своего коханого, стрелецкого десятника, пани Аделина приносит новости. От него стало известно о появлении царя Димитрия и что он Москву осадил. «Кто он?» – задает Марина вопрос. Она не видела мужа убитым, и для нее загадка: самозванец объявился либо это ее Димитрий. Для себя Мнишек решила твердо: даже если он самозванец, но сядет на престол, она признает в нем мужа. Ей нет возврата в Речь Посполитую. И не потому, что ее не впустят, – она не намерена выслушивать насмешки и злословие спесивой шляхты.
Даже в неволе Марину не покидала холодная расчетливость, которую она унаследовала от далеких армянских предков, переселившихся на польские земли не один век назад из многострадального Айрастана – Армении. Гордость досталась ей от матери-польки.
Знала ли Марина, что человек князя Адама Вишневецкого не царевич Димитрий, а самозванец? Догадывалась. И взял он не красотой, не осанкой – к тому же припадал на одну ногу, – а умом светлым и острым: знал историю, языки разные. Марина не любила царевича, но согласилась стать его женой, когда тот сядет на московский престол.
Став царицей, она получала от Димитрия богатые дары, а сколько приносили ей бояре уже с того часа, как ее карета пересекла рубеж российский! А потом в день переворота те же бояре, что прежде заглядывали ей в глаза, ворвавшись во дворец и расправившись с Димитрием, отняли у нее все. И как приехала Мнишек в Россию нищей, так и в Ярославль привезли ее лишенной всего.
Сделавшись царем, Шуйский потребовал, чтобы Марина не смела именоваться царицей. С тем присылал к ней в Ярославль князя Волконского. Ее заставляли дать в том клятву, но никто даже силой не отнял у нее право называться московской царицей. Разве забыли Шуйские и бояре, как она венчалась на царство? Не Шуйский ли тогда речь держал, говорил: «Взойди на свой престол и царствуй над нами вместе с государем Димитрием Ивановичем»?
А теперь отречься от этого? Нет, она, Мнишек, готова вынести все лишения, пройти любые испытания, дабы именоваться великой государыней, как назвал ее тогда Василий Шуйский…
За Москвой повернули на Троицкую дорогу, пошли почти не таясь. Леса, перелески, поля, редкие деревеньки… Удивлялись ватажники: здесь не так, как на юге, – разору меньше.
Днем дорога малоезженая, разве что к полудню протянется обоз на Москву с хлебом, рыбой да иным припасом. Тяжело груженные телеги охраняются стрелецкими караулами. Пройдет обоз – и тишина. А ведь в прежние лета, когда государь Иван Васильевич Грозный со своими опричниками перебрался из Москвы в Александровскую слободу, по дороге то и дело сновали царские гонцы, наводя страх на люд, носились опричники, брели толпы богомольцев.
При появлении обоза ватажники укрывались в лесу, пережидали. Потом снова выходили на дорогу, шли дальше. Усталость валила с ног, морил голод. Ватажники больше помалкивали, и даже Берсень перестал рассказывать о хлебосольстве поволжских народов.
Артамошка хотел было зайти в Москву, да раздумал: никто его там не ждал.
Акинфиев подождал Берсеня:
– Худо, Федор, надо приют искать, передохнуть.
Послышался топот копыт, и из-за поворота на рысях выехало с десяток казаков. Ватажники даже в лес не успели спрятаться. Казачий десятник – борода лопатой, голос хриплый – крикнул:
– Кому служите, удальцы: Шуйскому либо царю Димитрию?
– А мы сами по себе, – сказал Акинфиев.
Казаки рассмеялись, а десятник нахмурился:
– Вишь, скорый! А не боишься, что в сабли возьмем?
– Так у нас, сам видишь, вилы и топоры есть.
– Вижу, мотаетесь вы, как дерьмо в проруби. Не пора ли к берегу прибиваться? Коли намерены бояр защищать, шагайте к Шуйскому, волю и землю добывать – царю Димитрию кланяйтесь. Он нынче в Тушине, меж Смоленской и Тверской дорогами. Мы же здесь в ертауле{17}.
И казаки ускакали, оставив ватажников в раздумье. Наконец Артамошка нарушил молчание:
– Что порешим, други?
– Десятник истину сказывал: доколь бродить, надобно к царю Димитрию подаваться.
– Ты уж прости, атаман, коли чего не так: пойдем землю и волю добывать.
– Что же, други-товарищи, обиды на вас не держу, видать, разошлись наши пути-дороги.
– Я с тобой, атаман, – подал голос Берсень.
Поклонились ватажники Артамошке и Федору, поворотили на Смоленскую дорогу.
О селе Клементьеве Акинфиев с Берсенем услышали еще дорогой от встречных монахов. А уже под самым селом догнал их местный мужик. Под тряску телеги рассказал:
– У нас три сотни дворов, две церкви да с десяток лавок торговых. А по воскресным и престольным дням – ярмарки отменные. Со всех окрестных сел люд съезжается, бывают из Александровской слободы, из Дмитрова, до смуты наведывались из Москвы и Твери гости торговые. А ноне казаки и шляхта дороги перекрыли.
И еще узнали Артамошка с Федором, что со времен Ивана Грозного не платят клементьевцы подати в царскую казну и не отбывают государевы повинности, только держат в порядке стены и башни Троице-Сергиевой лавры, соборы и кельи да предоставляют телеги царским гонцам.
Через Клементьево шла главная дорога от Москвы до Студеного моря. До смуты это был бойкий путь. Ехали им люди всякого звания, с утра и допоздна шли по нему обозы на Москву, плелись богомольцы и нищие.
Клементьево открылось Артамошке и Федору сразу за лесом. Стены двухсаженные, каменные, неподалеку от села – грозные башни Троице-Сергиевой лавры, над ней вознеслись к небу позлащенные купола и кресты Троицкого собора и Духовской церкви. За монастырскими стенами – трапезная и поварня, больница и келарская палата. Между лаврой и Клементьевом – чистое, не поросшее камышом и кугой озеро.
Село и в самом деле оказалось большим. Церкви дощатые, избы добротные, рубленые, тесом крытые, будто и не коснулся Клементьева разор, охвативший Русскую землю.
От самого села и вдаль, насколько хватал глаз, щетинилось свежее жнивье, на гумнах перекликался люд, весело выстукивали цепа на току: крестьяне обмолачивали рожь. Давно забытым теплом пахнуло на Артамошку.
– Тут, Федор, и передохнем: авось приютят нас и работу дадут.
Мужик высадил их на окраине села, у крытой дерном кузницы. Прокопченные двери закрыты на засов, вход зарос травой.
– Нонешней весной кузнец наш помер, – сказал мужик с сожалением, – а селу без кузнеца ну никак нельзя. А может, кто из вас кузнечное ремесло разумеет?
– Маленько доводилось, – признался Акинфиев, – только, верно, разучился.
– Мил человек, раздувай горн, принимайся за дело и вспомнишь. Мы тебя миром попросим. Оставайся: вон изба, отворяй, живи…
В тот 1608 год князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому исполнилось тридцать лет. При Борисе Годунове он числился стряпчим с платьем{18}, а в царствование Лжедимитрия был жалован в стольники{19}.
Выше среднего роста, плечистый, с ясными голубыми глазами и русой бородой, Пожарский был ума завидного, отличался прямотой суждений и независимостью. Когда из Тушина к нему тайно пробрался перемет с письмом от самозванца, в котором тот звал его к себе на службу, напомнив, как князь был жалован царем Димитрием, Пожарский, отшвырнув грамоту, заявил резко:
– Я царю Димитрию служил, не отрицаю, но вору, какой навел на Русь иноземцев и попирает наше, российское, святое, не слуга…
Накануне повстречались Дмитрий Михайлович Пожарский и Михайло Васильевич Скопин-Шуйский. Оба отстояли вечерню в Успенском соборе, долго ходили по Кремлю, разговаривали откровенно – доверяли друг другу, знали: с доносом не побегут. И князя Дмитрия, и князя Михайлу заботила судьба Москвы и всей Русской земли.
– Многие беды от неразумения воевод наших, – говорил Скопин. – Можно ли доверять воинство дядьям моим Дмитрию Ивановичу и Ивану Ивановичу? В кои разы они ратников губят и государь им прощает.
– Зато Куракина не честит, хотя он того заслужил, да и ты, князь Михайло Васильевич, за рвение свое похвалы достоин, однако о тебе вспоминают разве что в час трудный. Слух есть, тебя в Новгород слать намерен государь?
Скопин не ответил, иное сказал:
– Сдается, и до тебя черед доходит: на воеводство пошлет государь. Сам зришь, Лжедимитрий замыслил люд московский голодом сморить.
Пожарский кивнул, а Скопин-Шуйский продолжил:
– У Каширы Ян Хмелевский топчется – не иначе на Коломну нацелился, а в Тушине трубачи Сапеги сбор неспроста играют. Чует моя душа, Иван Иванович Шуйский на Ярославской дороге до первого тычка стоит. Кабы мне его рать, не выжидал бы я, а сам встречи искал. Помнишь, князь Дмитрий, как мальцами вареными яйцами стукались? Кто первый ударял, того и яйцо в целости.
– Да острым концом норовили, – рассмеялся Пожарский.
Князья распрощались, когда ночь распростерла над Москвой крылья, вызвездило небо. Из Кремля вышли на Торговую площадь. Купцы давно уже закрыли лавки, ремесленники покинули мастерские, вот-вот караульные улицы рогатками перекроют. Князей дожидались легкие возочки, и хоть каждому до дома рукой подать, пешком идти небезопасно. Ночью улицы пустынны, воры пошаливают. Изредка пройдет стрелецкий караул, пугнет лихих людей – и снова город во власти тьмы…
ГЛАВА 3
В Новгород за ратью. Осада Троице-Сергиевой лавры. Пожарский отбрасывает Хмелевского от Коломны. Миссия дьяка Иванова. Мнишек в Тушине. Дьяк Иванов в земле свеев
Суетно в хоромах князя Скопина-Шуйского. В поварне пекли и жарили, в пристройке солили и вялили, сушили и коптили окорока и рыбу. Дворовые девки укладывали в кованые сундуки и берестяные короба одежды княжеские, всякую меховую рухлядь.
Вчера в Думе дьяк зачитал царский указ, коим велено князю Михаилу отправиться в Новгород для сбора ратных людей да уговориться с королем свеев Карлом IX, чтобы дозволил нанимать варягов. А как войско будет готово, идти с ним к Москве…
Скопину предстояла дорога долгая и опасная: повсюду ватаги разбойные, самозванец перехватил пути к Москве. Перерезав Смоленскую и Тверскую дороги, Лжедимитрий теперь послал отряды на другие, по которым еще идут обозы в город. Если такое случится, не миновать Москве голода.
Недавно изловили стрельца, переметнувшегося к самозванцу. Оказался сотником из Зарайска. В пыточной, на дыбе, повинился: ляхи и литва что-то замышляют, гетманы Сапега и Лисовский готовятся к походу на северные, заволжские города, а из Тушина на Каширу и Коломну направился гетман Хмелевский…
Прикинул князь Михайло Васильевич: так и есть, намерился самозванец окружить Москву. Надобно поторапливаться, искать подмоги у заречных городов, отбить Хмелевского от Каширы и Коломны.
В Думе государь принимал послов из Речи Посполитой, попрекал короля и панов вельможных в подстрекательстве смуты на Руси: люди короля на московской земле промышляют разбоем заодно с самозванцем.
– Мы брату нашему, Жигмунду, зла не чиним, – говорил царь послам, – так отчего король не вернет панов в Речь Посполитую?
Послы держались спесиво, отговаривались: в королевстве-де каждый шляхтич сам себе пан и слово короля им не указ. А еще требовали послы отпустить в Сандомир Марину Мнишек, на что Василий Шуйский дал согласие, но с условием: нигде не именоваться московской царицей…
Вышел князь Михайло во двор, поглядел, как конюхи лошадей чистят, возок и телеги готовят, ступицы дегтем набивают.
В подворье тесно, да и во всем Китай-городе скученность великая: боярские хоромы и дома служилых и торговых людей, лавки купцов и ремесленников жмутся друг к другу.
По окончании Думы царь задержал племянника:
– В Новгороде с набором ратников поспешай. Сам чуешь, грозное время для всей российской земли настало. Из дворян, что в Москве проживают, ополчение собирать будем. Как мыслишь, кого над ним воеводой ставить?
– Иного не знаю, кроме Прокопия Ляпунова… Еще могу Пожарского назвать.
– И я такоже мыслю.
Спрашивает Шуйский, а у самого взгляд колючий, острый. Чует Скопин, не любят его дядья. Отчего бы?
Вышла из поварни кормилица – холопка, средних лет, крупная, лицо белое, скуластое, а глаза раскосые: видать, татарское верх взяло. Поверх яркого сарафана – душегрея. Поклонилась Скопину:
– Здрав будь, князюшка Михайло. И дома-то как след не пожил, снова усылают.
– Дело государево, мамушка. – Князь обнял ее.
Кормилица держалась независимо, Скопин уважал ее.
– Поостерегись, князюшка, а я за тебя Бога молить стану да своему Прошке накажу ни на шаг от тебя не отходить. Буде надобно, грудью заслонит.
– За ласку твою и любовь благодарствую, мамушка. А сын твой Прошка, брат мой молочный, знаю, предан мне, и за то сызнова тебе спасибо.
– Завтра уезжаешь?
– С рассветом тронемся.
Солнце клонилось к закату, когда Клементьево взбудоражили крики. Проскакал парнишка, орал истошно:
– Ляхи с литвой идут! Ляхи с ли-и-тво-ой!..
Ударил набат. Его подхватил большой колокол монастырской Духовской церкви, упреждая окрестные села и деревни об опасности.
Заметался люд: мужики грузили на телеги мешки с зерном, увозили их в монастырь, бабы гнали скот, тащили узлы.
– В лавру, в лавру! – раздавались голоса.
Толпы народа шли в монастырь из Клементьева и Конкина, Панина и Благовещенья, Кокуева и Служницкой слободы – искали защиты. У распахнутых ворот их встречал маленький худой архимандрит Иоасаф. Задрав седую бороденку, распоряжался: женщин с детьми – по кельям, скот – в хлев и за изгородь, что находилась в дальнем, хозяйственном углу лавры.
Архимандрит отдавал приказания негромким голосом, стыдил безоружных мужиков:
– Эко, побежали от чужеземцев с голыми руками! А чем борониться станете, подумали? Ворочайтесь за топорами и вилами.
Тут же у ворот и на стенах возились монахи и стрельцы с пищалями, ладили пушки. Архимандрит похвалил Артамошку:
– Добрые молодцы, добрые! Аще полезут вороги на стены, стойте до часа смертного, не допустим латинян в святую обитель. Топором и молотом, что в ваших руках, отбивайтесь от врага.
Худое лицо Иоасафа покрылось пятнами, глаза блестели…
Мужики поднимались на стены, тут же располагались на ночь.
В сентябре 1608 года власть тушинцев начала распространяться на север от Москвы. Хоругви усвятского старосты Яна Петра Сапеги и гетмана днепровских казаков и гусар Александра Иосифа Лисовского вышли на Ярославскую дорогу. Между Рахманцевом и Братовщиной на их пути встал князь Иван Иванович Шуйский.
Не выдержали воеводы Шуйского атаки гусар и казаков, попятились. Многие стрельцы поспешили переметнуться на сторону царя Димитрия. Сам воевода Шуйский спасенье в Москве нашел.
На Покров Сапега с Лисовским появились под стенами Троице-Сергиевой лавры, заняли всю округу. За неделю до того в лавру по указу царя Василия вступили воеводы Долгорукий и Голохвостов, а с ними пять сотен стрельцов.
Сапега с Лисовским послали в Троице-Сергиеву лавру парламентеров. Подъехали они к воротам, заиграл трубач, впустили послов в монастырь. Прочитали старцы монастырские грозный ультиматум, подивились наглости панов. Писали Сапега и Лисовский, чтобы монахи и стрельцы сдались без боя, иначе «взяв замок, вас всех порубаем». Монахи и воеводы ответили с достоинством: «Безумству вашему и совету посмеется даже отрок десятилетний…»
Несколько дней кряду обстреливали ляхи и литва лавру, а потом пошли на приступ, но, встретив отпор, откатились, бросив под стенами убитых и раненых.
Не достигнув успеха, Сапега и Лисовский сожгли окрестные села. Они горели под вой и слезы баб. Мужики грозились. А вскорости воеводы самозванца разделились: часть казаков и литовцев осталась держать осаду, а Сапега начал наступление на Дмитров и, взяв его, продвинулся за Волгу. Тем временем Лисовский отправился приводить к присяге царю Димитрию Суздаль и Шую.
Владимирский воевода Иван Годунов, признав царя Димитрия, отписал в Коломну, дабы не стояли горожане «против Бога и государя своего прирожденного»…
Признай Коломна самозванца – и замкнуться бы кольцу вокруг Москвы. Перекроет Лжедимитрий все дороги, по которым шли на Москву обозы с зерном и мясом, рыбой и солью, – и быть голоду великому. Но коломенцы не приняли посланца из Владимира, да ко всему принародно на торгу высекли: не склоняй к измене, – после чего велели ворочаться к своему воеводе владимирскому Ивану Годунову с наказом: аще пожелает, то и его угостим березовой кашей…
Хмелевский шел к Коломне уверенно, даже ертаул не выставил. Узнав о том, Пожарский покачал головой:
– В ратном деле на авось понадеялся. – И бросил навстречу стрельцов и коломенских ополченцев.
Остановился гетман, принялся поспешно готовиться к бою. Однако место было неудачное: овражистое, коннице не развернуться, а иное выбрать уже времени нет.
Хмелевский рассчитывал, что Пожарский начнет бой стрельцами, но пехоту гетмана неожиданно встретили пушкари. Московиты выкатили орудия наперед, а уже за ними плотной стеной встали стрельцы и коломенские ополченцы.
Пушкари поднесли к запальникам фитили, и грянул залп. Ядра угодили в самую гущу пехоты. И снова рявкнули пушки. Попятились шляхтичи, смешались. А пороховые дымки опять поплыли над орудиями. Тут Пожарский и повел стрельцов. Грозно подняв боевые секиры, сошлись пехота с пехотой, рубились ожесточенно. Здесь бы и бросить Хмелевскому своих гусар в бой, да конным в оврагах нет воли, а князь Дмитрий Михайлович уже шлет в сражение коломенцев. Крикнул гетман трубачам играть отход, и шляхтичи первыми поворотили коней.
Оставив на поле боя пушки и обоз, Хмелевский отступил.
Отбили гетмана Хмелевского, а с востока новая угроза: дал о себе знать владимирский воевода Иван Годунов. Вернулся его посланник из Коломны, поведал, как его бесчестили и что велели передать воеводе, – озлился Годунов. Признав царем самозванца, он выступил на Коломну. С ним шли и две роты шляхтичей из отряда Лисовского.
Узнав о том, князь Пожарский отправил грамоту Ивану Годунову, призывая его одуматься и вернуться на службу московскому царю. Но владимирский воевода ответно обругал Пожарского, обозвав изменником, поскольку тот не желает признать царя истинного – Димитрия.
Неподалеку от Дмитровского погоста повстречались коломенцы с ратниками Годунова, и князь Пожарский гнал и бил владимирцев до Святого озера.
Старый, готовый развалиться рыдван, обитый облупившейся от солнца и дождя, некогда черной кожей, тащился по дороге от Ярославля на Тверь, чтобы далее следовать на Смоленск и до самого порубежья. Разболтанные в ступицах колеса вихляли, на рытвинах рыдван трясло и швыряло.
Его сопровождал десяток стрельцов в синих кафтанах и островерхих колпаках, отороченных мехом. В начале пути стрельцы вели себя вполне пристойно, но уже на третий день бранились по пустякам, не стесняясь употреблять непристойные слова, не обращая внимания на пассажирок рыдвана.
Стрельцы знали, что им надо до самой Речи Посполитой сопровождать Марину Мнишек, бывшую жену первого самозванца. Забившись в угол рыдвана, Марина сидела на твердых как дерево кожаных подушках и всю дорогу проклинала коварных русских бояр, чертовых москалей и подлых холопов, которые не оказывают ей надлежащих почестей.
– Моя милая пани Аделина не забыла, какими соболями и горностаями была обита карета, когда везли меня в Москву? – горестно спросила Мнишек.
Расположившаяся напротив гофмейстерина кивала согласно, иногда роняла скупую слезу, вспоминая любезного сердцу ярославского стрелецкого десятника, в чьих ласках находила утеху от невзгод, на которые обрекли ее и пани Марину москали.
Гофмейстерина вытащила из-под ног корзину со снедью, разостлала на коленях салфетку и, достав еду, заставила Марину съесть кусок хлеба с холодной телятиной и запить глотком вина.
– Ах, какие пиры устраивал царь Димитрий! – вспомнила Мнишек. – Как весело жилось во дворце! Скажи, милая Аделина, отчего боярам не нравился царь Димитрий?
– Кохана царица разве не знает, что бородатым боярам больше по нраву бить лбы в храме и слушать проповеди своих попов, нежели услаждаться прекрасной музыкой и танцевать мазурку?
– Помнишь ли ты, милая Аделина, моего славного Яся, красивого и стройного, как Аполлон, шляхтича. Он так любил меня, что, когда в мою опочивальню рвались крамольные бояре, он один дрался с ними, как лев.
– Ясь принял смерть как верный рыцарь, защищавший свою госпожу.
Ветка придорожного дерева с силой хлестнула по рыдвану. Марина вздрогнула, отшатнулась. И тут же вспомнила, что везут ее домой, в Речь Посполитую. Король неоднократно просил о том Шуйского.
Рада ли Марина? Скорее, нет. Вернуться в Сандомир и ловить на себе насмешливые взгляды, чувствовать себя нищей? Она представила, как будут злословить по ее адресу вельможные паны, их жены и дочери, надменные, кичливые…
На повороте рыдван накренился – стрельцы подскочили, поддержали.
– О Мать Божья! – подняла руки гофмейстерина. – Варварская страна, варварские дороги! Этот дряхлый рыдван сведет меня в могилу.
– Не огорчайся, милая пани Аделина, Господь ниспослал нам тяжкое испытание, как сказал бы преподобный папский нунций Рангони.
– Проклятый иезуит! – выкрикнула гофмейстерина. – Я помню, каким соловьем разливался этот коварный монах в сутане епископа!
Марина улыбнулась:
– Пани Аделина так не любит папского нунция?
– За что его любить, моя кохана госпожа? Он назывался твоим пастырем, а покинул нас, как только москали убили царя Димитрия.
– Нунций Рангони, верно, в Кракове или у круля в Варшаве. Вспоминает ли он свою духовную дочь? – Сделав скорбное лицо, Марина передразнила епископа: «Ты же, дочь моя, став московской царицей и будучи верной католичкой, должна воздействовать на супруга своего, и не сразу, постепенно обратить его в веру нашу…»








