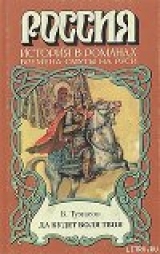
Текст книги "Да будет воля твоя"
Автор книги: Борис Тумасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
…Случилось это давно, в юности… Пир у Грозного… Застолье по возвращении из Данилова монастыря… На богомолье государь отбивал поклоны истово, ударял лбом о каменный пол. Из монастыря выбрались – лик у Ивана Васильевича бледный, глаза сатанинским огнем горят… Скакали улицами, пугая люд. Дождь со снегом не остудили неистового царя…
Ближние места за государевым столом заняли опричники. А на другой стороне бояре – по родовитости. Не столько едят, сколько дрожат, ровно пойманные зайчишки.
Ждут именитые, кому от государевой руки смерть принимать. Вдруг подходит к Василию Шуйскому государев любимец Малюта Скуратов, облапил голову ручищами, повернул к себе и, склонившись, оскалился в беззвучном смехе. Замерли бояре, побледнел Шуйский, а Малюта промолвил:
«Коварен, князюшко!»
Отпустил, вернулся на место.
У Василия лоб в испарине, слова не промолвит, но, видно, не Шуйскому готовился смертный час. А может, пожалел Малюта: Катерину, дочь свою, вознамерился отдать за Дмитрия, брата Василия.
Не успел Шуйский в себя прийти, как от царского стола старому князю Колычеву кубок подносят. Поклонился Колычев государю за честь великую, испил чашу до дна и тут же упал бездыханно, а Грозный голос возвысил:
«Видать, пьян старик, вынесите его во двор, освежите». И рот в ухмылке кривит.
Подскочили проворные опричники, выволокли мертвого Колычева из палаты, под дождь и снег…
Долго смотрел Шуйский в оконце. Непогода унялась, капало с крыш. Омытые дождем, блестели еловые лапы. Низкие тучи цеплялись за колокольню Ивана Великого, рвались в клочья.
Василий Иванович вернулся, уселся в кресло. Потер нос, вздохнул. Вчера напрасно прождал гонца, прибудет ли сегодня? А может, отошел Жолкевский без боя и Дмитрий повел ратников на Смоленск?
Шуйский ожидал вестей из Можайска, а явился гонец из Зарайска, от князя Пожарского.
Грамота Дмитрия Михайловича повергла Василия в уныние. Писал Пожарский: Рязань и окрестные городки мятеж против Москвы подняли, а сам Прокопий Ляпунов с дворянским ополчением выступил на Зарайск.
Велел Шуйский воеводе Глебову немедля поспешать на подмогу Пожарскому.
Удержали Зарайск.
Голицыны себя высоко чтили и место свое в Думе знали, а потому как обиду восприняли, когда царь Иван Васильевич Грозный князей Мстиславских посадил выше их. Аль Голицыны не исправно служили отечеству? Сам Василий Васильевич воеводой смоленским отсидел, а в 1602 году, пожалованный Годуновым в бояре, был отправлен воеводой в Тобольск, но через год в Москву возвращен…
В тайных помыслах виделся Голицыну трон и он в царских одеяниях, со скипетром и державою, а в Грановитую палату робко вступают заморские послы с дорогими подарками. Тянут бояре шеи из стоячих воротников, ровно черепахи из панциря, взирают завистливо. А он, Голицын, с послами речи ведет умные, достойные, не чета Шуйскому…
В последнее время мечта Василия Васильевича, казалось, вот-вот сбудется, вон и рязанцы на Шуйского поднялись. Царь Василий Иванович мечется, недруги отовсюду: от Смоленска Сигизмунд, из Калуги самозванец грозит, Прокопий Ляпунов из Рязани замахнулся. В самой Москве заговор зреет. Тушинские бояре Владислава на царство звали, да и в самой Москве есть их сторонники, однако Голицын убежден: Москва королевича не примет.
Долго прикидывал Василий Васильевич, и так и этак повернет, все одно получалось: не сидеть Шуйскому на царстве. Но тут же иная мысль шевельнется, от которой Голицына озноб пробирал: ну как удержится и тогда почнут крамольников пытать и казнить, а они возьмут да и назовут имя князя Голицына? Нет, надобно от бояр, какие Шуйским недовольны, до поры в стороне держаться. В самый раз захворать, а как скинут Ваську, тогда, даст Бог, и пробьет час его, Голицына…
Голицынская дворня по Москве слух понесла: захворал князь.
Покликали к Василию Васильевичу лекаря. Пощупал он князю живот, в горло заглянул, а уходя, налил из склянки травяного настоя…
Лежит Василий Васильевич, ни он ни к кому, ни к нему никто. Но однажды, поздним вечером, постучал в ворота старый монах из Чудова монастыря, что в Кремле. Впустили старца, он к князю запросился. Велел Голицын ввести монаха.
– Почто, Божий человек, меня, больного, тревожишь?
– Родом я, князь, из Рязани. Намедни довелось побывать в родных местах, с сестрой попрощаться, настал ее час… Увидел меня Прокопий Ляпунов, просил грамоту передать тебе, князь.
Из-под полы рясы извлек лист, передал Голицыну:
– Изволь, князь, покинуть тебя, ибо изустно ничего не сказано.
– Иди, брат, – кивнул Василий Васильевич и, как только монах вышел, принялся за письмо.
«…Кланяется тебе, князь Василий Васильевич, думный дворянин Прокопий сын Петров… А поднялись мы не супротив Москвы, а на Василия Шуйского, царя нам неугодного, ибо не защита он нам и не надежда… Хотим мы видеть государем мужа доброго и справедливого, какой нас, дворян, в обиду бы не давал… И просим тебя, князь Василий Васильевич, о том с другими боярами и князьями совет держать и с нами заедино быть…»
Голицын лист к свече поднес, охватило пламя бумагу – и нет грамоты, лишь пепел на полу. Докажи теперь, о чем писал Ляпунов, да и было ли вообще какое письмо?
Келарю и летописцу Троице-Сергиева монастыря Авраамию Палицыну (обогатившему историю российскую своими воспоминаниями о Смутной поре и осаде лавры) в ночь после Рождества Христова, когда забирал лютый мороз и трещали деревья от холода, а в домах не гасили печи и дымы столбами подпирали московское небо, привиделся ангел, и говорил он Авраамию:
«…Изреки слово к сынам народа твоего… если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит у себя стражем… И он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ…»
Пробудился келарь. Встал, не чувствуя холода, засветил лампаду, опустился на колени:
– Боже, к чему слова пророка Иезекилия ко мне, грешному?
Утром вызвал его митрополит Филарет. Пока Авраамий шел в Кремль, все гадал, зачем он понадобился митрополиту.
С виду неказист келарь, коренаст, сед, бородка жидкая, но из-под кустистых бровей на мир смотрели мудрые глаза.
Когда Сапега и Лисовский подступили к лавре, Авраамий был в Москве. Не единожды бил он челом Шуйскому, просил послать стрельцов в подмогу осажденным, плакался, читал слезные послания архимандрита Иоасафа думным боярам, искал у них поддержки…
В монастырской церкви шла утренняя служба. Послушник провел Палицына в Филаретову келью. Горела лампада перед образами, на налое лежало Евангелие в кожаном переплете. Бесшумно вошел Филарет. На нем простая льняная ряса, нагрудный крест.
Авраамий сказал:
– Благослови, владыка.
Склонил голову, смиренно ожидая, о чем митрополит речь поведет.
– Позвал я тебя, келарь, ибо во гневе патриарх. Стало известно ему о твоем сношении с гетманом Сапегою. Живя в тушинской неволе, слышал о том же я от самого гетмана. Чем оправдаешься?
Поднял голову Авраамий:
– Владыка, как на духу, не утаю. Воистину, присылал мне Сапега письмо, прельщал саном архимандрита, коли склоню яз братию монастырскую впустить ляхов и литву в лавру. Видит Бог, яз гетману ответил, что сан архимандрита от вора не приемлю и с гетманом в сговор не вступал.
– Ты успокоил меня, Авраамий. Ныне возвращайся в лавру, а я передам слова твои патриарху. Взывай народ на недругов, какие унию нам несут и земли наши взять на себя хотят…
Верст за двадцать от Троице-Сергиевой лавры перестрели Авраамия лихие мужики, монашеский сан презрели, забрали коня, ко всему взашей дали.
Время полуденное, оставшийся путь келарь проделал пешком. К ночи едва до Клементьева доплелся. Заночевал в избе кузнеца. Артамошка Авраамия накормил, на лавке постелил. А пока монах умащивался, рассказал о своей жизни горькой. Ничего не утаил…
Пробудился Акинфиев, когда в волоковом оконце, затянутом бычьим пузырем, засерело. Свесил с полатей голову, всмотрелся. Келаря в избе уже не было.
Едва Жолкевский переправился через Днепр, как стало известно: в Можайске тридцатитысячное московское войско. К Шуйскому привели полки воеводы Елецкий и Валуев, пришли и шведы.
Князю Дмитрию Ивановичу немедля бы на Смоленск выступить, ан нет. На совете Шуйский велел Елецкому и Валуеву выдвинуться к Цареву Займищу и, укрепив острог, выжидать неприятеля, а сам с главными силами остался в Можайске. Обрадовался коронный гетман и, когда Гонсевский предложил отойти за Днепр, ответил:
– Воевода Шуйский, того не ведая, предоставил нам свободу действий.
И повел хоругви на Волоколамск, где собралось до шести тысяч тушинской шляхты со своими гетманами и гетманчиками, ротмистрами и хорунжими, намеревавшимися идти к Сигизмунду. Узнав о том, что к ним направляется коронный, обрадовались. Паны вельможные Зборовский и Мазовецкий, Браницкий и Замойский, Кривицкий и другие со своими сотнями, ротами выступили навстречу Жолкевскому…
Теперь, когда под рукой коронного состояло десять тысяч конных и пеших шляхтичей и казаков, Станислав Жолкевский стремительно ринулся к Цареву Займищу…
Пятница.
Через две недели после Светлой седмицы собрал государь Думу. Он сидел на троне как подбитая птица – опустив руки, с поникшей головой.
Ниже трона восседал патриарх в белой митре и одеждах, шитых золотой и серебряной нитью. Из-под седой бороды на грудь спускается крест и панагия. Руки Гермогена лежат на единороге посоха.
Задумчив взгляд патриарха. На Думе речь важная, как государство замирить… Какие бояре отмалчиваются, иные друг друга норовят перекричать, но никто совета дельного не подал. Да и каким ему быть? Новое ополчение созывать – откуда люд брать. С запада на юг не жди подмоги: в тех землях либо ляхи с литвой, либо воры. На востоке тоже неспокойно…
Какие бояре с недоброй усмешкой на Шуйского глядят, иные глаза в сторону отводят, вона, как боярин Нафанаил, по прозвищу Сарана. Гермоген самолично слышал, как он говорил: надобно-де Смоленск Жигмунду отдать, а за то мир у Речи Посполитой получить. Сыскиваются и такие, что королевича в Москву впустить готовы… Ляпунов Рязань замутил… Отписал патриарх рязанским дворянам и епископу, увещевал, стыдил, но та грамота без ответа…
Долго говорили на Думе, и все попусту. Отмолчался и Василий. Решили дождаться, какую весть Дмитрий Иванович Шуйский подаст, да отписать ему, чтоб поспешал к Смоленску.
С Думы Иван Никитич Романов воротился с волнением на душе. Бывает такое: будто ничего и не случилось, а тревога подтачивала. Романов водочки выпил, заел студнем из петуха, надумал уснуть – авось переспит, – ан нет, волнение не покидает. Тогда боярин принялся выискивать причину, какая породила тревогу. Весь день до самого утра перебрал в памяти. Нет, будто бы ничего особенного не произошло, разве вот заезжал до Думы к Голицыну, но не успел порог переступить, как княгиня перестрела, поплакалась о здоровье Василия Васильевича и, сказав, что князь спит, выпроводила гостя.
Иван Никитич в болезнь Голицына не слишком верил, однако и на Думе князь Василий Васильевич отсутствовал.
А может, тревога у Ивана Никитича от государева взгляда? Когда Думу боярин Романов покидал, Шуйский посмотрел на него долгим взглядом. Хорошо знавший коварство Шуйского, Иван Никитич даже поежился: «Ох, неспроста поглянул Василий».
Но страхи Романова были напрасны. Шуйский думал в этот момент вовсе не о Романове. У Василия одна дума: осилил бы Дмитрий коронного к заставил Сигизмунда отойти за рубеж. Когда это случится, он пошлет Елецкого и Валуева на рязанцев, дабы привести их к покорности, а Дмитрия направит к Калуге, где собрались к самозванцу казаки, татары князя Урусова и с ними Сапега.
– Вишь, – говорил Шуйский, – не убрался к королю, вкруг Москвы рыщет.
Отсидев Думу и отпустив бояр, он воротился на царскую половину дворца, сбросил шубу и, сняв голубого песца шапку, остался в однорядке (кафтане без ворота) и, пригладив пятерней редкие волосы, велел покликать постельничего Трегуба. Василий честил этого боярина за псиную службу. Государи московские на досуге любили потешиться сказаниями всяких калик перехожих, а Шуйский не странников слушал, а наушников. Трегуба выделял из них особо.
Еще в молодые годы за заячью губу маленького, юркого боярина Репню прозвали Трегубом, да так и прилипло к нему это имя.
Едва Трегуб порог переступил, как Шуйский к нему с вопросом:
– О чем бояре злословят?
– Таятся, государь. Особливо когда меня завидят. А иные льстят тебе.
– Нет им веры, – поморщился Василий и пристукнул посохом.
– Истина твоя, государь. Намедни побывал у Голицына монах чудовский. Оно бы все ничего, да тот монах из Рязани приволокся.
– О чем речь вели? – насторожился Шуйский.
– Того не прознал, – развел руки Трегуб.
– Монаха-то хоть приметили?
Трегуб кивнул.
– Как случай выйдет, того монаха в пыточную. Да гляди, чтоб о том патриарх не прознал. Ох, чую, неспроста встречался он с Голицыным.
Стаял снег, и обнажилась белесая каменистая крымская земля с чахлыми кустами дикой маслины и редкими деревьями с тонкими, перекрученными ветром стволами.
Ранним утром из Бахчисарая выехала громоздкая колымага и две телеги – посольский поезд самозванца. Откинувшись на кожаных подушках, додремывал посол – тушинский дворянин Савва Охлюпков. Остались позади ханский дворец, дворцы его беков и мурз, белые сакли татарского люда.
Ехавший в одной с послом колымаге дьяк Лука Сударкин ворчал, браня хана и весь его разбойный народец. Да и как не возмущаться послу и дьяку, когда полгода как из Руси уехали – и все без толку.
В начале осени послал Лжедимитрий Охлюпкова и Сударкина к хану, дабы склонили его к совместному взятию Москвы, и за то обещал самозванец хану богатый ясак.
Кружным путем пробиралось посольство в Крым к только к зиме въехало в Бахчисарай. Хан не принял тушинского посла: малы подарки, – а на посулы ответил оскорбительно: «Пусть царь в Москву вступит и ясак мне шлет, какой князья московские слали Гиреям… Помощи не дам, а если захочу, то мои воины сами возьмут на Руси чего пожелают…»
За Перекопом остались последние татарские аулы, отстал и сопровождавший посольство ханский караул. Началась Дикая степь… Чем дальше на север катилась колымага, тем чаще островки снега. Высокий бурьян-сухостой в рост человека подчас коня с всадником скрывал. Бродят по степи табуны диких коней, свирепые зубры, протаптывают к водопою тропы с виду медлительные кабаны, ночами воют волчьи стаи, а по степным речкам и плесам тучи лебедей и гусей оглашают криками небо, со свистом режут воздух утки…
Половецкая, Дикая, степь, не обжитая человеком, подчинялась своим, звериным законам, где тишина и безлюдье обманчивы. От самого Перекопа следили за посольским поездом зоркие глаза казачьих лазутчиков. Спешившись, ползли ужами, в высоких травах скакали прильнув к конским гривам, и не успел посольский поезд пересечь Дикую степь, как в казачьих куренях уже знали о возвращении тушинского посла.
Медленный рассвет открывал сквозь молочную дымку темные стены и грозные башни Смоленска, главы церквей и собора.
Подступило коронное войско, от реки до реки охватило город – ни въезда нет, ни выезда.
Прохладное утро. Сигизмунд зябко кутается в подбитый мехом плащ, и мысли его о том, что вот уже осень и зима минули, весна настала 1610 года, а Смоленск стоит непокоренный. Четырежды наваливались большой силой на приступ, а малым и счет потеряли…
Послал Сигизмунд запорожцев повоевать порубежные городки, дабы устрашить воеводу Шеина. Атаман Искорка взял и пожег Стародуб, в Новгород-Северский вступили атаманы Богушевский и Ганченко, киевский подкормчий Горностай разорил Чернигов, внезапным набегом гетман Александр Гонсевский овладел Рославлем и повел свои хоругви к Станиславу Жолкевскому.
На прошлой неделе Сигизмунд, направляя своего парламентера к Шеину, сказал:
– Видит Бог, не хочу зла, але не сдаст воевода Смоленск, на нем вине быть.
На что Шеин ответил:
– Я русич и Москве служу, а не Речи Посполитой…
Сигизмунд резко повернулся к канцлеру:
– Ясновельможный пан Лев смотрит на своего круля так, будто знает, как овладеть этим городом?
– Ваше величество, там, где бессильны жолнеры[8]8
Солдаты-пехотинцы в польской армии.
[Закрыть], должно заговорить золото.
– Канцлеру известны такие люди? Они за теми стенами?
– Пока нет, ваше величество. Но они отзовутся, как услышат звон золота.
– Весьма возможно, пан Лев, весьма возможно. Истина древних банкиров: когда звенит золото, умолкают арфы… Не скупитесь, ясновельможный канцлер, на подкуп, обещайте щедро тем, кто укажет, как войти в город.
ГЛАВА 2
Артамошка Акинфиев. Наемники. Тушинский стан. Князь Пожарский. Марина Мнишек. Коронный наступает. И снова Василий Голицын. Тяжек посох патриарший. Князья рядятся. Прости, брат… В монастырской келье
Изба срублена из сухой сосны. Тому минуло второе лето. В раннюю весеннюю непогоду, когда жаром пылала печь и золотым янтарем выступала на бревнах смола, день и ночь в избе висел бодрящий дух живицы.
В ночную пору, взобравшись на полати, Артамошка день за днем перебирал свою нелегкую, безрадостную жизнь… О покое мечтал, как войдет хозяйкой в избу Пелагея и будет у него, Акинфиева, все как у других мужиков: семья, детишки… А с той поры, как переночевал у Артамошки келарь Авраамий и узнал он, чем жил прежде Акинфиев, ждал Артамошка, что явятся за ним стрельцы из лавры и потащат на монастырский суд. Акинфиев даже подумывал, не уйти ли ему из Клементьева от греха подальше, но время шло, и никто его не тревожил. Успокоился Артамошка. Видать, пожалел его келарь.
Лавра залечивала раны. Везли камень и замешивали раствор, заделывали пробоины в стенах и башнях. Рос штабель бревен. На месте разрушенных амбаров и клетей рубили новые, чинили трапезную и кельи.
Возводили всем миром. Со всех окрестных сел собрался люд. Дело привычное. Еще со времен Ивана Васильевича Грозного велена была местным крестьянам забота о безопасности и благополучии Троице-Сергиевой обители, и за то освобождены они от всех других повинностей и податей.
В башенной кузнице, раздутый мехами, пылал синим пламенем огонь. У горна Акинфиев с подручным ковали крепежные скобы, оттягивали острия топоров. Далеко раздавались удары молота о наковальню.
Заглянул в кузницу келарь, встал молча у дверей. Артамошка подошел к Авраамию под благословение. Келарь перекрестил его, ничего не сказав, удалился, оставив Акинфиева со своими мыслями. Видать, тяжкие грехи на его душе, если не отпускает их келарь… Хотел Артамошка повиниться архимандриту Иоасафу, да не решился. Ну как скажет: почему же ты в прежнюю пору таился? И даже когда я тебя от смерти спас, ни в чем не покаялся? Видать, черная душа у тебя, Акинфиев…
В который раз спрашивал сам себя Артамошка, будет ли ему прощение. И Бога молил: отпусти грехи мои, Господи.
У самого Царева Займища взяло Жолкевского сомнение. Казаки ертаульные донесли: Валуев и Елецкий дожидаются, укрепились. Коронный о Валуеве наслышан, он Сапегу от Троице-Сергиевой лавры заставил отойти, водил полки против Лисовского и в Можайск поспел.
И Жолкевский решил до поры отойти к Гжатску, присмотреться, как поведет себя Шуйский.
Как-то на торгу Дмитрий Шуйский услышал: гость из Хорасана, воздев руки, скорбно приговаривал:
– О Аллах, чего хочу я, того не желаешь ты!
Шуйский с торговым гостем согласен, и сейчас он вспомнил его слова. Соединившись с Голицыным и Мезецким, он не торопился покидать Можайск, все на бездорожье валил. Получив царское повеление поспешать к Смоленску, Дмитрий Иванович вздохнул:
– Эко, торопит! По грязине огневой наряд и обоз тащить – только коней надорвешь.
Однако делать нечего, позвал Делагарди. Разговор происходил в хоромах можайского воеводы. Делагарди стоял, подперев плечом косяк в двери горницы. Под распахнутой шубой синевой отливала свейская броня. Скрестив руки на груди, Делагарди ждал, о чем будет говорить воевода.
– Якоб, – сказал Шуйский, – государь посылает нас на Смоленск, где собралось коронное войско. Как только установится теплая погода и просохнут дороги, мы двинемся к Гжатску, соединимся с Валуевым и Елецким. Ты с рыцарями пойдешь в ертауле. За тобой последуют полки воевод Голицына и Мезецкого. Огневой наряд и обоз прикроет дворянское ополчение.
Делагарди вскинул голову:
– Свеи на Смоленск не пойдут.
Шуйский удивился:
– Разве ты, Якоб, забыл о ряде? У короля свеев и московского государя один недруг – Жигмунд.
– Свеи ряду исполнили, они помогли князю Скопину-Шуйскому отогнать самозванца от Москвы.
– Рыцари требовали прибавки к жалованью, и они ее получили. Почему же ты, Якоб, не сказал царю Василию, что отказываешься идти к Смоленску?
– В ряде о Смоленске нет записи, и рыцарям за это не платили.
– Добро! – сердито выкрикнул Шуйский. – Я заплачу рыцарям еще столько, сколько дал им царь Василий.
– Хорошо, – согласился Делагарди, – но ты дашь все это в Можайске.
– Они получат здесь первую половину, а вторую – когда прогонят Жигмунда за рубеж.
Из-за Перекопа, прорвавшись через запорожские земли, стороной минуя Черкассы и Канев, орда большим числом понеслась на Белгород. Конскими хвостами разметая пепел пожарищ, она устремилась на Курск и Орел.
Появление ордынцев на южных рубежах Лжедимитрий воспринял как помощь крымского хана, но посланные им гонцы вернулись с нерадостным известием. Сын хана, молодой красавец Исмаил, заявил дерзко: «Мы идем сами по себе. Но если Димитрий признает себя данником Крыма и будет платить хану, как делали это деды Димитрия, он, Исмаил, еще подумает, кому помогать…»
Оставляя за собой пылающие избы и разрушенные городки, гарь и смрад, орда гнала на Москву. Вилось над пожарищем воронье, граяло радостно.
Опережая крымчаков, летела на быстрых крыльях черная весть…
И тогда явились к Лжедимитрию казачьи атаманы:
– Государь, – сказали они, – мы не станем служить тебе, коль примешь подмогу крымчаков. Никто не простит нам, если признаем себя данниками орды. Коли не остановим крымчаков мы, тогда кто же?..
От Орла орда повернула на Серпухов. Выдвинулись казачьи полки к реке Наре, изготовились. Подковой изогнулись. Как в невод угодила орда. Дико визжа, ударили крымчаки по челу. Качнулся Передовой полк, но устоял. Тут и зажали казаки ордынцев с крыльев.
Поздно распознал Исмаил ловушку, велел отступать к Белгороду, но казаки уже крылья затягивали. Лишь малой частью прорвалась орда, уходила к Перекопу. Но наперерез ей уже спешили черкасские и каневские казаки, а у самого Перекопа собирались запорожские сечевики.
Буйствовала ростепель. Отгремел первый гром. Пробудился от сна лес, ожил, задышал. От ельника, на опушке, где земля толстым слоем усыпана сухими иглами, резко запахло грибницей и хвоей. Первая, молодая, блеклая трава, пробившаяся на выгреве, набиралась силы. Грязь начала подсыхать, но местами лужи стояли озерами.
Каждое утро выходил Андрейка за околицу, радовался, как весело ощетинилась рожь, суля щедрый урожай, и думал, что неспроста надрывался, поднимая сохой борозду, боронил, учился у деда Кныша высевать, разбрасывать зерна, чтобы всходы были ровные… А когда взошли зеленя, снег щедро укрыл их от морозов…
Доволен Андрейка жизнью, и нелегкий крестьянский труд ему в радость. Добрая у него жена, хозяйственная. А когда орда мимо шла, всей деревней укрылись в глубине леса… Вскоре слух прокатился: на речке Наре казаки побили ордынцев…
Ужинали князья при свечах, втроем: Дмитрий Иванович Шуйский с Александром Васильевичем Голицыным (братом Василия Васильевича) да Данила Иванович Мезецкий. Ели смакуя, прихваливая стряпуху: знатную умелицу возит с собой Шуйский, эвон какие пироги испекла со стерлядью – духмяные, сочные, во рту тают, уха наваристая, губы слипаются, а уж гуси с гречей и утки с яблоками, розовые, с корочкой хрустящей!
Пили князья бражку медовую, разговоры вели всякие. Под конец (хотя и без желания, но надо) о главном деле, зачем в Можайске собрались, речь пошла. Отодвинул Шуйский ковш, сказал:
– Государь неудовольствие кажет, требует немедля Жигмунда воевать.
– И то так, – согласился Мезецкий, – погода наладилась.
Голицын затылок почесал:
– Свои деньги получили, пусть первыми и идут.
Шуйский кивнул:
– Делагарди с Горном в ертауле последуют. Государеву казну, сукины дети, почистили изрядно, а как в сражении покажут, поглядим.
Голицын из бороды крошки выбрал, повел хитрыми глазками по трапезной:
– Ты, князь Дмитрий Иванович, больший воевода, тебе видней.
Шуйский засопел:
– Не верти, Александр свет Васильевич, в одной упряжке идем.
– Оно-то так, только ты коренной… У Гжатска коронный крутится, а он на военные хитрости горазд.
– Это верно, – поддакнул Мезецкий, – прознать бы, чего он замыслил.
Шуйский заявил уверенно:
– Жолкевский боя с нами не ищет. Тому свидетельство его поворот от Царева Займища. Когда же мы соединимся с Елецким и Валуевым, то превзойдем коронного втрое.
– Выступим-то когда? – спросил Мезецкий.
– С той седмицы в самый раз.
Из Можайска Делагарди послал отряд Горна к Белой, где стоял со своей хоругвью польский воевода Гонсевский. Бой был жаркий, и только ночь примирила ратников. Закрылся Гонсевский в остроге и оттуда выслал трубача с письмом к Горну. Звал польский воевода шведов переметнуться на сторону Речи Посполитой, но Горн на измену не склонился. Однако, услышав, что к Белой приближается коронный гетман, отошел к Можайску.
Еще когда на тушинском коло вельможные паны спорили и кричали до хрипоты, хватались за сабли, а он, Матвей Веревкин, сбежал в Калугу, у него еще теплилась надежда, что Сигизмунд выполнит обещание и поможет взять Москву, но Марина охладила его пыл.
– Ты не знаешь круля, он уже не желает тебя знать. Разве забыл, зачем ездили тушинские бояре к крулю?
Только Сапега заверил самозванца, что остался у него в службе.
Матвей Веревкин выжидал, пойдет ли коронный гетман на Москву и пошлет ли Шуйский стрельцов на короля, а когда стало известно, что Жолкевский остановился у Гжатска, а с Дмитрием Шуйским Москву покинули многие полки, Лжедимитрий намерился стремительным ударом, через Серпухов, неожиданно овладеть Москвой…
Дозоры разведали: коронный гетман от Гжатска направился к Цареву Займищу. Посовещались московские воеводы, прикинули: нет, не избежать боя с Жолкевским, надо идти к Цареву Займищу.
Шуйский сказал:
– Соединимся с Елецким и Валуевым, тогда и сразимся с коронным.
К Цареву Займищу решили подойти со стороны Волоколамска, неожиданно для Станислава Жолкевского. В однодневном переходе растянулись полки, отстал огневой наряд и обоз. Рыцари потребовали отдыха. Уже потемну подошли к селу Клушино. Объявили привал.
– Утро вечера мудренее, – решил Шуйский. – Тронемся по солнышку.
И, велев выставить караулы, отправился на отдых.
Всю ночь к лагерю подтягивались пушкари, обоз, и никому невдомек, что Станислав Жолкевский, оставив у Царева Займища заслон из пехоты и части огневого наряда, с конницей в десять тысяч сабель и легкими пушками уже спешил к Клушину…
Крепок сон у князя Дмитрия Ивановича Шуйского, не слышал, как долго не затихал стан и только за полночь едва угомонились. Но перед рассветом все вдруг зашумело, пришло в движение. Пробудился Шуйский, в шатре отблески пожара и дымно, а вокруг крики ж брань, звенит оружие, ржут испуганные кони.
В шатер вбежали Голицын и Мезецкий:
– Князь, ляхи и литва подступили!
Шуйский заметался по шатру:
– Где Делагарди и Горн? Конных наперед! Проклятые наемники, торопятся, когда слышат звон золота, и бегут, когда слышат стрельбу пищалей. – Шуйский остановился, перекрестился: – Велите стрелецким головам начать сражение.
– За стрельцами дело не станет, – откинув полог, в шатер вступил полковой голова Соболь. – Коронный вот-вот навалится всей силой. Эвон пушки заговорили!
– Отчего молчит наш наряд? – вскрикнул Шуйский. – Ступайте все к войску!
Когда Шуйский оделся и вышел из шатра, сел на подведенного коня, бой уже вступил в силу. Шляхтичи подожгли избы села и палисад, огонь осветил сражение.
Подскакал Мезецкий:
– Ляхи давят на левом крыле, свеи начали отход!
– Пошлите им в подмогу стрелецкий полк да нарядите гонца в Царево Займище, пусть Елецкий и Валуев поторапливаются!
Шуйский направил коня к Делагарди. Встретился Горн:
– Отчего пятятся рыцари? Их храбрость не дальше, чем потрясать кошельками!..
Жолкевский следил за боем с холма. Уже рассвело, и в зрительную трубу было видно, как неудачно действуют московские полки. Теперь коронный уверен, он выиграл победу и дал Шуйскому бой, когда тот не был к нему готов. Молчат даже пушки московитов.
Подозвав Гонсевского, Жолкевский сказал:
– Пора начинать гусарам. Вводите их в бой.
Грохотали пушки. Ядра падали в лагере московитов, сея смерть и панику. Навел коронный трубу на ряд пушек, какие стоят на пригорке, увидел, как пытаются пробиться к ним стрельцы, но на них одна за другой пошли две роты.
На левое крыло навалились казаки. Бряцала сталь, мелькали сабли, вздымались стрелецкие секиры, палили рушницы.
Перевел коронный трубу на правое крыло, видит, нестойко у шведов. Послал на них еще хоругвь гусар. Видит, сломались рыцари, отходят. Гикая и визжа, наскочили казаки на стрельцов, врезались в самую середину…
Смотрел Шуйский, как сдаются рыцари, а другие бегут к лесу, выругался.
Тут Голицын коня осадил, закричал:
– Не отобьемся, князь Дмитрий Иванович, вели отходить!
– Трубите! – подал знак Шуйский.
Преследуемые гусарами и казаками, потеряв огневой наряд и обоз, полки поспешно откатывались к Москве…
В страну свеев через земли новгородские уводил Якоб Делагарди своих рыцарей. Захватили свеи новгородское побережье Балтики, срубили острожки, посадили в них малые дружины.
Подступили к Новгороду и, взяв силой острог на Софийской стороне, принудили новгородцев признать себя данниками шведской короны.
Разграбили свеи монастырские хранилища и множество ценнейших книг и манускриптов увезли в Упсалу, пополнив королевскую библиотеку.
Самозванец с конными и пешими отрядами кружным путем, через Медынь и Боровск, овладев Серпуховом, подступил к Коломне. Напрасно взывал епископ коломенский к верности царю Василию, народ взбунтовался. Коломна и Кашира целовали крест государю Димитрию.
Присягнули самозванцу и воеводы коломенские Туренин и Долгорукий. Не устоял и переметнулся к Лжедимитрию воевода каширский князь Ромодановский. Самозванец, вступив в Коломну, намерился взять Москву прежде, чем к ее стенам подступит коронный гетман…
Коломна – город древний, на водном пути по рекам Клязьме, Москве и Оке. Стоит город при впадении Коломенки в Москву-реку… Коломенский кремль, церковь Пятницы, Пятницкие ворота кремля, торговая площадь у крепостной стены… Торг, в отдаленные времена бойкий, с привозом богатым, уже много лет как захирел, зачах…








