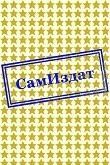Текст книги "История советской литературы. Воспоминания современника"
Автор книги: Борис Леонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
88
В канун 70-летия Константина Михайловича Симонова, а эту дату отмечали в 1985 году, ко мне в «Огонек», где я был первым заместителем главного редактора, пришли Артем Боровик и Лима Лиханов – сыновья известных родителей, работавшие в газете «Советская Россия», и принесли небольшой очерк о юбиляре.
Они отыскали неведомый факт в жизни Симонова.
Оказывается, в Смоленской области существовал детский дом, куда Константин Михайлович отправил багаж из Соединенных Штатов Америки. В багаж входили различные игрушки, набор детской мебели, спортивный инвентарь. Все это было приобретено им за гонорар, который он получил в Америке.
Мне показалось это интересным, и я отправил материал в набор.
Когда набранный очерк попал в руки главного редактора Анатолия Владимировича Софронова, он поинтересовался:
– Кто организовал этот материал?
Узнав, что я, сказал:
– Что же выходит? Он был хорошим, а мы плохими, которые ездили вместе с ним в Америку?
– Об этом, Анатолий Владимирович, в очерке ни слова.
– Я сам напишу о Симонове. Мы вместе с ним работали при Фадееве в секретариате…
Этой фразой он открыл свои две странички, на которых процитировал еще два стихотворения Симонова военных лет.
Мне искренне было жаль живого слова о живом Симонове, в котором постоянно жили «дороги Смоленщины» и те дети, коим он отправлял из-за океана игрушки.
89
Из уст директора Центрального Дома литераторов Бориса Михайловича Филиппова я услышал воспоминание о том, как однажды в клубе творческой интеллигенции за биллиардным столом встретились Маяковский и самовлюбленный критик, неодобрительно отозвавшийся о пьесе «Клоп». Маяковский решил «отыграться» за бильярдным столом и с подчеркнутой любезностью пригласил своего недоброжелателя сыграть с ним партию.
Критик и тут говорил с Маяковским свысока, несмотря на свой низкий рост, и по сему поводу клубный маркер Захар Иванович именовал критика человеком «с мантией величия».
Кстати, самовлюбленный критик в бильярде был не профан.
Маяковский дал ему «фору» при условии, что проигравший должен был трижды пролезть под бильярдным столом.
Критик вначале поупрямился, но «фора» и желание увидеть Маяковского под столом сыграли свою роль.
Слух о споре тут же разнесся по клубу, и в бильярдной собрались почти все, кто в этот час оказался в помещении. Большинство «болельщиков» было за Маяковского и всячески поддерживали поэта. Владимир Владимирович был очень сосредоточен в игре и мало реагировал на крики одобрения, какими встречали сочувствующие каждый удачный удар. Он выиграл у самоуверенного критика под крики ликования собравшихся.
Когда проигравший полез под стол, Маяковский громко заявил:
– Рожденный ползать писать не может!..
90
Было это в 1981 году, когда литературная общественность страны отмечала 80-летие Александра Александровича Фадеева.
Свыше ста писателей из всех союзных республик, среди них был и я, прибыли спецрейсом в Приморский край, где прошли детство, отрочество и юность юбиляра. Известно, что Фадеев родился на Тверской земле, в городе Кимры. Но в 1908 году семья его переехала на Дальний Восток.
Участники дней Фадеева в Приморье побывали на заводах и в студенческих аудиториях, у моряков и ученых. И вот очередь дошла и до Ново-Михайловки, где открывался музей А.А.Фадеева.
Ранним утром, а был уже конец сентября, мы на поезде прибыли на станцию Ново-Михайловка.
Писатели стали энергично выходить из вагонов.
Мы стояли в коридоре нашего купейного вагона с известным сатириком Аркадием Аркановым, пропуская спешащих.
Где-то вдали, вероятно, в голове состава, возле здания вокзала оркестр грянул встречный марш.
И вдруг видим: размашистым шагом в сторону вокзального здания спешным шагом идет руководитель нашей делегации Союза писателей Виталий Михайлович Озеров. Демисезонное пальто накинуто на плечи. Рядом с плеером в ушах поспешает за ним Юрий Рытхэу, очень смахивающий на японского атташе.
Глядя на эту пару и прислушиваясь к гремящему вдали маршу, Аркадий Михайлович Арканов тронул меня за рукав:
– Старик! Колчака встречают!..
91
Однажды в кабинете Всеволода Анисимовича Кочетова, возглавлявшего журнал «Октябрь», кто-то из сотрудников редакции, просматривая свежий номер газеты «Известия», вслух обратил внимание находившихся здесь на официальное сообщение, что вчера на даче у Н.С. Хрущева в присутствии руководителей партии, государства и представителей творческой интеллигенции А.Т.Твардовский читал свою новую поэму «Теркин на том свете».
Далее сообщалось, что поэму приняли хорошо, все смеялись.
И следовал перечень фамилий присутствовавших на даче.
– Дайте-ка газету, – попросил Кочетов.
Он еще раз внимательно просмотрел информацию и неожиданно улыбнулся:
– Смотрите-ка, а ваш-то Воронков /он мел в виду оргсекретаря Союза писателей СССР/ смеялся последним…
92
Евгений Львович Шварц в кругу друзей поведал о том, что произошло с известным актером Сергеем Филипповым в Москве. Тогда Филиппов работал в театре комедии под руководством Николая Павловича Акимова в Ленинграде. В Москве театр был на гастролях.
– Сам Филиппов об этом рассказал мне так. «Напившись до изумления», в метро он заявил пассажирам, что он Герой Советского Союза, а потому требовал от всех внимания к своей персоне. Кто сомневался в его звании, он требовал немедленно покинуть вагон. И тут неожиданно его взгляд встретился с чем-то до боли знакомым. Это были пронзительные голубые глаза Акимова. «Подходит он ко мне, – признался Филиппов, – и говорит: „Идите за мной!“ В вагоне стало тихо. И я притих. Вышел за Акимовым на остановке, И тот меня так отхлестал, что весь хмель выдохся, хоть пей сначала!»
93
Поэт Михаил Федорович Борисов, прославивший себя в бою под Прохоровкой на Курской дуге, подбив семь «Тигров» гитлеровцев, за что был удостоен звания Героя Советского Союза, пришел на очередную встречу с читателями в воинскую часть.
Встретивший его заместитель командира части провел поэта в клуб где собрались офицеры, их семьи и солдаты. Майор поведал собравшимся о подвиге товарища Борисова, а в конце своего вступительного слова объявил:
– А сейчас, товарищи, наш гость известный поэт, Герой Советского Союза Михаил Борисов продекламирует нам свои стихи…
94
Жил в Ленинграде писатель Леонтий Иосифович Раковский, перу которого принадлежат романы «Генералиссимус Суворов». «Кутузов», «Адмирал Ушаков» и другие.
А в конце сороковых годов в издательстве «Знание» у него вышла брошюра о Суворове. Она стала первой попыткой писателя рассказать о великом русском полководце.
Однажды, придя домой, а жил он в коммуналке, Леонтий Иосифович нашел в двери записку с просьбой срочно позвонить в Москву по такому-то телефону. Естественно, телефона у Раковскогого не было. И он пошел на телеграф, чтобы созвониться с Москвой.
Выстоял очередь в автомат, набрал номер и на вопрос в трубке: «Кто говорит?» назвался, сославшись при этом на указанную в записке просьбу.
– Все правильно, – отозвалась вежливо трубка. – Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин.
Через несколько секунд раздался спокойный и знакомый голос:
– Товарищ Раковский? Здравствуйте. Я прочитал вашу брошюру о генералиссимусе Суворове и хочу поделиться с вами некоторыми соображениями. Вам надо продолжить работу над материалом. И потому хочу поддержать вас конкретными предложениями по тексту. У вас есть чем записывать?
А у Раковского ничего кроме пачки «Беломора» и обгорелых спичек под рукой не было. Но об этом не скажешь вождю!
Он вытащил обгорелую спичку.
– Записывайте. На странице третьей, второй абзац сверху. Вы пишете… Я предлагаю развить эту, мысль в таком направлении. На странице семнадцать последний абзац. Вы пишете… Можно было бы подумать и над таким вариантом. На странице двадцать второй…
А будку с телефоном уже атаковали недовольные граждане. Безобразие! Столько времени занимать телефон-автомат! Ему стучали, дверь открывали.
– Что там у вас происходит? – послышалось в трубке.
– Извините, товарищ Сталин. Но больше я разговаривать не могу…
Под гул неодобрения очереди покидал телеграф Леонтий Иосифович.
Вернувшись домой, в комнату-пенал, он взял листок бумаги и начал переносить с пачки «Беломора» державные указания.
Потом начал размышлять над происшедшим.
Прошло минут десять.
Вдруг два звонка в дверь квартиры.
Раковский пошел открывать: так полагалось звонить ему.
В дверях стояли двое молодых людей в спецовках с мотками провода, чемоданчиками и телефонным аппаратом.
– Раковский? – спросит один из них.
– Да. А в чем дело?
– Вот велено поставить вам аппарат. Тянем воздушку. Они прошли в комнату.
– Куда аппарат поставим?
– Да вот на тумбочку, пожалуй, – ответил хозяин.
Монтеры тут же установили аппарат, подключили его к какой-то системе, проверили исправность работы и, попросив расписаться в банке наряда, распрощались.
Прошло еще несколько минут.
И неожиданно резко и продолжительно зазвонил телефон.
Раковский даже вздрогнул.
Снял трубку и услышал знакомый голос:
– Товарищ Раковский?! Теперь вы можете со мной говорить?! Так продолжим. Страница двадцать вторая третий абзац сверху…
95
Приехавший в дом творчества работников кино в Болшево Александр Львович Дымшиц, оформив свое пребывание в администрации, отправился в свой коттедж.
И неожиданно был остановлен радостным голосом:
– Александр Львович!
На крыльце соседнего домика увидел приветствовавшего его Юлиана Семенова.
– Рад вас видеть! Не правда ли, я похож на старика Хэма?!
Он явно намекал на свое сходство с Хэмингузем.
Дышиц тут же отозвался:
– Да, Юлечка. Только по-английски он пишется через «а».
96
Как-то спросил у Юрия Леднева, который не раз в разговоре упоминал имя Володи Герасимова, кто он такой, этот Герасимов.
– Мы с ним учились в Литературном институте. Я был в семинаре Коваленкова, а он в семинаре Наровчатова.
Мальчишкой во время войны его вместе со многими ребятами фашисты отправили в Германию. По пути Володя бежал, выпрыгнув из товарного вагона на ходу. Весь побился. Его подобрал какой-то старик-гуцул, спрятал в своей сторожке и долго отпаивал соком молодого картофеля. Потом он свел Володю с партизанами. После паузы Юра продолжил:
– А в институте с Герасимовым вот какой случай произошел.
После XX съезда партии в гости к студентам пришел Илья Григорьевич Эренбург. Встреча проходила в переполненном зале. Выступая, Илья Григорьевич внушал: не слушайте досужих ученых, которые требуют от вас учебы у фольклора. Фольклор кончился, как только появилась письменность. Не доверяйтесь и тем, кто зовет вас «вперед к Пушкину!» Пушкин уже превращен в икону, ему молятся, а жизнь-то давно уже иная. И у каждого поколения свой Пушкин. Ныне владеет умами Борис Слуцкий.
Словом, выступление его продолжалось в таком же духе, который явно был рассчитан на юношеский максимализм в отношении догм и кумиров. Новая эра, названная с его легкой руки «оттепелью», так называлась его повесть, разбудила неведомые духовные силы в обществе. И он верит, что литература будущего находится в этом зале.
После него на трибуну вышла одна из студенток:
– Мы очень благодарны Илье Григорьевичу за проникновенные слова в наш адрес. Действительно, какой может быть фольклор в эпоху всеобщей грамотности?! Пушкин нам в школе уже надоел. Действительно, сегодня Борис Абрамович Слуцкий наш кумир. Именно он будит мысль, возбуждает в каждом из нас творческую энергию.
И как только она закончила свое выступление, слово попросил Володя Герасимов. Выскочив на трибуну, он обратился к залу:
– Товарищи, кого мы слушаем? Откройте последний ном советской энциклопедии под редакцией Бухарина и там прочитаете: «Илья Эренбург – враг советской власти, белоденикинское отребье».
Говорят, в этот момент Илье Григорьевичу стало плохо. Володя гневно продолжал, обращаясь к студентке:
– А о тебе я подумал, когда ты стояла за трибуной: стреляла бы ты в Ленина или нет? Так вот, когда ты сходила с трибуны, я понял: ты бы стреляла…
В зале разразился скандал.
Встреча была прекращена.
На следующий день был обнародован приказ ректора об исключении из числа студентов Герасимова за хулиганское поведение и срыв культурного мероприятия.
– И что же было дальше? – спросил я.
– А дальше мы, друзья Володи, обратились с письмом к Шолохову и Хрущеву, в котором рассказали о происшедшем. Просили помочь восстановить Герасимова в институте.
– И…
– И, как говорится, справедливость восторжествовала.
– Но, согласись, Герасимов-то вел себя по-хамски…
А Эренбург?! Что он не выглядел таким же хамом по отношению к Пушкину?!..
97
В одном из московских клубов на лестнице встретились Владимир Алексеевич Гиляровский и Александр Иванович Куприн. Последний был на хорошем веселе и поднимался из ресторации вверх по лестнице. Гиляровский же только направлялся в питейное заведение. Увидев старого доброго знакомого, Куприн попросил:
– Гиляй, скажи что-нибудь веселенькое, а то на душе кошки скребут.
– Ты помнишь стихотворение Блока «Незнакомка»? – спросил Владимир Алексеевич у Куприна.
Куприн вскинул голову, наморщил лоб, изображая попытку припомнить блоковское стихотворение.
Но Гиляровский тут же прочитал:
…А рядом, у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vina veritas» кричат…
– А, помню, помню, – засмеялся Куприн. – Ну как же… Истина в вине.
– Вот именно, – подтвердил Гиляровский.
– Хорошо сказано, Гиляй, – одобрил Куприн. – Хорошо.
– А теперь слушай, – остановил его Владимир Алексеевич:
Если истина в вине,
Сколько ж истин в Куприне?..
98
В октябре 1972 года меня пригласил к себе в редакцию журнала «Молодая гвардия» Анатолий Степанович Иванов, которого утвердили в должности главного редактора, и предложил стать его заместителем.
Для меня предложение было полной неожиданностью. И я попросил время на раздумье.
– Его уже нет! – улыбнулся Анатолий Степанович. – Ну, ладно!
Жду завтра в это же время с ответом….
При встрече с Ивановым на следующий день я промямлил что-то вроде отказа.
– Ну что ж, вздохнул он. И после паузы: – Вот так нашего брата все и происходит. Шумим, друг другу жалуемся, что нас-де не печатают, нам не доверяют. А как до дела: бери в свои руки журнал, публикуй то, что считаешь заслуживающим того, – тут же в кусты, тут же на попятную…
И этими словами, до сих пор отчетливо звучащими в памяти, он сразил меня…
На второй или на третий день моего пребывания в кабинете заместителя главного редактора утром я услышал стук в дверь. Затем дверь открылась и на пороге появился высокий седой человек. Густым басом представился:
– Бывший красный партизан, певец Дровянников.
– Очень приятно! Чем могу быть полезен?
– Хочу опубликовать у вас в журнале воспоминания о Шаляпине. Сердце у меня так и екнуло: «Вот повезло!» Но, стараясь не выдавать радости, спросил:
– А вы с ним встречались, вместе где-то жили или общались какое-то время?
– Да, был у него в Париже.
– В каком же году? – спросил я, уже проверяя достоверность «воспоминаний».
– В тридцать шестом.
Шаляпин был еще жив, но уже не очень здоров. Через два года его не стало.
– И что же? – обратился я к Дровянникову.
– Пришел к нему. Но слуга сказал, что Федор Иванович принимают ванну и попросил меня подождать.
Больше часа сидел я в прихожей.
Потом из ванной вышел Шаляпин. В халате, полотенцем перевязана голова. Подошел ко мне и спросил: «Поешь?» Я ответил, что пою. «Ну и пой!» – сказал Шаляпин и ушел к себе.
– Ну, а потом-то вы встретились с Федором Ивановичем?
– Да нет, – ответил Дровянников. – Не довелось. Ну, как, пойдут мои воспоминания?
– Видите ли, – осторожно начал я. – Это скорее не воспоминания, а всего лишь курьезный, забавный случай. Воспоминания предполагают хорошее знание человека или же мимолетные встречи с ним но такие, в которых интересный и известный человек открывается неожиданными сторонами своего характера или своего таланта.
– Ясно, – спокойно подытожил Дровянников. – Тогда, может, я выступлю у вас? Аудитория-то у вас кака?
– Да в основном все с высшим образованием.
– Ну тогда для начала «О скалы грозные», а там, как пойдет, – гремел голос Дровянникова.
– Видите ли, – опять начал я извинительно, – вряд ли у нас состоится встреча. Дело в том, что многие наши сотрудники находятся в командировках и собрать коллектив не удастся.
– Ну что ж. Тогда извиняйте!
Дровянников встал, поклонился и вышел из кабинета…
Через некоторое время у меня зазвенел телефон.
По голосу узнал заместителя главного редактора журнала «Сельская молодежь» Станислава Романовского:
– Аудитория-то у вас кака?..
99
Эту историю я вспомнил, когда оказался во главе группы авторов «Молодой гвардии», ехавшей на встречи с будущими подписчиками журнала. Раньше практиковалась пропаганда журнала в период подписной кампании. Выступали перед различными аудиториями того или иного региона, агитируя подписаться именно на наше издание.
Каждый из литераторов, конечно же, имел определенные «домашние заготовки»: то ли короткий спитч, то ли новеллку, то ли рассказ о реальном случае. А что делать мне, критику? И я, вспомнив о встрече с Дровянниковым, тоже выступал с рассказом, который назвал «Как я становился редактором»…
Долго не соглашался я занять место заместителя главного редактора в журнале.
– Да чего ты боишься?! – убеждал меня главный редактор. – Ничего особенного в редактировании нет. Читаешь текст. Если чего не нравится, вычеркивай.
– И все?!
– И все…
И вот я сижу в кабинете. Слышу стук в дверь.
После моего «войдите» в кабинет вошел почтенный старец в сюртуке, с бабочкой на накрахмаленной манишке. Я поднялся навстречу. Он протянул руку:
– Тютчев Федор Иванович.
– Очень приятно. Чем могу быть полезен? – спросил я.
– Да вот хочу предложить стихи в ваш журнал.
И протянул мне отпечатанный на машинке лист со стихами.
В правом верхнем углу стояли две буквы – КБ.
– Это что же, «конструкторское бюро»? – поинтересовался я.
– Да нет. Это тайное посвящение.
– Извините, я сейчас прочитаю и выскажу свое мнение, – попросил я разрешения у Федора Ивановича.
И я стал читать стихи:
Я встретил вас, и все былое
В отжившем сердце ожило.
Я вспомнил время, время золотое
И сердцустало так тепло.
Так поздней осени порою
Бывает день, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас…
Дочитав стихи до конца, я сказал:
– Федор Иванович, я бы предложил вам такую редактуру: «Я встретил вас и все…» Остальное, право слово, ничего не добавляет к сказанному. Вы согласны?
После непродолжительной паузы Федор Иванович произнес:
– Ну что ж… Я, пожалуй, соглашусь. Хоть в таком виде пусть увидят свет эти дорогие мне строки. А то куда ни ходил, всюду отклоняют, не объясняя почему…
Проводив посетителя, я пошел к главному редактору, чтобы показать ему «плоды» собственного редактирования.
Глянув на стихи, он одобрительно сказал:
– Ну вот, видишь, а ты сомневался. Молодец! Неплохо поработал над текстом. Правда, еще детали не чувствуешь. Но это придет.
– А в каком смысле не чувствую?
– Да вот в строке «Я встретил вас» зачем тут это лишнее слово «встретил»? Просто и проще так: «Я вас – и все»…
100
Михаил Матвеевич Годенко, продолжая свои рассказы-воспоминания из жизни редакции журнала «Октябрь» упомянул имя Елизария Юрьевича Пупко, писавшего под псевдонимом Елизар Мальцев. Его перу принадлежал популярный в пятидесятые годы роман «От всего сердца», о котором позднее автор говорил, как о произведении слабом, лакирующем действительность.
И хотя в последующие годы он вроде бы «исправился» и уже не прибегал к элементам украшательства в романах «Войди в каждый дом», «Белые гуси на белом снегу», они ему известности не добавили.
Так вот Елизарий Юрьевич работал в журнале «Октябрь» заведующим отдела прозы.
И о нем однажды Федор Иванович Панферов, главный редактор, сказал так:
– Елизар, как щенок. Ластится, ластится возле ноги. А потом глядь – его нет, а штанина обосцана…
101
Встретил как-то на Кузнецком мосту возле книжной лавки писателей Владимира Алексеевича Чивилихина. С ним я был знаком давно. Познакомил нас Иван Григорьевич Падерин. К моменту нашего знакомства Владимир Алексеевич был уже автором повести «Про Клаву Иванову», его очерковые книги «Месяц в Кедрограде», «Светлое око Сибири» вызывали в периодике споры по проблемам освоения природы Сибири, рационального хозяйствования на земле. Был он членом редколлегии журнала «Молодая гвардия».
Его адресная любовь к Сибири была естественной. Там он родился. Там, на станции Тайга, прошло его детство. Об этом он не раз рассказывал в своих книгах, включая и наиболее известный роман-эссе «Память», который окончательно утвердил его имя в отечественной литературе…
И вот мы на Кузнецком мосту.
После традиционных вопросов о житье бытье, какие задаются в таких случаях, Владимир Алексеевич вздохнул:
– Вот хочу познакомить тебя с образцом чуткого и доброго отношения русских писателей друг к другу.
Он вытащил из кармана конверт, достал оттуда письмо:
– От Василия Ивановича Белова.
В нем известный автор «Привычного дела» и «Канунов» и книги «Лад» выговаривал Чивилихину за то, что тот почему-то запамятовал о тех кощунственных разрушениях культовых строений, какие происходили в двадцатых годах в большевистской России. Такова-то ваша, мол, память Чивилихин?!
– Но я тоже не остался в долгу, возвращая письмо в конверт и пряча его в карман, говорил Владимир Алексеевич. – Тоже написал ему, что далеко не все ладненько было в русской истории и в русской деревенской жизни, как то выходит у Василия Ивановича Белова. Все-то у него лад да ладушки…