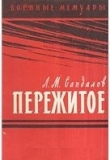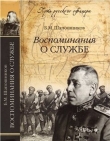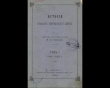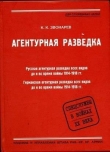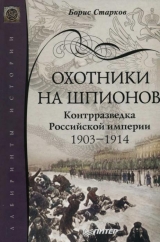
Текст книги "Охотники на шпионов. Контрразведка Российской империи 1903—1914"
Автор книги: Борис Старков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
По своему служебному положению он имел доступ к секретным документам и знал, что иностранная разведка готова заплатить за них хорошие деньги. Подполковник Гримм стал предателем по собственной инициативе. Предательство среди русских офицеров в Российской империи всегда было редчайшим явлением. Однако этот человек был исключением. Он заранее заготовил письмо с предложением своих услуг и решил лично отвезти его в Берлин. Позднее на допросе Гримм заявил, что ему судьбой было предопределено стать шпионом.
Летом 1896 г. он отправился в Германию. В Берлине Гримм нашел здание Генерального штаба и долго объяснял швейцару, что желает встретиться с офицером, говорящим на русском языке. После длительных препирательств, так как Гримм не знал иностранных языков, его приняли представители германской разведывательной службы. Старший из них выслушал его предложение и сообщил, что германский Генштаб охотно воспользуется его услугами. Новоявленному шпиону вручили 10 тыс. марок и взяли обещание выслать по условленному адресу все, что он сможет достать в ближайшее время. Ему вручили перечень документов, которые необходимо добыть. В первую очередь немцев интересовали карты укрепленных районов, стратегические сведения, информация о крепостях и о русской агентуре в Германии. По занимаемой им должности старшего адъютанта инспекторского отделения Гримм попросту не имел доступа к подобной информации, однако разуверять своих новых хозяев он не стал. Копии документов ему готовили писари штаба, считавшие, что выполняют казенную работу. «Гонорары» за выполненные задания он получал через банкирские конторы Вавельберга в Варшаве и Петербурге.
Для германской разведки Гримм явился весьма ценным агентом. В секретных агентурных списках он значился под номером два. В 1899 г. хозяева потребовали от Гримма подлинники подробных отчетов по всем отраслям деятельности военного ведомства за год. Это были так называемые «Всеподданнейшие доклады по военному министерству» и «Расписание сухопутных войск». На этот раз шпион прихватил с собой для маскировки жену. 15 июля он прибыл в Берлин. История снова повторилась. Через швейцара вновь вызвали первого попавшегося офицера, который отвел его прямо к начальнику «русского отделения». Документы, доставленные Гриммом, произвели на немецких разведчиков сильное впечатление. За привезенную информацию предатель получил 6 тыс. марок и новое задание: немцам требовались топографические карты и фотоснимки ряда железнодорожных станций. Гримм тут же потребовал аванс в размере 2 тыс. марок.
Однако эти деньги очень быстро кончились, и Гримм решил пойти на очередную авантюру: выйти на связь с австрийской разведкой. В конце 1899 г. он составил письмо, аналогичное берлинскому, а затем, явившись в Варшаве домой к австрийскому консулу барону Геккингу-о-Карроль, попросил срочно переправить это письмо начальнику Генерального штаба. Дипломат сам был опытным шпионом и явно опешил от такого предложения. Однако после некоторых колебаний согласился – и через пять дней вручил Гримму конверт с приглашением лично приехать в Вену для переговоров. Через неделю, взяв недельный отпуск, Гримм выехал курьерским поездом в Вену, прихватив с собой документы, которые прошли апробацию в немецкой разведке.
Прибыв вечером следующего дня в Вену, Гримм не захотел ждать, а сразу же бросился на поиски Военного министерства. Позднее на допросах он подробно и красочно расскажет о своих «мытарствах» по вечерней Вене. Лишь поздно вечером он нашел сотрудника австрийской разведслужбы майора Носека, который сразу доставил его к офицеру, ведавшему нелегальной агентурой. Им оказался Юлиан Дзиковский, который был хорошим специалистом в области конспирации. Для начала он сделал новому агенту серьезный выговор, а затем, соблюдая все правила конспирации, отвез его в гостиницу. На следующий день на встрече с начальником разведывательного отделения выяснилось, что австрийцев больше всего интересуют вопросы стратегического характера, связанные с войсками Киевского военного округа, а также планы крепостей Ивангород и Дубно, «не исключая инструкций по обучению войск, приказов по округам, копий бумаг по изменению штатов, по увеличению войсковых частей, по изменениям в дислокации и т. д.». На следующий день условились о каналах связи: для телеграмм и писем дали адрес в Вене, а документы велели отправлять через консула. Шпиону передали средства для тайнописи, а также «гонорар» за услуги, которые оценили в 5 тыс. руб.
В начале 1901 г. в Вене получили первую посылку от нового агента. Гримм активно искал связи в Киевском военном округе. Особых успехов на этом поприще он не добился, однако после его ареста около мусорной ямы во дворе штаба Варшавского военного округа был обнаружен план позиций крепости Ивангород. По месту своей службы шпион стремился получить доступ к секретной информации вне своего отделения. Прежде всего он попытался найти доступ к материалам мобилизационного отделения. При этом шпион проявил большую изобретательность. Воспользовавшись тем, что в Варшавском военном округе сменилось руководство мобилизационного отделения, Гримм предложил свои услуги для оказания помощи по приему дел подполковнику Пустовойтенко и в его отсутствие взял секретные документы и передал их для переписки трем писарям. Не меньшую изобретательность проявил он при получении совершенно секретных сведений о дислокации и численности корпусов, входящих в состав военного округа. Гримм заставлял трудиться на себя штабных писарей Кречатовича, Куриловича и др. Курилович, получив очередное задание от Гримма, как-то в сердцах воскликнул: «Удивительно, зачем это адъютанту понадобился третий экземпляр "Всеподданнейшего отчета". Уже просто надоело!»
Одновременно Гримм усилил меры предосторожности, старался реже встречаться с австрийским консулом, предпочитал деньги получать лично сам в Вене. Он договорился с австрийцами, что вся корреспонденция будет отправляться в Вену под псевдонимами «Иван», «Софи», «Рубин», «Зарубин». Главным движущим мотивом предательства Гримма оставались деньги. Он постоянно набивал себе цену, сообщая австрийским разведчикам, что у него есть сообщники в Петербурге, через которых можно получить сверхсекретную информацию. Во время своего последнего визита в Вену он привез «Инструкцию командующему войсками по управлению Варшавским военным округом» и «Секретную часть всеподданнейшего отчета командующего войсками за 1899 г.». Очередной гонорар составил 12 тыс. руб. Однако начальник австрийской разведслужбы потребован съездить в Петербург. Гримм срочно выехал и попытался установить связи с офицерами Главного штаба.
На службе дела шли хорошо. Командующий войсками Варшавского военного округа представил его к награде за усердный труд, однако Главный штаб это ходатайство отклонил, и Гримм собирался выяснить причины в наградном отделении. К тому же он собирался приобрести доходное имение, которое продавалось по дешевой цене неким Гольдштейном. Гримм запросил со своих венских хозяев 30 тыс. руб., заверив их, что дела идут хорошо. Однако деньги на банкирскую контору Вавельберга не поступали. Хуже дела обстояли в личной жизни. Обострились отношения с женой и любовницей Серафимой Бергстрем, которая выполняла роль связной и уже несколько раз перевозила в Вену материалы, собранные Гриммом.
К этому времени русской разведке в Вене удалось завербовать одного из сотрудников австрийской разведки. Именно этот агент сообщил, что в штабе Варшавского военного округа действует австрийский шпион. Однако настоящей фамилии предателя он не знал. Гримм об этом не подозревал и продолжал собирать информацию для отправки в Вену. Неожиданно напомнили о себе сотрудники германской разведки. Ее сотрудники напомнили об авансе и предложили встретиться у германского вице-консула между 2 и 5 марта 1902 г. Для немцев Гримм специально отложил два документа, подготовленных для передачи австрийцам. Однако на этот раз передать документы не удалось.
Обстоятельства сложились так, что через Варшаву должен был проехать наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, и поэтому австрийский МИД дал указание консулу воздержаться от сношений со своей секретной агентурой. Гримм ничего не знал об этом. Он подготовил документы и письмо, в котором просил 8 тыс. руб. за свои услуги. Однако барон Геккинг-о-Карроль принять пакет отказался. Гримм приходил к консулу семь раз и каждый раз получал вежливый отказ. В конце концов он оставил пакет у дворника. Только после этого консул согласился принять своего агента вечером 28 января. Визит эрцгерцога должен был к этому времени завершиться.
Однако тем временем русский агент из Вены сообщил, что шпион, разыскиваемый в России, отправил из Петербурга в конце ноября телеграмму в Вену. Началось расследование, которое возглавил сам начальник штаба Варшавского военного округа. Поскольку до 1906 г. специальных контрразведывательных отделений в штабах военных округов не было, то его проводили сотрудники отчетного отделения при участии полиции и жандармов. Начальник штаба округа срочно выехал в Петербург. В ходе расследования выяснилось, что в гостинице «Гранд-отель № 2» в день отправки 28 ноября останавливался Эмиль Рупп, прибывший из Варшавы с интендантским чиновником А. Фетисовым. Как выяснилось, они были привезены в гостиницу подполковником, приметы которого позволили опознать А. Н. Гримма. За ним было установлено тайное наблюдение.
Одновременно пришло сообщение от русского агента из Вены. Он информировал, что в Вену приезжала некая дама, которая доставила в Военное министерство подлинники русских секретных документов. Они были перефотографированы. Агенту удалось даже раздобыть фотографию неизвестной русской дамы, которая была переслана начальнику штаба Варшавского военного округа. Сотрудники департамента полиции установили, что это фотография Серафимы Бергстрем. Гримм об этом ничего не подозревал. 28 января он не пришел на встречу с австрийским дипломатом, поскольку был приглашен на охоту. Они встретились только 12 февраля. На этой встрече Гримм узнал, что ответа из Вены дипломат не получил, а 28 января у него был некий Мюллер, который мог доставить посылку. Майор Эрвин Мюллер являлся в это время австрийским военным агентом в России. Это был крупнейший австрийский разведчик, флигель-адъютант австрийского императора. Австрийский консул особо подчеркнул, что Мюллер ждал Гримма и очень хотел его видеть. В настоящее время он находится в Петербурге, и Гримм может передать ему письмо через консула.
Гримм очень быстро подготовил очередную посылку. В письме он жаловался на консула и просил денег за высланные ранее «Всеподданнейшие доклады по военному министерству» за 1899 и 1900 гг. К письму было приложено «Расписание о новобранцах последнего призыва». 17 февраля Гримм пришел в консульство за ответом, но получил только запечатанный пакет. В нем оказались 5 тыс. руб. и возвращенные доклады по военному министерству за 1899 и 1900 гг. Это было последнее, что удалось сделать Гримму. 20 февраля 1902 г. в 3 часа дня А. Н. Гримм был арестован. Практически одновременно были арестованы Серафима Бергстрем, Рупп, Фитисов и писари штаба округа. Все они были заключены под стражу в 10-й павильон Александровской крепости Варшавского военного округа.
Гримм сознался сразу же и стал давать показания. Впрочем, улик против него было достаточно. Во время допросов он каялся, плакал, делал заявления о своих патриотических чувствах. Он категорически отрицал соучастие Серафимы Бергстрем, ясно понимая, что чем шире круг сообщников, тем тяжелее наказание. Доказать виновность Бергстрем не удалось, и в конце концов дело против нее было прекращено. Во время следствия была полностью доказана невиновность Руппа, Фитисова и писарей штаба округа. Австрийский консул Геккинг-о-Карроль и военный агент майор Эрвин Мюллер были в ультимативном порядке высланы за пределы России. В последнем «мы потеряли энергичного и толкового работника», с горечью констатировал глава австрийских спецслужб. По свидетельству начальника Разведывательного бюро австрийского Генерального штаба Макса, Ронге, «в 1902 г. разведывательной деятельности против России был нанесен тяжелый удар». Разоблачение А.Н. Гримма совпало по времени с вербовкой сотрудника австрийского разведывательного отделения Альфреда Редля. Можно предположить, что именно он пресек губительную деятельность русского иуды.
Следствие проводилось под личным контролем военного министра А. Н. Куропаткина. Оно вскрыло серьезный ущерб, нанесенный деятельностью Гримма русской армии. Документы, переправленные в Вену и Берлин, содержали важную секретную информацию об организации, мобилизационных способностях русской армии. Успешной работе шпиона во многом способствовал плохой контроль за хранением документов секретного делопроизводства. Частным определением военного министра начальнику Штаба Варшавского военного округа предлагалось навести здесь порядок.
Вина Гримма была полностью доказана, и предателя ожидал суровый приговор. По существующему российскому законодательству смертный приговор мог быть вынесен только в случае, когда российский подданный «будет возбуждать какую-либо иностранную державу к войне или иным неприязненным действиям против России или с тем же намерением сообщать государственные тайны иностранному правительству». В действиях Гримма не было обнаружено намерения подтолкнуть Австрию к войне с Россией, и поэтому казнить его было нельзя. 30 мая 1902 г. состоялось заседание Варшавского военно-окружного суда. По его решению подполковник армейской пехоты, старший адъютант Штаба Варшавского военного округа А. Н. Гримм был приговорен к лишению воинского звания, дворянского достоинства, чинов, орденов и всех прав состояния, исключен из военной службы и сослан на каторжные работы сроком на 12 лет. Приказ об этом по войскам Варшавского округа был объявлен 27 июня 1902 г.
Последствия от ущерба, нанесенного деятельностью предателя, были ликвидированы. Тем не менее разразившийся скандал подтолкнул руководство Военного министерства Российской империи принять конкретные организационные меры. Речь идет о создании специальной службы военной контрразведки для противодействия иностранному военному шпионажу.
Военным министром России с 1898 г. был генерал от инфантерии, генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, прошедший хорошую разведывательную подготовку. Он происходил из небогатой дворянской семьи, закончил Павловское военное училище и проходил воинскую службу в Туркестане. В составе 1-го Туркестанского стрелкового батальона А. Н. Куропаткин отличился при штурме Самарканда во время бухарского похода. После окончания Академии Генерального штаба по первому разряду был отправлен в командировку в Германию, Францию и Алжир, принимал участие в Алжирской экспедиции французских войск. После возвращения в Россию Куропаткин был переведен в Генштаб и направлен в Туркестанский военный округ, где принимал участие в подавлении Кокандского восстания. Во время русско-турецкой войны был начальником штаба 16 пехотной дивизии, которой командовал генерал М. Д. Скобелев. С 1878 г. заведовал Азиатской частью Главного штаба и одновременно был профессором кафедры военной статистики Академии Генштаба. В 1879-1883 гг. командовал Туркестанской бригадой в Средней Азии, был начальником Туркестанского отряда в Ахал-Текинской экспедиции. В составе войск под общим командованием М. Д. Скобелева особенно отличился при штурме крепости Геок-Тепе. Затем в течение восьми лет был начальником Закаспийского края, основал там несколько городов, содействовал развитию земледелия, промышленности и торговли. При его участии были открыты русские школы и проведена судебная реформа. Он был хорошим администратором, отличался большой личной храбростью, вдумчивостью и обстоятельностью при принятии решений – порой это граничило с нерешительностью. Хорошо знавший его прославленный русский полководец М. Д. Скобелев дал ему такой совет: «Помни, что ты хорош на вторые роли. Упаси тебя Бог когда-нибудь взять на себя роль главного начальника, тебе не хватает решительности и твердости воли… Какой бы великолепный план ты ни разработал, ты никогда его не сумеешь довести до конца».
В 1886 г. генерал-майор А. Н. Куропаткин был направлен в секретную командировку в Турцию для сбора сведений о турецких укреплениях на Босфоре. Впоследствии он вспоминал об этом: «Сведения о босфорских позициях в Главном штабе были недостаточны. Работа для пополнения их и определения, какими минимальными силами можно ограничиться при занятии нами Босфора, по воле государя была поручена мне, но она требовала большой тайны, поэтому пришлось принять на себя "для пользы службы" роль секретного агента, или попросту шпиона. Работы нужно было производить только переодетым, с фальшивым именем. Поимка такого лица с чертежами турецких укреплений привела бы в Турции к быстрой расправе – виселице. Заступничества нашего посла в Константинополе не следовало ожидать: он даже не должен был знать о моей командировке. Я мог надеяться (и то не на защиту в случае поимки, а на помощь при работах) на нашего военного агента в Константинополе генерала Филиппова и его помощника подполковника Чичагова, к тому же с первым можно было видеться только секретно».
Куропаткину был выдан паспорт на имя коллежского асессора Александра Николаевича Ялозо, подписанный генерал-губернатором Петербурга Д. Ф. Треповым. На Босфоре он должен был появиться в качестве скупщика скота. Прикрытие этой миссии осуществлял секретный агент Ахмет Заиров. Секретная миссия генерала Куропаткина завершилась успешно.
Его деятельность на посту военного министра была сопряжена с попытками реформирования русской армии, которые воспринимались в правящих кругах с большой настороженностью. Он хорошо понимал значение разведывательной и контрразведывательной деятельности в обеспечении главных задач укрепления национальной безопасности России. Угрозы для России с Запада ассоциировались в его представлении с деятельностью Германии, а с Востока – с усиленной милитаризацией Японии.
Создание российской контрразведки долгое время приписывалось и продолжает приписываться в зарубежной литературе деятельности германских спецслужб. Ее организатором нередко называли даже легендарного Вильгельма Штибера. Он на самом деле в 1858-1863 гг. работал одновременно на Пруссию и на Россию, уделяя особое внимание слежке за оппозиционными российскими политиками, которые выезжали из России за рубеж. Однако он никогда не являлся организатором российских спецслужб, а скорее наоборот, талантливо использовал их опыт. Факты свидетельствуют, что отечественная контрразведка создавалась усилиями наиболее талантливых сотрудников Военно-ученого комитета Главного штаба русской армии и Департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи.
20 января 1903 г. военный министр А. Н. Куропаткин направил на имя Николая II подготовленную в канцелярии Военно-ученого комитета докладную записку с обоснованием создания нового секретного подразделения военного ведомства. В ней говорилось, что «совершенствующаяся с каждым годом система боевой подготовки армии и предварительная разработка стратегических планов на первый период кампании приобретают действительное значение лишь в том случае, если они остаются тайной для предполагаемого противника. Поэтому делом первостепенной важности является сохранение этой тайны и обнаружение деятельности лиц, выдающих ее иностранным правительствам. Между тем раскрытие этих государственных преступлений являлось делом чистой случайности, результатом особой энергии отдельных личностей или стечением счастливых обстоятельств, ввиду чего является возможным предположить, что большая часть этих преступлений остается нераскрытыми и совокупность их грозит существенной опасностью государству в случае войны».
Как опытный военный разведчик, А. Н. Куропаткин считал, что возложить розыск лиц, занимающихся шпионажем, на Департамент полиции невозможно по следующим причинам: «во-первых, потому, что названное учреждение имеет свои собственные задачи и не может уделить на это ни достаточно сил, ни средств, во-вторых, потому, что в этом деле, касающемся исключительно военного ведомства, от исполнителей требуется полная и разносторонняя компетентность в военных вопросах».
Поэтому военный министр полагал целесообразным создать в составе Главного штаба Военного министерства специальную структуру, которая специально занималась бы розыском иностранных шпионов и изменников по двум направлениям: руководящему и исполнительному. Руководящее направление предполагало вскрытие вероятных путей разведки иностранных государств, а исполнительное – непосредственное наблюдение за этими путями. «Деятельность сего органа должна заключаться в установлении негласного надзора за обыкновенными путями тайной военной разведки, имеющими исходной точкой иностранных военных агентов, конечными пунктами – лиц, состоящих на нашей государственной службе и занимающихся преступною деятельностью, и связующими звеньями между ними – иногда целый ряд агентов, посредников в передаче сведений…»
В составе такого органа, по мнению Куропаткина, должны находиться военные специалисты, хорошо знающие организацию военных учреждений в России, а также специалисты по тайному розыску, попросту агенты-сыщики.
В соответствии с этим он предлагал учредить при Главном штабе особое Разведочное отделение, поставив во главе его начальника отделения в чине штаб-офицера, делопроизводителя в чине обер-офицера и писаря. «Для непосредственной сыскной работы сего отделения полагалось бы воспользоваться услугами частных лиц – сыщиков по вольному найму, постоянное число коих, впредь до выяснения его опытом, представлялось бы возможным ограничить шестью человеками».
Официальное учреждение такого органа представлялось невозможным, поскольку терялся главный шанс успешности его деятельности: тайна его существования. «Поэтому было бы желательно создать проектируемое отделение, не прибегая к официальному учреждению его…» По этим соображениям в официальной структуре ГУ ГШ Разведочное отделение отсутствовало, а для личного состава предполагались следующее официальное наименование должности: «стоящие в распоряжении начальника Главного штаба». Далее, предполагалось назначить содержание начальнику отделения «такое же, какое получают начальники прочих отделений Главного штаба». Совокупные расходы на содержание всего отделения должны были составить 27 600 руб. в год. Изложенные меры представлялось желательным привести в исполнение по возможности безотлагательно. Уже на следующий день, 21 января, на документе появилась резолюция Николая II: «Согласен». Начало российской контрразведывательной службе было положено.
Разведочное отделение создавалось в обстановке строгой секретности. Никто не знал даже адреса, по которому располагалось помещение управления первой российской контрразведки. Впервые адрес «Таврическая, д. 17» прозвучал в ходе работы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства «по расследованию противозаконных действий бывших царских министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц». Основным районом деятельности определялся Петербург и его окрестности. Ведь именно здесь находились главные объекты внимания иностранных разведок, были размещены посольства и военный атташат иностранных государств, а также многочисленные торговые, финансовые и прочие представительства иностранного капитала. Приоритетными становились задачи «охранения военной тайны и обнаружения лиц, выдающих ее иностранцам».
В отечественной историографии советского периода руководители отечественных спецслужб Российской империи изображались в отрицательном свете. Как правило, это были недалекие, малообразованные люди, не способные эффективно решать поставленные задачи. Однако подробное знакомство с биографиями этих людей позволяет серьезно усомниться в правильности такого утверждения. Первым руководителем Разведочного отделения стал ротмистр Отдельного корпуса жандармов, начальник Тифлисского охранного отделения Владимир Николаевич Лавров. Его хорошо знали в Военно-учетном комитете, поскольку его подразделение тесно взаимодействовало с офицерами-разведчиками штаба Кавказского военного округа и активно вело борьбу со шпионажем.
Он родился в 1860 г. в небогатой дворянской семье в Петербурге. В его личном деле значилась сухая канцелярская запись; «Не имеет недвижимого имущества, родового или благоприобретенного, ни он, ни его жена». В 1888 г. он поступил во 2-е Константиновское военное училище, которое закончил в августе 1890 г. и был направлен для дальнейшего прохождения службы во 2-й конный полк Забайкальского казачьего войска. В 1894 г. он сдает предварительные экзамены в Петербургскую военно-юридическую академию, однако в связи с отсутствием вакансий возвращается в полк и принимает решение перейти на службу в Отдельный корпус жандармов. Для этого необходимо было закончить специальные курсы.
Однако поступить на курсы жандармских офицеров было непросто. Для перевода в Отдельный корпус жандармов требовалось выполнение следующих условий: быть потомственным дворянином, окончить военное или юнкерское училище по первому разряду, иметь трезвое поведение, не быть католиком и даже женатым на католичке, не иметь долгов и пробыть в строю не менее 6 лет. Тот, кто удовлетворял этим требованиям, допускался к предварительным испытаниям (устным и письменным) в штабе корпуса для занесения в кандидатский список, а затем должен был прослушать четырехмесячные курсы и выдержать выпускной экзамен. Только после этого экзамена офицер высочайшим приказом переводился в Отдельный корпус жандармов.
Вместе с Лавровым на испытания прибыли 40 офицеров различных родов войск. Не без внутреннего трепета входили они в дом у Цепного моста, напротив церкви Святого Пантелеймона. Все казалось там таинственным и странным. Строгими экзаменаторами были старшие адъютанты штаба корпуса при участии представителя Департамента полиции. Председателем приемной комиссии был сам начальник штаба Отдельного корпуса жандармов. Наибольшей проверке подвергались политическая благонадежность и денежное состояние. На устном экзамене кандидатам задавали всевозможные вопросы о последних реформах, об общественных организациях, их функциях и взаимоотношениях, о государственном устройстве Российской империи. Современники рассказывали, что задавали и такие вопросы: «Вы курите? – Курю. – Сколько спичек помещается в коробке?» Или такие: «В винт играете? – Играю. – Что нарисовано на тузе бубен?» Если офицер затруднялся ответить на такие вопросы, ему говорили: «У вас нет наблюдательности». И экзамен был провален. После устного экзамена кандидату предлагали написать сочинение, как правило, на историческую или юридическую тему, звучавшую примерно так: «Значение судебной реформы императора Александра II». Так или иначе, но современники отмечали, что основными мотивами перевода были большее денежное содержание и большая самостоятельность.
В конечном итоге на курсы В. Н. Лавров поступил – и новый век встретил уже в должности помощника начальника Тифлисского губернского жандармского управления (ГЖУ). Подразделение Лаврова активно взаимодействовало с офицерами-разведчиками штаба Кавказского военного округа и вело активную борьбу со шпионажем. К лету 1902 г. он уже зарекомендовал себя как опытный оперативный работник, и на его мундире ротмистра красовались два ордена – российский Св. Станислава и персидский Льва и Солнца, в отношении которого действовала следующая резолюция вышестоящего начальства: «Высочайше разрешено принять и носить».
4 июня 1903 г. приказом № 63 по Отдельному корпусу жандармов Лавров был переведен в Петербург в распоряжение начальника Главного штаба русской армии. Одновременно с ним из Тифлисского охранного отделения в Петербург переводились два опытных наружных наблюдательных агента: запасные сверхсрочные унтер-офицеры Александр Зацаринский и Анисим Исаенко, а позднее старший наблюдательный агент губернский секретарь Перешивкин. Они прибыли в Петербург во второй половине июня и в конце того же месяца приступили к исполнению своих обязанностей по создании наружной агентуры Разведочного отделения.
С самого начала они столкнулись с серьезными трудностями, главная из которых заключалась в строгой конспирации как самой организации, так и характера ее работы. Первый набор сотрудников отделения был сделан из числа преданных и рекомендованных охранными отделениями людей. Из семи рекомендованных трое оказались несоответствующими и были уволены.
Однако вскоре выяснилось, что для выявления шпионов и предателей организации одного наружного наблюдения явно недостаточно. В помощь наружному наблюдению была необходима внутренняя агентура, в обязанности которой входили работа в квартирах подозреваемых лиц, правительственных учреждениях, а также контроль за перепиской подозреваемых лиц.
Начало XX в. ознаменовалось ростом политической активности различных социальных групп в России. Весной 1902 г. произошли крупные волнения крестьян в Полтавской и Харьковской губерниях, а в апреле членом Боевой организации эсеров Степаном Балмашевым был убит министр внутренних дел Д. С. Сипягин. Новым министром внутренних дел и шефом жандармов стал В. К. Плеве, имевший опыт работы в Департаменте полиции в 1880-е гг., когда под его руководством была разгромлена «Народная воля». Началась реорганизация секретной полиции.
Новый министр пригласил на должность директора Департамента полиции весьма популярного прокурора Харьковской судебной палаты А. А. Лопухина, а заведующим Особым отделом Департамента полиции стал С. В. Зубатов. Это была одна из самых крупных величин в русской секретной службе политического сыска. Именно он разработал проект создания в главных городах Российской империи специальных оперативно-розыскных органов секретной полиции, так называемых «розыскных отделений», переименованных впоследствии в «охранные отделения». По Положению, утвержденному В. К. Плеве, они прикомандировывались к местным ГЖУ, а в оперативном подчинении оставались за Департаментом полиции.
В Отдельном корпусе жандармов и особенно в штабе эту реформу приняли крайне недружелюбно. Появилась даже специальная кличка для части офицеров – «департаментские» или «охранники». В. Н. Лавров стал одним из первых «департаментских». Он был назначен первым начальником Тифлисского розыскного отделения.