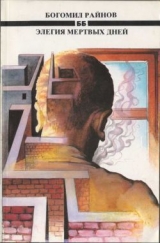
Текст книги "Элегия мертвых дней"
Автор книги: Богомил Райнов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Когда перед тем, как вышвырнуть на свалку все эти юношеские творения, наскоро пролистаешь их, они кажутся похожими на жилые дома, что выглядят довольно пристойно издали, совсем издалека, а на самом деле разваливаются – у них перекошены стены и потолки, двери и окна, которые не закрываются, в них развороченные лестницы и вздыбившиеся полы, все слеплено, состряпано абы как, без любви к тем, кто будет здесь жить, даже без любви строителей к самим себе. Неряха думает, что работа шаляй-валяй ему лишь на пользу, что она экономит ему силы и время, на самом же деле она обкрадывает его, обращает его силы и время в прах, лишает его самой сокровенной и дорогой радости – радости созидания, чтобы взамен подбросить горечь упреков нечистой совести, если вообще в нем остается хоть какая-то совесть.
Конечно же, ты пытаешься не опускаться до уровня неряхи, но в то же время успокаиваешь себя, что было бы слишком требовать особой оригинальности от статьи или доклада. Тогда и возникает удобная рабочая формула: мол, оригинальность ныне не в почете, к тому же нередко вызывает подозрение. Оригинальность, говорил ты себе, прибережем для второй фазы трудов на этом поприще, важнейшей для поэзии фазы.
Вот только беда в том, что невозможно одну половину работы делать как бог на душу положит, а вторую – на образцовом уровне. Беда в том, что порочные трудовые навыки, воспринятые однажды, дают о себе знать и там и тут, разве что не всегда в одинаковой степени.
К счастью или к несчастью, но напевный ритм стихов в те годы все чаще захлебывался у тебя. Поначалу это тебе казалось странным, беспокоило: как будто едешь в поезде, но не слышишь стука колес. Такая тишина давненько тебя не жаловала. Потом ты решил, что это явление вполне естественное. Некоторые критики принялись объявлять любой интимный мотив субъективизмом, любую ноту скорби декадентством, а всякое неординарное сравнение метафороманией. Ряд критиков вещал, что ты и другие представители твоего поколения не могли подобрать новый тон для описания нового. И самое ужасное – ты сам начинал им верить, привыкал к тишине, наступившей внутри тебя, свыкался с мыслью, что вторая часть творческих свершений отодвигается на неопределенный срок.
Такое положение вещей объясняет продолжительную паузу, но не оправдывает небрежность. Небрежность же хорошо известна тебе с давних пор, со времени самых ранних стихов. Образы в них представлялись тебе плотными и яркими, ритм еще ненаписанных строф звучал увлекающе и властно, но когда наступал черед марать бумагу, ты запинался, путал слова, заменял одни фразы другими, легковесными и ни на что не годными, заполнял дребеденью открывавшиеся пустоты, делал уступки ритму и рифмам и в отчаянии, что не можешь добиться точности, удовлетворялся приблизительностью.
Важно выплеснуть все от начала до конца, убеждаешь ты себя, выплеснуть, иначе оно так и останется незавершенным. Выплеснуть и оглядеть свое творение в законченном виде – тогда будет ясно, что нужно для его окончательной отделки. Хотя до отделки редко доходили руки, вероятно, из-за того, что ты родился под этим переменчивым знаком Близнецов, и уже на следующий день ты ощущал, что остыл к этому стихотворению и в голове твоей уже роятся новые образы, звучат новые призывные ритмы, обреченные, в свою очередь, пополнить завалы неудач. Они, эти неудачи, напоминали снимки, сделанные с недостаточной выдержкой или же не пролежавшие необходимое время в проявителе. Они могли бы превратиться в свежие и плотные образы в твоей голове, но вместо этого остались лишь серыми и бледными напоминаниями об очередном благом намерении.
К сожалению, проявление невидимого образа во вполне осязаемый текст рукописи порядком отличается от операции в фотолаборатории. Ведь это не механическое, а творческое действие. Вероятно, это если не самая главная, то по крайней мере самая сложная фаза процесса созидания. Замысел может просто свалиться на тебя нежданно-негаданно. Образ можно найти и там, где ты его не искал. Но законченная строфа не может родиться без упорной затраты сил. Ведь она рождается как результат преодоления конкретного материала слова, а любое преодоление есть итог усилий.
Большое искусство предполагает помимо силы таланта еще и силу характера. Художник, как и любой человек, не всегда властен поддерживать мощь своего тела. Но он обязан поддерживать силу своего духа. Или как говорил одряхлевший, давно оглохший и ослепший Гойя: „Не вижу, не слышу, не могу писать. Единственное, что мне осталось, это воля. Но ее у меня в изобилии".
Лишь упорством можно преодолеть те многочисленные препятствия, что возникают на пути претворения видения в словесный образ, это знакомо любому, для кого литература – нечто большее, нежели любительское рукоделие. И когда нам не хватает упорства, его место занимает его противоположность, потому что там, где кончается свет, не может не наступить мрак. И мы ощущаем озноб досады и отвращения – верный знак того, что в нашей груди уже свилась в клубок серая змея.
Нехватка упорства, чтобы найти образ, равнозначный яркому видению, неизбежно толкает призвать на помощь суррогаты. Тут как тут возникают шаблоны, готовые выражения, за которыми даже не приходится лезть в карман. Паразиты всегда найдут тебя сами. Они не настолько надменны, чтобы ждать особого приглашения. И ты пользуешься ими, ведь надо же чем-то пользоваться. А потом недоумеваешь, каким образом женщина твоей мечты превратилась в уличную девку.
Разумеется, в конечном итоге все начинается с видения. И хотя богатство видения тоже связано с работой, эта работа настолько своеобразна и неуловима, что тебя так и подмывает назвать ее божьим делом. Вероятно, писательство начинается именно с яркого видения или, если хотите, с дара видеть вещи немного по-своему. „По-своему" порой означает прозрение, порой искажение. И, в сущности, эти вещи – прозрение и искажение – независимо от умения, которым они были достигнуты, существуют как два потока в литературе всех эпох.
И ввиду того, что видение как смысл и образ является сердцевиной, работа сводится к нахождению его словесного эквивалента, а отнюдь не к выкапыванью слов и выстраиванью фраз, согласно принципам некоего „стиля". Стиль – если вообще можно говорить о подобном явлении – заключен уже в создании образа, и коли образа нет, то и стилю взяться будет неоткуда, он может появиться лишь как поверхностный и досадный налет.
Вспоминаю одного своего знакомого, не лишенного писательского дара. Он считался придирчивым маэстро по части стиля. Настолько придирчивым, что пережевывал часами каждую фразу, и публикация двух или трех коротких рассказов в год была для него верхом продуктивности. Логично было бы предположить, что с течением времени упорная работа над словом обернется умением значительно быстрее и легче бороться с прилагательными. Но произошло обратное.
Продуктивность постепенно упала до одного рассказа в год, но и этим дело не кончилось. В скором времени мой знакомый стал отмечать новым творением лишь високосные годы.
– Его просто тошнит от бумагомарания, – бесцеремонно комментировали одни.
– Вовсе не тошнит, просто он уже ни на что не способен, – снисходительно оправдывали его другие.
Однако мне было известно, что он все же на что-то способен и совсем его не тошнит и что, как и раньше, он неизменно с семи утра до обеда священнодействует у алтаря безупречности стиля. Но то ли виной тому был начавший развиваться старческий психоз, то ли какая другая причина, его придирчивость к слову переросла в такой изощренный педантизм, что, перерыв весь словарь синонимов и воочию убедившись, что искомого слова не существует и в помине, по крайней мере в родном языке, писатель еще долго продолжал напрягать свои извилины в суеверной надежде, что в конце концов несуществующее слово все же откроется и осенит его.
Так что, если даже отдельные слова причиняли ему подобное беспокойство, не трудно представить, какие мучения вызывали целые фразы. Завершив после двухнедельных мытарств первую страницу рукописи, беллетрист перечитывал ее раз, второй, пятый, десятый про себя, шепотом, вполголоса и наконец во всю глотку, пока полностью не убеждался, что написанное требует немедленной стилевой переработки. Ведь известно, если начнешь рассказ с фальшивой ноты, до конца не сможешь избавиться от фальши.
И вот по машинописной странице, сначала отрывочно, затем все более густо начинало плясать массивное золотое перо авторучки „Монблан". Оно носилось вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо, пока от печатных букв не оставалось и следа, а рукописные буквы громоздились, скакали одна на другой, как будто это был не текст, а какой-то цирковой аттракцион. После того, как страница перепечатывалась начисто, перо „Монблан" снова устремлялось в свой танец на углях.
Наконец, после нескольких правок и переписываний, первую страницу можно было считать вчерне готовой. Естественно, это происходило не больно легко и не так уж быстро, но все же месяцы работы текли не напрасно: стиль был найден – он не грешил ни излишней фамильярностью, ни особой официальностью, ни грубой прямотой, ни безмерной завуалированностью, не был ни претенциозным, ни досадно аскетичным, ни фельетонно ироничным, ни траурно скучным, короче говоря, он был точно таким, каким следует быть стилю солидного беллетристического опуса, призванного оставить свой след в мировой классике.
Но до торжественного момента зримого появления отпечатка этого следа было еще довольно далеко. Наступал черед второй страницы. Едва ли нужно объяснять, что перечисленные выше творческие процессы, в частности цирковые кульбиты букв и танцы пера на углях, повторялись с нарастающим размахом.
Но и на этом дело не кончалось. Едва завершив вторую страницу, писатель тщательно сравнивал ее с первой и с легко объяснимой горечью устанавливал: в стилевом звучании страниц возник определенный диссонанс. Не то чтобы диссонанс был резким. Ведь автор был достаточно зрелым мастером, чтобы допустить подобный изъян. Но все же существовал некоторый нюанс несоответствия, что-то такое… что-то едва уловимое… что-то в интонации, чем может погрешить даже великий пианист и что заставит завсегдатая концертов авторитетно процедить: „Фальшь…" – в то время, как новички вокруг в разгуле своего невежества буквально будут млеть от восторга.
И тут редактирование приходилось начинать с самого начала, и дилеммой, возникавшей перед писателем, было: изменять ли стиль первой страницы сообразно второй или же, напротив, подгонять вторую под модель первой. Тяжелая дилемма. Верное решение требовало дотошных и многочисленных сопоставлений, а также скрупулезного многоразового перечитывания то одной, то другой страницы про себя, шепотом, вполголоса, а при необходимости и во всю глотку. Наконец, и эта задача находила свое решение, которое широко распахивало перед писателем ворота для прямых словесных коррекций.
Воздержимся от прослеживания дальнейшего хода творческого процесса, становящегося все сложнее и кропотливее по мере того, как нарастало число страниц и все более властно ощущалась необходимость добиться монолитности стилевого звучания, не допустить ни малейшего диссонанса, ничего такого… ничего такого, что… что может дать умудренному читателю хоть малейший повод злорадно процедить: „фальшь…"
Лишь истинному профессионалу дано понять, с какими истощающими усилиями связано решение творческих задач подобного рода. Оно порождает необходимость в паузах для размышления, в минутах быстротечного отдыха. Но у этого непривычного к бездействию человека даже минуты отдыха получали своеобразное осмысление. Он принимался чистить свои длинные мундштуки, благодаря которым мог не расставаться с сигаретой во время работы: из-за их длины дым не попадал в глаза, не раздражал слизистую оболочку. Или заряжал авторучку, чернила в которой еще не иссякли, но существовала опасность, что в самый важный момент она может оказаться пустой. Или же обводил взглядом книжные полки и неожиданно, к своему вящему ужасу, замечал, что книги слева на второй полке расставлены не по размеру – явное свидетельство того, что вчера сын рылся в них, в связи с чем возникла явная необходимость восстановить статус-кво в компании всемирно известных имен. Или же мчался на кухню, чтобы вовремя предупредить служанку, что килограмм соли – это слегка завышенная доза для трех тарелок бульона. Или выходил поразмяться во двор. Или выпивал очередную чашку кофе. Или пользовался свободной минутой, чтобы сделать пару телефонных звонков.
– Тебе удалось добыть копривштицкие копченности? – обращался он к своему постоянному поставщику.
Тот в ответ сообщал, что пока не удалось, зато есть чудесное голландское какао.
– На кой черт мне какао? Я же поручал тебе достать копченой колбасы!
На это следовал повторный ответ, что колбасы нет, но вместо этого ему могут предложить индийские орешки.
Некоторое время разговор продолжался в духе диалога между глухонемыми, но писатель не терял ни терпения, ни творческого порыва, и нет ничего удивительного, что, даже когда речь заходила о сырокопченой колбасе, он продолжал про себя размышлять, стоит ли на пятой странице в начале третьего абзаца заменить слово „однажды" на более разговорное и менее избитое сочетание „как-то раз" или же лучше проявить большую смелость и воспользоваться устаревшим „единожды".
Короче говоря, часы с семи утра до обеда были для него неприкосновенными, полностью посвященными литературе. Однако порой по причине легко объяснимого переутомления вынужденные интермедии в эти творческие часы разрастались настолько, что мой знакомый начинал напоминать другого моего приятеля, который также придавал определенным часам статус неприкосновенности.
Упомянутый знакомый был жертвой странной аномалии набирать вес. Сам он ни в чем не мог найти объяснение этой аномалии, и его глубоко задевало, когда отдельные нетактичные люди намекали на то, что причиной может быть неумеренное потребление пищи. Тем не менее с годами аномалия не только не исчезала, но и устрашающе нарастала, что заставило моего знакомого принять стоическое решение по старому христианскому обычаю объявить пятницы днями голодания. Это позволило ему на деле убедиться в силе своего характера и утереть носы близким, обвинявшим его в обжорстве. „Вчера, когда я весь день голодал…" – любил невзначай бросить он. Или же: „Завтра, когда мне придется голодать, а, как вам известно, раз в неделю я голодаю…"
Один сердобольный врач пытался разъяснить ему, что когда говорят „голодаю", подразумевают, что без того, чтобы не нарушать диету, нельзя позволить себе отправить в рот ни кусочка яблока, ни грамма салата, ни говоря уже о чашке кофе. А знакомый начинал свою голодовку именно с чашки кофе без сахара, а так как даже ребенку известно, что этот напиток, особенно без сахара, неимоверно повышает аппетит, то он присовокуплял к кофе несколько безобидных ложек конфитюра и с пяток ломтиков кекса.
После настолько аскетического дебюта можно было спокойно продолжать голодание с присущей ему непреклонностью. Знакомый не держал ни крошки во рту вплоть до десяти часов – время упомянутого яблока. Однако известно, что яблоко возбуждает аппетит не меньше, чем кофе, а, может быть, даже и больше, так что, проглотив этот фрукт, он чувствовал, что от повысившейся кислотности его брюхо может просто треснуть. Лишь единственно по этой причине и не по какой больше скромный фруктовый сеанс продолжался небольшим противнем с печеными яблоками, щедро сдобренными сахарной пудрой для вкуса.
Критическим пунктом разгрузочного дня был, разумеется, обеденный час. Атавистический рефлекс, доставшийся в наследство от древнейших времен, звал прийти на помощь изголодавшемуся телу, которое так верно и безропотно тебе служит. Именно в этот драматический миг, знаменовавший собой временной предел в пятничном испытании, мой знакомый самым категорическим образом проявлял железную волю. И как невероятно это ни прозвучало бы для всяких там сплетников, он довольствовался всего одной-единственной тарелкой салата. Естественно, ради элементарных требований целесообразности, использовалась не плоская тарелка, с которой салат обычно разлетается во все стороны, а достаточно объемистая салатница, в которой и смешивалось немного скромных овощей: пять-шесть помидоров, два-три огурца, определенное количество маслин, не воображайте, будто счет идет на килограммы – а также (с учетом строгой гигиены желудка) несколько крутых яиц и белое куриное мясо, чья питательность, как известно, равна нулю – все это тщательно нарезано и сдобрено приправами.
С подобной неумолимостью постника мой знакомый уминал к четырем часам второй противень яблок в сахаре, перемешанных – в качестве заслуженной награды за стоицизм – с лакомыми кусочками печеной тыквы. После чего, твердый и неподкупный, он снова вставал на путь мученичества, давая себе передышку лишь к восьми часам с помощью уже упомянутой салатницы, наполненной, разумеется, уже перечисленной скудной снедью.
В его привычках было ложиться рано, точнее почти сразу по окончании передачи „Спокойной ночи, малыши!", однако в день голодания было бы истинным кощунством не подняться с постели к полуночи, дабы совсем скромно отметить очередную победу геройского духа над грешной плотью. Супруга, естественно, была осведомлена об этой его привычке, так что, когда в тишине позднего часа победитель проникал на кухню, на столе его поджидали глиняная миска с котлетами и круглый противень с отбивными, а также заботливо нарезанный слоеный пирог с брынзой и гювеч с кислым молоком, обладающим ценным свойством оказывать очищающее воздействие на организм, как будто ты ничего и не ел, – короче, полный набор всех тех маленьких радостей, которые находились под запретом на протяжении этого бесконечного разгрузочного дня.
Кто-то может возразить, дескать, мой знакомый – не постник, а писатель – всего лишь бездарность, объятая обычной мелочностью, гостеприимно встречающей нас на пороге склероза. Убежден, что дела обстоят иначе, хотя не решаюсь возражать, желая сохранить анонимность приведенных случаев. А примеров можно с лихвой почерпнуть из классики, ведь любой без труда припомнит того художника, который тридцать лет работал над одной-единственной картиной, или поэта, который всю жизнь создавал одну книгу сонетов. Но тем не менее подобные творческие муки – при том, что я не подвергаю сомнению талант тех, на чью долю они выпали, – не вызывают у меня особого сострадания.
Когда венцом долгой жизни становится одна-единственная книга, в этом нет ничего дурного, ежели книга эта обладает соответствующей ценностью. Я также допускаю, что чем стремительнее разрастается пишущая братия и становится повальным заболеванием убеждение, что „на уровень Хемингуэя как-нибудь потянем", тем ближе день, когда общество окажется вынужденным подвергнуть писателей ограничению – „одна книга за жизнь", чтобы не быть заваленным их продукцией.
А ведь и вправду: одно произведение высокого уровня – это совсем не мало. И тем не менее авторы, десятилетиями царапающие единственную свою книженцию, не вызывают у меня симпатии. Знаю: порой подобное неустанное ковыряние называют титаническим упорством, мне же оно скорее напоминает пробуксовку. Завершать в зрелом возрасте произведение, начатое в молодые годы, – это то же самое, что лепить фигуру человека с юношеским лицом и старческим сгорбленным торсом. За три десятилетия способ восприятия и переживания значительно меняется, а если этих изменений не происходит, значит, ты буксуешь на месте.
Во имя совершенства стиля Эредиа тридцать лет оттачивал и шлифовал свои „Трофеи". Результат оказался внушительным, по крайней мере согласно канонам парнасизма. В то же время Достоевский небрежностью своего стиля просто приводил критиков в отчаяние. Отдельные деятели даже намеривались засучить рукава и приняться редактировать его романы – где подтянуть фразу, где подчистить повторы, расправиться с отклонениями и излишней обстоятельственностью.
Как известно, в свое время Сомерсет Моэм грешил стилистическими изысками с целью подправить Толстого, Флобера, Стендаля, Диккенса, дабы, как он сам скромно заявлял, „их обновить и улучшить". И причина того, что он воздержался и не посягнул на Достоевского, вероятно, в том, что случай показался ему совершенно безнадежным.
Достоевский поистине обескураживает любителей компактной, синтетичной и лаконично-экспрессивной фразы. Но разве в этом вина серой змеи небрежности? Или же причиной тому лихорадочные усилия гения по возможности точнее выразить свои образы-видения? Можно ли представить того же Достоевского, который на протяжении тридцати лет, подобно портному или парикмахеру, вертится вокруг своей Неточки Незвановой, в то время как в его воображении напрасно ждут своего часа Раскольников и Соня, князь Мышкин и Настасья Филипповна, Ставрогин и Верховенский, Алеша и Иван Карамазовы?
Верно, даже Роден со своим неспокойным духом целых тридцать лет возился со знаменитыми „Вратами ада" – мечтой его жизни и крушением этой мечты. Потому что это нестройное, перенасыщенное, отступнически усложненное творение в конце концов оказалось негодным для того, чтобы украсить вход в Музей декоративного искусства. Вообще, не получились „врата". Скорее был создан какой-то Ноев ковчег. Но именно из этого Ноева ковчега на протяжении долгих лет Роден извлекал поразительных существ, родившихся в его наполненном мечтой и страданием мире, – Вечную весну и Вечного идола, Поцелуй и Боль, Адама и Еву, Минотавра и Данаиду, Теней и Мыслителя. Возможно, ошибочно задуманная Вселенная, при распаде превратившаяся в длинную вереницу удивительных шедевров, – вот что такое „Врата ада", неудача гения.
Вообще, гениям нелегко. Их постоянно страшат неудачи и непрестанно преследует мысль о собственном несовершенстве, они всегда чувствуют, что им чего-то недостает. Уже дожив до старости, Хокусай писал в эпилоге к своим „Ста видам горы Фудзи": „Я приобрел привычку рисовать формы предметов в шестилетнем возрасте, а к пятидесяти годам выпустил большое количество книг с иллюстрациями, но все, что я создал до семидесяти лет, вообще не заслуживает упоминания. В возрасте 73 лет я в какой-то мере усвоил строение птиц, животных, насекомых и рыб, а также, как растут травы и деревья. Таким образом, к 80 годам объем моих знаний должен возрасти, к 90 я смогу проникнуть в тайну вещей и к 100 прикоснуться к состоянию божественности. Когда мне будет 110, все, что выйдет из-под моей руки, – точка или линия – будет выглядеть живо".
Хокусай не дожил до 110 лет, он умер в возрасте 89, так что, очевидно, ему не удалось достичь состояния божественности. Вообще, гениям не везет. Им никогда не удается достичь совершенства, они считают, что их вечный удел – неудачи, и умирают с горьким сознанием, что ничего не сделали. Подобно Ван-Гогу, чьими последними словами были: „Мука будет бесконечной". Или подобно бедному Хокусаю, который покинул этот мир, так и не успев проникнуть в тайну вещей.
Воистину, бедный Хокусай. Бедный и в переносном и в буквальном смысле слова, потому что всю жизнь одевался в лохмотья и утолял голод пригоршней риса, не мыслил ни о чем другом, кроме как об этом проклятом и божественном рисунке. „Старик, одержимый рисованием", – так подписывал он свои произведения. И для того, чтобы знать, что он является всего лишь человеком простого труда, чтобы его не путали с другими, жадными до денег и славы, он поставил перед своей дверью маленькую табличку с надписью „Хокусай, крестьянин".
Да уж, гиблое дело быть гением. Никогда и ни в чем им не везет. А нашему знакомому товарищу Такому-то счастье прямо в руки лезет. Он еще в младые лета постиг совершенство и отдает себе в этом отчет. По этой причине годы подряд он вообще не правит рукописей, убежден, что даже возможные ошибки в них несут на себе печать неповторимости. А что до некоторых мелких несоответствий, например, подобных тому, что в первой главе у героя каштановые волосы, а в третьей – русые, или что в одном месте его зовут Васко, а в другом – Венко, так для того и существуют корректоры…
Причем, ступив еще в самом начале на путь совершенства, товарищ Такой-то не будет топтаться на месте, он двинет вперед. Творческий портрет у него постепенно начнет раскручиваться с такой быстротой, что не будет поспевать пишущая машинка. Придется оставить печатание и перейти к диктовке. Полулежа на диване в своем кабинете и вперив задумчивый взор в потолок, точно туда, где слегка потрескалась штукатурка, – „надо на днях непременно вызвать маляра и устранить это безобразие" – через неравные интервалы писатель будет выдавливать из себя нетленные сентенции, в то время как стенографистка, устроившись за столом, аккуратно будет их записывать.
Как всякая нормальная женщина, стенографистка не сможет порой удержаться от того или иного неуместного замечания:
– Ваша последняя фраза изобилует вводными предложениями, а главного в ней нет.
– Ну и что, что нет? – отвечает автор. – Ежели нет, то сама добавишь. Ну вот, прервала мысль…
Закончив стенограмму, секретарша обязана превратить ее в печатный текст, а после еще и отнести рукопись в издательство. Но будучи нормальной женщиной, она порой задает совсем уж глупые вопросы:
– Вы просмотрите рукопись?
– Чего ее просматривать? – в свою очередь спрашивает писатель. – Чтобы исправить твои ошибки?
– Есть некоторые несоответствия… – сконфуженно замечает женщина.
– Например?
– В шестой главе, где Драганов умирает…
– Ну так что же? В жизни всякое бывает. Умирают люди…
– Только вот в эпилоге он почему-то заявляется на празднество.
– Значит, ты что-то перепутала. Раз умер, значит, умер. Выкинешь его из сцены празднества. Словно праздник не может пройти без него.
– Есть еще некоторые…
– Если есть – правь. Не мне тебя учить.
Он смотрит на нее с нескрываемым раздражением и добавляет:
– И смотри – через день-два чтоб было готово. В понедельник начинаем новый роман.
– Длинный будет?
– Нет, коротенький. Страниц на пятьдесят.
– Роман на пятьдесят страниц? – удивляется незадачливая женщина.
– Ну, это лишь связующие страницы. Для основной плоти используем три старых рассказа и одну повесть.
– Но ведь там разные имена у героев!
– Имена! – выдыхает с досадой писатель. – Имена ты и сама в силах изменить. Важен человек, а не его имя. Какая разница – назову я его Сулё или Пулё, это ведь все тот же тип мелкого собственника-приспособленца.
Разумеется, я не стоял со свечкой, когда товарищ Такой-то диктовал свои произведения, и с дорогой душой готов признать, что в вышеприведенных сведениях, полученных из вторых рук, допущено определенное сгущение красок. Однако сами произведения, изданные и переизданные, налицо, и они свидетельствуют сами за себя.
Подобно халтурщику-ремесленнику, который в изобилии штампует брак, маниакальный изготовитель стилистического ширпотреба совершенно не заботится об истинной цели творчества. Вселенная ярких видений уже давно погасла в его голове – если когда-нибудь она там существовала. Носить или не носить в себе такую Вселенную – это решать богу. Будет ли она диковиннее и богаче или же проще и беднее – тоже божья забота. Но вот вложить в нее необходимую выразительность и правдивость – тут уж забота твоя. И ошибка – если таковая имеется – тоже только твоя. Серая змея не падает с неба. Она – наше порождение.
* * *
Приближалось время обеда, и теоретически мой рабочий день уже начался, однако всего лишь теоретически, так как под моим окном дети затеяли игру в футбол, гоняя консервную банку, и их вопли вкупе с дребезжаньем жестяного мяча не давали мне сосредоточиться.
Итак, я покидаю свое рабочее место, подхожу к окну в надежде сосредоточиться и, в конце концов, после известных усилий достигаю этого состояния. Только, к сожалению, я сосредоточиваю свое внимание не на следующем пассаже своей книги, а на спортивных баталиях, разворачивающихся во дворе. Бесцельно и бессмысленно наблюдаю за происходящим, испытывая такое знакомое наслаждение – глазеть ради самого процесса. Точно как мой давнишний знакомец Васил.
– Чем занимаешься? – спрашивал я его отнюдь не потому, что меня заботили его занятия, а просто по инерции.
На что он неизменно отвечал:
– Удовлетворяю свое любопытство.
По моим сведениям, это и впрямь было единственным его занятием. Его любопытство было всесторонним и бескорыстным. Одинаковое наслаждение ему доставляло прослушивание симфонического концерта и наблюдение за уличной сварой. С одинаковым удовольствием он ходил в квартальный кинотеатр посмотреть фильм и в квартальную корчму полюбоваться очередной потасовкой. Ему было абсолютно безразлично, где проводить время – на выставке или в городском саду – и там, и здесь было на что поглазеть. А вечерами, добравшись наконец до своей студенческой квартиры, он раскрывал наугад один из томов словаря Ларусса и погружался в чтение. На этот словарь, купленный с рук, Васил пожертвовал все свои сбережения.
– Я не настолько богат, а тем более не настолько глуп, чтобы собирать библиотеку, – пояснял он. – На что мне библиотека, когда в этом словаре собрано пять тысяч книг. У тебя есть пять тысяч книг?
Приходилось признаваться, что таковых в наличии не имеется.
– Спроси меня о чем-нибудь, и сразу же получишь ответ, – продолжал Васил. – Хочешь знать, что такое казуар, сцинтилляция, эйдетизм, изогамия, доминат, – в момент тебе отвечу. А вот ответишь ли ты на все мои вопросы?
Я вынужден был признаваться, что вряд ли. „Надо описать этого типа, – думал я. – Он ведь тоже машина для прожигания времени". Он нашел себе самый дешевый источник наслаждений – глазеть по сторонам. И отдавался этому занятию с таким удовольствием, что его прозвали Василий Блаженный.
Пытаюсь припомнить некоторые эпизоды из жития Василия Блаженного, но безуспешно, так как дети внизу начинают драться. А точнее – бить одного мальчугана, самого хилого из ватаги. На голове у парнишки вязаная красная шапочка с кисточкой, вероятно, мать с неохотой отпустила его на улицу в такую холодную погоду, а теперь старшие лупят его по голове и гонят прочь, так как на две команды уже набралось народу, а от такого коротышки все равно мало проку.
Такое положение дел вынуждает меня высунуться из окна и уведомить спортсменов, что, если они не оставят ребенка в покое, мне придется спуститься вниз и выгнать всех со двора на улицу. Обычно я избегаю брать на себя полномочия судьи, но мальчик с красной кисточкой и глазами, полными слез, напомнил мне, что в молодые годы и мне случалось быть битым. И эти воспоминания отличаются такой четкостью, что я забываю о седине в волосах и вижу себя семилетним мальчиком, расхристанным и измазанным, уткнувшимся в колени матери, которая мокрым платком стирает грязь и слезы с моего лица. Стараюсь сдержать рыдания, но они рвутся наружу вместе с горьким ощущением несправедливости, и только лишь после того, как мама целует меня и гладит по волосам, я начинаю успокаиваться.








