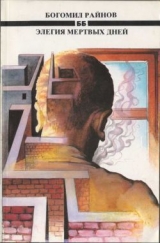
Текст книги "Элегия мертвых дней"
Автор книги: Богомил Райнов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Постепенно я привык подсаживаться к нему поболтать, сталкиваясь с ним в казино, куда захаживал сыграть партию на бильярде, или в других местах, куда гнало безделье. Между нами даже возникло нечто вроде приятельства, правда, довольно прохладного. Во всяком случае моя неприязнь вполне рассеялась, потому как я установил, что Мишель отнюдь не мерзавец с тугой мошной, а просто напросто – „облако", как мы тогда прозвали фантазеров.
Приятельство наше не могло не отдавать холодком, так как он носил этот холодок в себе, причем не только сознавая это, но и гордясь этим. Холодом веяло от его светлых глаз, металлически серых, как зимнее море. Холодной была его белая холеная рука, которую он лениво протягивал для пожатия. Холодны были его манеры. Должны были пройти месяцы, чтобы мы с ним смогли перейти на „ты". Зато его житейское кредо стало известно мне во время второй или третьей нашей встречи.
Было воскресенье, мы сидели в пивной в парке, за столиком у самого озера. Еще стояла весна, дело было поутру, но солнце пекло вовсю, и потому нам доставило особое удовольствие пристроиться здесь, в тени высоких кленов, в окружении тихой зеленой воды и запотевших кружек с ледяным пивом.
Мы курили и лениво поглядывали на аллею у озера, где медленно развертывалось воскресное шествие разодетых обывателей.
– Воскресная прогулка… Новые шмотки… Букетик цветов для супруги… Мороженое для дитяти… И, разумеется, маска добропорядочности для окружающих… Надо уметь жить красиво!
– А что, разве это так плохо?
– Напротив. Но только не раз в неделю с десяти до двенадцати. И не только по воскресным дням. Ведь в остальное-то время вы можете наблюдать их расхристанными, несущимися по улице, толкущимися в трамваях, переругивающимися и злословящими, надрывающимися от работы или умирающими от скуки. И никому из всей этой толпы даже не придет в голову, что для того, чтобы жить красиво, надо проживать красиво каждый божий день, мастерски его отделывать, оттачивать, отшлифовывать, как ювелир шлифует драгоценный камень.
– А вы поступаете именно так? – полюбопытствовал я.
– По крайней мере пытаюсь, – скромно ответил Мишель.
– И действуете спонтанно? Или же придерживаетесь некоего рецепта?
– По сути дела, у меня два учителя – Оскар Уайльд и Бобби Савов. Но оба уже покойники.
Я снова почувствовал себя неловко, оттого что был знаком лишь с одним из этих великих людей. И только я решился осведомиться по поводу второго, как Мишель продолжил:
– В сущности, рецепт прост: гармония, мера, равновесие. Однако создается такое впечатление, будто человек зарекся жить не по этому рецепту, а вопреки ему. Если он не истерик, то непременно раскиснет в летаргии. Если не нахал, то расстелится в раболепии. Если от него воняет не грязным бельем, то уж обязательно парфюмерным магазином. Гармония его утомляет. Ему не только не хватает ни сил, ни ума, чтобы достичь ее, но даже когда она сама плывет ему в руки, он спешит оттолкнуть ее, потому как не привык к ней, потому как она для него равносильна болезни. Разве не так?
– Почем мне знать. Во всяком случае красота – вещь довольно дорогая. И чему удивляться, если не каждый может себе позволить купить ее.
Он поглядел на меня, затем положил руки на стол и промолвил:
– Видите эти два перстня: какой из них вам больше по вкусу?
На его левой руке красовался старинный серебряный перстень с красным агатом в оправе с изящными орнаментами. На камне был тонко выгравирован портрет римской богини или кого-то из дам подобного круга. Перстень на правой руке был массивный, из золота, строгий по форме, с крупным зеленым топазом. Я в жизни своей никогда не имел касательства ни к перстням вообще, ни к этим двум в частности, и потому ответил дипломатично:
– Оба хороши.
– Я знаю, что ничего сверхъестественного они собой не представляют. Фамильная память, ничего больше. Но мысль моя о другом. Вы сказали: „Оба хороши". Но при этом один как материал не стоит ни гроша, другой же, напротив, стоит немалых денег. Следовательно, красота не зависит от цены.
– Мне уже известно, что вы питаете пристрастие к удобным наглядным примерам, – промямлил я, машинально поднимая к губам кружку.
Однако она оказалась почти порожней. Я только успел оглядеться, как Мишель уже подал красноречивый знак официанту. Желая производить впечатление, Мишель испытывал потребность в широких жестах.
– Пристрастие к удобным примерам? – процедил он. – Удобным для чего? Для отрицания очевидного? Не имею ни малейшего намерения отрицать очевидное. Знаю, что этот презренный металл – деньги – тоже немаловажная штука. Знаю, что – как бы грубо это ни звучало – эти жирные вонючие бумажки порой образуют некую связь с красотой.
Казалось, он был достаточно чувствителен к запахам, так как всегда, когда давал какую-либо отрицательную характеристику, прибегал в ней именно к таким сравнениям.
Официант принес две запотевшие кружки с переливающейся через край пеной, поставил их на стол и удалился. Мишель небрежно отодвинул свою кружку подальше от края стола – предусмотрительный жест, чтобы невзначай не испачкать рукав. Мой знакомый владел целой системой подобных предусмотрительных или даже расчетливых жестов, но они сочетались у него с такой непринужденностью, что это не бросалось в глаза. Сидя, закинув ногу на ногу, он автоматически и словно по часам менял их местами, дабы брюки не успели помяться. По тем же соображениям прежде, чем есть, он всегда слегка подтягивал штанины, а прежде, чем облокотиться, проделывал подобную операцию с рукавами. Другие неуловимые жесты служили ему для того, чтобы поправить галстук или пригладить волосы, при этом мимоходом продемонстрировать дорогие часы с браслетом и золотые запонки в манжетах. Но, на первый взгляд, все проделывалось так непринужденно, что даже не привлекало внимания.
– Имея в своем распоряжении дорогое авто, человек, разумеется, может жить красивее… – продолжил Мишель, отпив глоток пива. – И не только потому, что автомобиль красив, а из-за того, что он предохраняет от мерзости, толчеи и грязи. И шикарная собственная квартира, естественно, предлагает больше красоты по сравнению с дешевой комнатушкой с крикливой хозяйкой и кухонными запахами. Хотя это вполне элементарные вещи, и они отнюдь не доказывают, что красота покупается за деньги. Можно заполучить красоту по довольно скромной цене, а можно иметь мешок с банкнотами, но красота будет от тебя так же далека, как Полярная звезда.
– Не могли бы вы и на этот случай привести какой-нибудь подходящий пример? – спросил я, так как в те годы был таким задирой, что, даже желая соблюсти любезность, не мог до конца удержать равновесие на канате светской учтивости.
– Почему бы нет! – ответил Мишель, не чувствуя себя задетым. – Пример готов: мой покойный учитель Бобби Савов.
„Наконец-то добрались и до сего знатного мужа", – отметил я про себя и приложился к кружке.
– Я говорю о нем как о покойном в роли моего учителя, а как человек он жив и здоров, – пояснил мой собеседник. – Это Бобби дал мне почитать „Портрет Дориана Грея". От Бобби я узнал, что значит – жить красиво. А потом он умер.
– В смысле?
– В том смысле, что женился.
– От такого происшествия никто не застрахован.
– Женился на богатой, – уточнил Мишель. – И тесть взял его в долю. Тут-то Бобби так загорелся возможностью грабастать денежки, нашаривать эти грязные и вонючие бумажки, что забыл обо всем на свете, в том числе и о красоте. Я его еще иногда встречаю, только о красоте мы больше не говорим. Случайно сталкиваемся в каком-нибудь банке, куда мне приходится заглядывать по службе. Перебрасываемся двумя-тремя словами, не больше, так как он всегда спешит. Он безразличен ко всему за исключением сделок, поэтому всегда спешит. Одет черт знает во что, потому как всегда спешит. Случись ему повстречаться с красотой на пути, перескочит и не заметит, потому как всегда спешит.
Мишель достал сигарету, внимательно осмотрел ее, словно пытаясь определить, сигарета ли это на самом деле или какой иной зверь, затем тренированным элегантным жестом воткнул ее в угол рта и щелкнул массивной серебряной зажигалкой. Выпустив через нос две длинные струи дыма, снова оглядел сигарету и заметил:
– Справедливости ради следует отметить, что я наблюдал его и в лучшей форме. Например, на весенних балах. Смокинг и все, что полагается. Почти как прежний Бобби. Прежний, да не совсем. Думаю, он являлся на балы, чтобы договариваться о сделках. Если же речь не касалась сделок, он, должно быть, ужасно скучал.
– Наверное, вывозил супругу…
– Совершенно верно. Маленькая жертва на семейный алтарь. Равно как и посещения „Юнион-клуба" и салонов столичной элиты. Не говоря уже о приемах, которые он вынужден давать.
– Вы бывали в числе приглашенных?
– Честно говоря, однажды посчастливилось. Это было давно, в самом начале.
Мишель бросил на меня беглый взгляд холодных серых глаз.
– Но, к вашему сведению, я не пошел.
Возможно, он был и франтом, и позером, но в отсутствии самоконтроля его нельзя было упрекнуть. И чтобы окончательно уверить меня в этом, он добавил:
– Вообще-то вы не думайте, что я объявил его покойником за то, что он не ввел меня в высший свет.
– Неужели там не водится красота? – невинно подхватил я.
– Может, и водится для тех, кто чувствует себя там, как дома. Я полагаю, что море очень красиво для рыб, но если вы кинете в волны курицу, она будет иметь по этому вопросу иное мнение. У меня нет ни малейшего желания чувствовать себя курицей, барахтающейся в волнах. Или, если желаете, парией в компании богатых парвеню. Ох уж эта аристократия разжиревших выскочек, от которых разит парикмахерской, заглушающей вонь грязного белья. И все снедаемы подозрением, что вы пришли с целью умыкнуть у них портфель либо дочку, что, собственно, для них одинаково дорого.
„Значит, все-таки хоть раз, но воспользовался приглашением", – подумал я про себя. И чтобы скрыть возникшее подозрение, снова приложился к кружке.
– Беда некоторых людей, – продолжал Мишель, – именно в этом: они воображают, что красоту следует искать в каком-то высшем мире. Высшем свете. Или небесном раю. А искусство заключается в том, чтобы найти ее в этом мире. Сделать красивым каждый свой день…
– …Подобно драгоценной безделушке, – подсказал я.
– Да-да, – кивнул он. – Подобно маленькой драгоценной безделушке, которая, чтобы быть красивой, не обязательно должна быть сделана из чистого золота.
Позднее, с течением времени, мне удалось установить, что свои драгоценные безделушки он создавал весьма банальным способом. Работа в фирме не обременяла его настолько, чтобы быть ему в тягость, а свободного времени было не так много, чтобы скучать. Он заполнял день по принципу „всего понемножку": партия на бильярде, чашка кофе в „Савойе" или „Софии", встреча с одним знакомым или приятельницей, рюмка перед обедом и послеобеденный бокал вина, голливудский фильм или нашумевшая пьеса, прогулка до парка и обратно, консультация с сапожником или портным, мимолетный визит в тот или иной магазин по поводу сорочек и галстуков и ко всем этим мелким удовольствиям – большая радость быть хорошо одетым, виртуозно демонстрировать элегантные манеры, призванные, помимо прочего, не допустить, чтобы костюм излишне помялся. Что же касается свободных вечеров, то они были предусмотрительно подстрахованы уютом удобной холостяцкой квартиры, граммофоном и книгами Оскара Уайльда. Только Оскара Уайльда. Ведь Бобби Савов не оставил в наследство литературных памятников.
Было начало 1942 года – та мерзкая зима, когда фашисты еще твердо верили, что Россия у них в кармане, несмотря на то, что гитлеровские армии уже понесли первые колоссальные потери под Москвой. Однажды вечером, запомнившимся мне прежде всего морозным ветром, случай столкнул меня на улице с приятелем, который только что вернулся из провинции. Будет точнее сказать – не вернулся, а сбежал: в родном городе случился провал и мой знакомый решил, дабы не испытывать судьбу, намылиться в столицу.
– Можешь приютить меня на денек-другой у себя? – спросил знакомый, кутаясь в тонкий плащ.
– Исключено. Я сам не ночую дома. Разругался со стариком, – ответил я и в свою очередь поплотнее завернулся в свой потертый макинтош.
– Ну, все-таки ты где-то ночуешь…
– У брата. Но там тебя пристроить не могу. Исключено. Он живет у тестя.
Мы завернули за дощатый забор, чтобы укрыться от леденящих порывов ветра, и принялись обмозговывать ситуацию. После долгих прикидок выбрали три адреса. И потащились в неизвестность.
В двух местах установили, что мои знакомые отсутствуют. Ничего удивительного – они тоже были ребятами из провинции и на праздники отправлялись по домам. По третьему адресу нас тоже отказались принять. И это было вполне естественно. Особенно в ту мерзкую зиму сорок второго.
Мы снова оказались на улице, пронизываемые морозным вихрем, который, казалось, задался целью раскромсать наши жалкие одежки. И пока мы оставались на распутье и переминались с ноги на ногу на заледеневшем тротуаре, я внезапно вспомнил о Мишеле. Связываться с Мишелем, конечно, было гиблым делом. Но как бы то ни было, это был последний шанс. Кроме того, я испытывал какое-то смутное и немного жестокое желание припереть к стенке его, этого поклонника красоты, который впадал в ужас при мысли, что кто-либо может повесить ему на шею свои заботы.
Хотя перевалило за полночь, но когда мы добрались до места, оказалось, что в окне Мишеля еще горит свет. Вероятно, по случаю рождественской недели. Или Мишель попросту никак не мог оторваться от романа Уайльда и афоризмов лорда Генри.
Хозяин принял нас в темно-синем шерстяном халате, с холодно-учтивым выражением на лице. Я ожидал, что он прямо на пороге примется выяснять причины нашего визита и, узнав, в чем дело, деликатно захлопнет дверь у нас перед носом. Вместо этого мы были приглашены в уютную однокомнатную квартирку и даже одарены стаканом вермута. Моя смутная надежда связывалась, разумеется, не с комнатой, а с находившейся рядом кухонькой, в которой стояла узкая кушетка. Выпив вермут, я выразил свою надежду вслух. Однако, как я и предполагал, Мишель возразил:
– На этой кушетке просто невозможно спать. И вообще, какая это кушетка? Это обычный пуфик для сиденья.
Я попытался убедить его в обратном. Обратил его внимание на хилое телосложение моего приятеля.
Высказал несколько похвальных слов в адрес школы стоиков. Припомнил, какие достойные люди воспитывали в себе привычку спать даже на гвоздях. В конце концов, к моему глубочайшему удивлению, Мишель капитулировал.
– Вчера ты поступил не больно красиво, – заметил он на следующий день, когда мы встретились в „Кристалле". – Следовало бы меня предупредить.
Мы были уже давно на „ты".
– Прости, но у меня не было другого выхода.
– Впредь прошу не подсовывать мне разных там подпольщиков.
– Он не подпольщик.
– Знаю я, кто он такой. Он же из моего родного города.
– И что же? Ты его выгнал?
– Да как я мог его выгнать! Было бы слишком грубо… После того, как я его приютил…
– Почему же ты его приютил?
Он пожал плечами.
– Откуда мне знать, почему? Должно быть, потому что вы пришли совсем окоченевшие. Или из-за того, что припомнилась одна сказка Уайльда, моего учителя.
– Какая сказка?
– Есть такая сказка о Великане-эгоисте. Ты не читал? Я не хочу сказать, что считаю себя великаном, но тем не менее не желаю прослыть эгоистом.
Мой знакомый прожил у Мишеля целый месяц, пока наконец не отыскал себе другое пристанище. Я допускал, что это вынужденное сожительство порядком нарушало привычное расписание дня поклонника красоты. Но даже если дело обстояло так, тот ни разу не выразил своего неудовольствия.
Позднее я потерял его из виду. Как я понял, он пристроился на работу в своем родном городе. И следующая наша встреча произошла именно в его родном городе сразу после войны.
Я был приглашен туда выступить с каким-то докладом. После выступления в группе местных знакомых, ожидавших меня у выхода, я узрел Мишеля. Он, как мне показалось, совсем не изменился, выглядел так, словно мы расстались вчера, а не пять лет тому назад. Та же скромно элегантная внешность, то же бледное лицо, тот же безучастный взгляд светлых глаз, серых и холодных, как зимнее море.
Пока я перебрасывался фразами со знакомыми, он, улучив момент, полушепотом сказал:
– Пошли ко мне… Если ты не договорился с кем-то другим…
Кажется, это происходило в начале июня. Когда мы вышли на улицу, было еще светло и воздух в этом ужасно жарком и пыльном городе только начинал остывать.
– Надеюсь, ты не будешь сердиться, если мы на минутку заскочим в редакцию? Правда, буквально на минутку.
– В какую редакцию?
– Ну… я теперь журналист… – пробормотал он с некоторым смущением, будто признавался в каком-то прегрешении.
– Э, значит, я был прав. Помнишь, я тебя спрашивал, не пописываешь ли?
– Тогда я действительно ничего не писал.
– А когда начал?
– Ну, вскоре после Девятого сентября. Прижал меня этот, твой знакомый, то есть наш знакомый, который жил у меня. Прижал меня сразу после Девятого.
В редакции мы установили две вещи: что главным редактором был сам Мишель и что обещанная минутка вряд ли не растянется на добрые часы. Помимо того, что следовало просмотреть уже набранные три полосы, надо было еще выбросить передовую статью и найти ей замену.
Я пытался справиться с жарой с помощью теплого лимонада из анилиновых красителей и сахарина и краем глаза наблюдал, как он строчит на машинке, зажав сигарету в зубах и морщась от дыма. Все-таки он изменился. Лишь костюм был прежний, то есть это был один из тех костюмов, которые он носил пять лет назад, – костюм хоть и не первой молодости, но безупречной чистоты. Рубашка тоже вряд ли была куплена в последние годы, да, пожалуй, и галстук тоже. Вообще, на всем его облике лежал легкий отпечаток поношенности, в частности и на бледном лице, приобретшем едва уловимый оттенок озабоченности или же просто утратившем беззаботное выражение.
Когда наконец мы снова вышли на улицу, уже смеркалось и чувствовалось дыхание прохлады.
– Чуть не забыл о вине, – спохватился Мишель, когда мы поравнялись с каким-то заведением. – Надо прикупить винца.
– Что, в библиотеке уже не держишь? – спросил я, когда дело было сделано.
– Зачем мне? Один я не пью, женщин не приглашаю…
– И с женщинами ни-ни?
– Куда там, ведь я женат.
– Остепенился, женился… Должно быть, уже и деток завел?
– Пока что одного, – скромно признался Мишель. – Годовалый. Однако есть предчувствие, что пополнение не заставит себя ждать.
Его жена встретила нас радушно, но особо тратить на нас время позволить себе не могла, поскольку как раз в тот момент переодевала ребенка. Если судить по ее виду, она вряд ли успела окончить гимназию или же только теперь готовилась к этому важному событию. Что не мешало ей заниматься хозяйством с особой сосредоточенностью и серьезностью, и это было вполне объяснимо, если принять во внимание, что единственная комната была набита мебелью, домашней утварью, развешенным на веревках бельем, не говоря уже о наследнике, который верещал, катаясь по постели.
– Давай перейдем в кабинет… – пригласил меня Мишель.
Кабинет оказался кухонькой, в которой, словно в каком-то сюрреалистическом кошмаре, ночные горшки и утварь перемежались солидными научными томами, а на столе рядом с пишущей машинкой смиренно покоилась связка репчатого лука.
Спустя два часа или, говоря профессиональным языком, после двух бутылок, поджаренные на скорую руку отбивные были проглочены, супруга-гимназистка удалилась в спальню, малыш перестал верещать, и мы с Мишелем остались одни с воспоминаниями.
– Перебирайся на лавку, – предложил он. – Там пошире. Чего в этой кухне только нет…
– Красоты нет, твоей красоты, – следуя его совету, пробормотал я. – Эх, Мишель, Мишель!..
– Верно, ты прав, – согласился хозяин. – Но самое странное, что я даже не вспоминаю о ней. Так меня захватила работа… Сначала я думал, что это на месяц-два, пока они не найдут другого человека. А потом меня так затянуло…
– Нет здесь и места для Оскара Уайльда, – продолжил я свои подначки, обводя взглядом тома на противоположной полке.
– Не может не быть. Наверное, завалился куда-то. Хотя правда – он несколько лет не попадался мне на глаза.
– Э, как же так?.. Настольная книга…
– Я эту настольную книгу и так знаю наизусть.
Он положил локти на стол, прихватил пальцами края жилетки, зажмурил глаза и принялся декламировать:
– Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.
„Вот почему он так ненавидит дурные запахи – воспитывался на подобных ароматных образах", – пронеслось у меня в голове, пока я слушал. Только вот на кухне, в которой звучали слова Уайльда, пахло, увы, не сиренью, а подгоревшим мясом.
– Да, выучил я наизусть свою настольную книгу, – пробормотал Мишель. – К сожалению, это единственное, что я выучил. А сейчас, на старости лет, приходится зубрить и другое: курс истории партии, диамат, политэкономию… Вон, гляди!..
Небрежным жестом он указал на разбросанные повсюду тома.
Я смотрел. И я видел. В первую очередь это бледное, немного уставшее лицо с повисшей в углу рта сигаретой. Чего-то мне не хватало в этом лице. Чего-то, к чему я привык. И должно было пройти достаточно времени, чтобы я понял, что на нем не было маски. Маски аристократической безучастности. Заученного выражения гармоничного спокойствия.
– Нет, конечно, кое-что я читал, но это кое-что – всего лишь статистические справочники, старые энциклопедии, руководства по свиноводству, телефонные указатели, за десять лет все же мог бы чему-то научиться, что сейчас помогло бы мне в работе… – рассуждал Мишель вслух. – А я изучал движение бильярдных шаров… проверял жизненные принципы Бобби Савова…
– Это его открытие – насчет того, что каждый божий день нужно превращать в драгоценную безделушку?
– А ты как думаешь?
Он вынул из угла рта догорающий окурок, чтобы освободить место для новой сигареты. Затем снова оперся о стол и засунул руки в карманы жилетки.
– Драгоценности… Тлен… Знаешь, о чем мне напомнила эта коллекция драгоценностей?
– О сокровище инков?
– Напомнила об одном приятеле детских лет. Он любил лениво пройтись со своим ружьишком по леску на холме, лениво растянуться под деревом и лениво выжидать, пока где-нибудь поблизости не усядется какая птичка. И когда птичка появлялась, он поднимал ружьишко и стрелял, не задумываясь, в кого палит – в воробья, трясогузку или соловья. Проку от этих птичек не было никакого, даже поживиться было нечем. Какое тут мясо – крошечные скелетики, завернутые в перышки. Но он нанизывал их на веревку, подвешивал на пояс и с таким украшением гордо шагал по улице, чтобы весь квартал видел, какой великий охотник возвращается с добычей. Живые, милые и симпатичные птички, такие же милые и симпатичные, как сама жизнь, превращались в съежившиеся окровавленные тушки, болтающиеся на веревке…
Мишель наклонился вперед, почти лег на стол и сложил руки, как будто прицеливаясь.
– Вот и я так: бах! Прикончил и этот день. Бах! Прикончил и следующий. Бах, бах, бах! А вот и неделя готова… Драгоценности? Где они? Куда исчезли? Что с ними сталось?
– „Увы, где прошлогодний снег?.." – решил я ему подсобить цитатой.
– Да, прошлогодний снег… Сокровище инков… А на старости лет приходится бегать на всякие курсы.
Я слушал его и сочувствовал. Тогда я был еще достаточно самонадеян, чтобы сообразить, что следовало бы посочувствовать себе самому. Даже себе в большей степени, чем ему. В сущности, он решил свою задачу, и сейчас его ничто не могло испугать, разве что эти курсы. И в редакционном шуме и заботах, и в захламленной комнате, где на голову ему капало столько что выстиранных пеленок, среди суетливого мельтешенья хозяйки-гимназистки и кучи книг, и связок лука, и стука пишущей машинки он был по-своему счастлив. Раз он не рвался к другому счастью, значит, по-своему был счастлив. И даже по-своему достиг красоты. Не той, стерильно чистой и аристократически благоуханной, а иной, живой и человеческой, в которую порой может проникнуть запах супа и в которой может прозвучать детский плач.
* * *
– На сколько получился доклад? – проревел в трубке голос ректора.
– На тридцать страниц.
– Ну ты даешь – накатал целую монографию! – еще более приятно прогудело в трубке.
– Так уж и монографию…
– Добро, ждем тебя в два часа.
Я положил трубку и направился в ванную бриться, так как до двух часов оставалось не так уж много времени. В зеркале обнаружил отражение еще молодого, но уже утомленного лица, чьи особые приметы, помимо крупного носа и взлохмаченных волос, исчерпывались трехдневной щетиной и покрасневшими от бессонницы глазами.
Писать пришлось по ночам, так как дни были заняты работой – беготней по редакциям, лекциями, совещаниями и встречами с друзьями. Писал по ночам, с увлечением, засиживаясь до рассвета, но времени все равно не хватало, и оказывалось, что с очередной темой едва-едва укладываюсь в срок.
Писал, читал лекции в двух институтах, бегал с места на место выступать с докладами, публиковал статьи, участвовал в заседаниях жюри, обсуждениях, собраниях и невольно, не без некоторого удовольствия, поражался собственной работоспособности.
Мертвые дни остались в прошлом. И когда порой, между двумя фразами очередного доклада, я бросал взгляд назад, меня охватывал не только страх перед этими мертвыми днями, но и радостная дрожь оттого, что они канули в Лету. Мне казалось просто невероятным, что я мог себе позволить так легкомысленно разгуливать по краю пропасти. Заглядывая в бездны алкоголизма. Или балансируя на краю бездны отчаяния.
Прежние его приступы казались мне сейчас лишь обычным малодушием. С дистанции вещи всегда кажутся мельче. Важно иметь возможность удалиться на достаточное расстояние, но только так, чтобы не сверзиться в бездну.
Обычно я приходил в отчаяние от себя самого. Но последний раз причиной послужило то, что меня окружало, – пустота и безысходность. Они явились тут как тут после мощной бомбежки десятого января. Я ощутил себя в этом разрушенном городе без опоры и без гроша в кармане, в ссоре со стариком, в разрыве с родителями жены и с нечистой совестью, с мыслями, что я и ее увлек на стезю беспутья. Сели мы однажды вечером в какой-то набитый до отказа поезд, который неизвестно когда отходил и неизвестно куда направлялся. Так началась наша сумасшедшая одиссея, описание которой, поистине, могло вылиться в одну, как выразился ректор, монографию, но, увы, монографию, не представлявшую ровно никакой ценности даже для потерпевших.
Я употребил все свои скудные связи в провинции, дабы притулиться где-нибудь, но напарывался либо на насмешку, либо на сочувственный отказ. Так что когда, наконец, скитания завершились возвращением и временным приютом на одном чердаке в окрестностях Софии, я ощутил не облегчение, а полную безнадежность. Горизонт скрыла непроглядная темень. Вокруг, куда ни бросишь взгляд, зияла пустота. Друзья-товарищи запропастились бог знает куда. А поэзия… Поэзия была давно в забвенье.
Впрочем, забвенье было не полным. Я написал предсмертное стихотворное послание. Реквием состоял всего из двух четверостиший, так что не составляло труда записать его мелкими буквами на папиросной бумаге и спрятать в миниатюрный пакетик, в котором хранят порошок от головной боли. Его же я засунул в маленькую коробочку и спрятал в карман. Теперь я был готов отправиться в путь. Это и успокоило меня.
Так успокоило, что на следующий день я решил повременить с путешествием в мир иной. А всем известно, что если откладывать назавтра то, что нужно сделать сегодня, шансы совершить задуманное значительно падают. Но я продолжал таскать с собой свое предсмертное послание, и это плодотворно отражалось на моем самочувствии. Я ощущал себя полностью подготовленным к последнему рейсу. Помню, что разорвал послание как-то поутру, значительно позднее, после того, как вечером под влиянием голой логики едва не поддался искушению поделиться своим секретом с двумя друзьями. Вытащить на свет божий предсмертное стихотворение означало либо сопроводить его соответствующим действием, либо стать посмешищем. В тот момент ни та, ни другая возможность особо не привлекали меня. Так что послание было разорвано в клочки.
Да, все эти кризисы времен созревания бесповоротно ушли в прошлое. Ныне я уже спокойно и уверенно плескался в глубоких и быстрых водах духовного творчества. Разумеется, я осознавал, что мое творчество не соответствует высшим меркам. Моя одержимость, насколько она была мне свойственна, опиралась не на уже созданное, а на то, что мне еще предстояло создать.
„То, что я пишу, может оказаться не бог весть чем, но, как бы то ни было, я делаю дело, думал я. Принять во внимание хотя бы количество… Хоть что-то…"
Количество и впрямь было внушительным. Для пущей убедительности я собирал все свои публикации в газетах и журналах, в отдельных папках хранил рукописи докладов. Сотни очерков, репортажей, юмористических рассказов, фельетонов… Много лет спустя я ухитрился расстаться с этим заботливо подобранным архивом так же, как и с кучей других бумаг, благодаря кампании по сбору макулатуры в нашем квартале.
Хилая уловка. Написанное однажды уже не сотрешь. Читатель еще может воспользоваться ластиком забвения, но тому, кто писал все это, не стоит и пытаться. Когда я оглядываюсь назад, перед глазами встает один и тот же неприглядный пейзаж. Вижу ряды чахлых насаждений вокруг голых, уродливых обломков мертвых дней. Чахлые насаждения, почти все с ржавыми скрюченными ветками, никак не принимались. И там, среди корней этой высохшей растительности, ползла и извивалась какая-то гадкая тварь. Серая змея.
Серая змея. Так древние именовали небрежность. Лишь бы побыстрее выполнить работу, тяп-ляп. Даже не выполнить, а отделаться от нее, выбросить из головы. О чем тут раздумывать? В следующий раз будет легче. Шагай, не задерживайся!
Вот и шагаешь по скучному и неприветливому большаку небрежности, хорошо утрамбованному тысячами ног, ведь по нему прошли тысячи других, тысячи молодых неразборчивых нерях, считавших, что жизнь – это состязание в скорости и что позднее, со временем, когда придет опыт, работа заспорится. Но и потом редко случалось, что работа спорилась, несмотря на опыт и на время. Потому что ступившему раз на этот тоскливый и прямой большак небрежности трудно свернуть с него. Да и в кого с годами может превратиться молодой неряха, кроме как в старого неряху!




